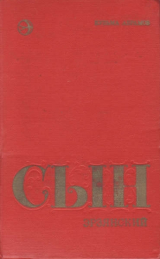
Текст книги "Сын эрзянский. Книга вторая"
Автор книги: Кузьма Абрамов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц)
Запинаясь, еле волоча ноги, он вышел на волю. Резкий холодный ветер гнал по улице вороха палых листьев, они с лету влипали в большие лужи, но ветер новым порывом выдирал их и волок дальше, точно хотел насладиться своей властью, не ведая того, что листья уже мертвы и им все безразлично теперь – лежать ли грязной кучей, носиться ли по земле.
Ветер басовито гудел, и в высокой колокольне, в большом зеленом колоколе, веревку от языка откидывало ветром, и она извивалась, как живая. И, как живые, гнулись под ветром голые корявые ветви черных лип...
Через улицу, навалясь на ветер и держась за шапки, шли к собору два парня. Степану даже показалось, что они топчутся на одном месте.
Он вернулся в собор. Ковалинский все еще сидел у печки – бледный, с запавшими глазами, со свалявшейся, отросшей, давно не чесанной бородой.
– Давай, Степан, вставим в иконостас Екатерину да будем убирать леса, – сказал он.
– Давай, – вяло отозвался Степан. Душная, вязкая теплота собора, запах краски, скипидара, все эти голубые своды, лики опять каким-то обвалом начинали давить на него, и перед глазами все тихо качалось и плыло.
– Полезай, – сказал Петр Андреевич, – ты половчее и полегче...
Тут вошли в собор два парня, которых видел Степан, стащили шапки, перекрестились, озираясь.
– Ага! – сказал Петр Андреевич. – Пришли леса убирать?
– Да, – ответили парни вразнобой.
– Это хорошо, сейчас начнете. Вот Степан поставит, и начнете.
Степан взял Екатерину за петлю, которая была на планке с тыльной стороны доски, и полез. Леса заходили ходуном, тонкие тесины гнулись под ногами. Но он как бы не чувствовал опасности и карабкался с яруса на ярус, привычно перехватываясь рукой, а Петр Андреевич снизу покрикивал:
– Осторожней! Осторожней, не поцарапай!.. – И голос его долетал как будто из глубокой пропасти.
Наконец Степан добрался до места. Пустое окно иконостаса зияло страшной темной дырой, и, отпустившись рукой от жердины, Степан поднял доску и приладил ее на место. Икона встала точно, заслонив страшную дыру, и Степан перевел дух.
Зыбко ходили под ногами многоярусные леса, и когда Степан поглядел вниз, у него занялся дух от высоты.
– Слезай! – скомандовал Ковалинский.
Степан отпустился от жердины, и в этот же миг тесина под ним колебнулась и пошла вниз. И сам он, точно безвольный осенний лист, среди треска и грома рушившихся лесов полетел, теряя сознание, в пропасть.
Степан очнулся, когда страшно бледный Ковалинский и двое парней вытаскивали его из вороха жердей и тесин.
– Живой! – вскрикнул Петр Андреевич. – Слава богу, живой!..
Степана положили к печке на солому. Ковалинский совал ему в рот кружку с водой и спрашивал, где болит. Но у Степана ничего не болело, он даже не чувствовал ссадины на лбу. Он улыбнулся.
И парни, стоявшие рядом, тоже заулыбались. Но Ковалинский приказал им вытаскивать из собора жерди и разбирать леса возле стен.
– Работайте, нечего глазеть! – строго сказал он.
Степан не заметил, как уснул, и сон его за многие дни был впервые глубокий и спокойный.
Долго ли проспал Степан, он не знал. Пробудился от странного громкого и веселого смеха. Ковалинского рядом не было, но те два парня стояли у свода, уже свободного от лесов, и, показывая друг другу на фарисея и мытаря, гоготали во все горло. Откуда-то прибежал Ковалинский.
– Чего ржете, дурни! – спросил он.
Они показали ему на картину.
– Ну и что? Чего тут сменного? Два грешника пришли в храм божий... – Петр Андреевич осекся, сжал губы и поглядел на Степана. Степан закрыл глаза. Конечно, он знал, над чем смеются парни и отчего строгим стал Ковалинский – он фарисею написал лицо здешнего настоятеля; а мытарю – соборного старосты. Это было еще давно, сразу после ухода Никоныча, да и вышло как-то нечаянно: самодовольное, властное лицо настоятеля так назойливо лезло в глаза Степану, что он не мог от него отвязаться, а как написал, сразу как будто от тяжелой ноши освободился. А старосту написал уже так, за компанию, ведь они всегда вместе приходили сюда надзирать за ними.
– Ну вот что, ребята, – услышал Степан голос Ковалинского, – вы молчите, и никто на это сходство внимания не обратит. Да, впрочем, и нет сходства, это вам показалось...
Но парни в простодушном изумлении стояли на своем:
– Чего там – никто не обратит! Как только увидят, сразу узнают!..
– Весь Арск обхохочется, – заявил другой, и опять захохотали:
– Ну, после узнают, ладно, лишь бы освящение прошло, – сказал Ковалинский.
– Право слово, и в зеркале они себя так не увидят, как на этой картине...
Они обещали никому об этом не говорить. Ковалинский дал им на водку, и парни ушли из собора прямо в трактир, хохоча по дороге.
Но дело открылось на другой же день – в собор явилось церковное начальство города во главе с казанским архиереем, приехавшим на освящение храма. И толпа была такая важная, такая строгая, что Степан затаился в углу и ждал. А солнце, как нарочно, ярким широким потоком лилось через окна, и фарисей с мытарем сияли во всей своей красе. Только сейчас, перед лицом грозных высших властей, Степан почувствовал истинную меру своей шалости и молил солнце, чтобы оно спряталось за тучу. Но солнце по-осеннему ярко и резко блистало в блеклой высокой синеве неба.
Начальство о чем-то одобрительно говорило в алтаре, но разобрать Степан не мог. Кажется, хвалили работу Ковалинского. Но вот из царских врат вышел архиерей – строгий толстолицый старик с маленькими глазками и белой, широкой, как лопата, бородой. За ним повалили толпой арские священники. Осматривали потолок, стены, иконостас, и арские поспешно кивали следом за одобрительным, но едва заметным кивком архиерея.
Но вот подошли к фарисею с мытарем. Напротив, на другом своде, был другой сюжет – неудавшееся осуждение грешницы Магдалины, и первым делом архиерей стал осматривать ее. Смотрел он долго, а вся его свита уже с каким-то страхом и недоумением озиралась на фарисея с мытарем. Настоятель со старостой стояли бледные, без кровинки в лице.
– Плотского, однако, многовато, – пробасил архиерей, взмахивая рукой на Магдалину. – Многовато, говорю, плотского... – И поскольку никто не поддакнул, он оборотился и, увидев странные лица своего притча, спросил: – Что такое?
– А вот глядим, – угодливо хихикнул кто-то в толпе.
– Ну и что?
Вместо ответа толпа расступилась, освобождая для глаз архиерея настоятеля и старосту. И тот, взглянув несколько раз то на роспись, то на бледных, растерянных «натурщиков», взревел вдруг грозно:
– Это кто посмел богохульствовать?!
– Недоглядел, батюшка, виноват, – забормотал Петр Андреевич, выступая вперед. – Недоглядел, сейчас перепишу...
– Кто, говорю, писал? – гремел архиерей.
– Мастер мой писал, молодой еще... Извини, батюшка, недоглядел, спешил...
– Где этот мастер?
Ковалинский оглянулся, но не увидел Степана и позвал:
– Степан!
Степан выступил из-за печки.
– Ты писал?
Степан стоял, не поднимая глаз.
– Богохульник! – загремел архиерей. – Как посмел, негодник? Да знаешь ли ты, к каким святыням допущен!..
– Извини, батюшка, немедленно перепишу, дозволь... – торопливо говорил Петр Андреевич. – Извини, спешили...
– И это твоя работа? – кричал во гневе архиерей, показывая на Магдалину. – Святотатец!..
– Перепишу, батюшка, перепишу...
– Переписать! Немедля! – распорядился архиерей и пошел прочь из собора. – А этого мастера – взять на контроль, – сказал он кому-то в дверях.
В соборе наступила угнетающая тишина. И вдруг в этой тишине прошептал, как больной, Ковалинский:
– Уйди с моих глаз...
14
Зиму Ковалинский и Степан прожили дома, выполняя мелкие и случайные заказы. Заказчиками чаще всего были приезжавшие по своим делам купцы, торгующие иконами. Сам Ковалинский не торговал иконами и считал это занятие ниже достоинства живописца. Они со Степаном писали, сидя за большим столом. По воскресеньям отдыхали. По праздникам Ковалинский вместе с женой иногда уходили в гости. Чаще всего они бывали у священника покровской церкви, живущего неподалеку от них. Гости приходили и к Ковалинским. Тот же поп со своей попадьей и еще учитель Ксениинской гимназии, в которую четыре года ходила Анюся.
Гости Ковалинского обычно весь вечер пили чай и играли в карты – «в дурачка». Играть в карты иногда приглашали и Степана. Степан не любил картежную игру за то, что надо было сидеть за столом в этой чинной компании, где особенно любили поговорить о воспитании детей и при этом почему-то поглядывали на него, Степана, так это ему казалось, будто все, что они так осуждают, относится к нему. И он сидел всегда насупившись, молчал, прятал под стол руки. Почему-то учитель с попом были настроены к нему враждебно, он чувствовал в их словах какие-то тайные уколы, скрытое издевательство, однако Варвара Сергеевна все умела обернуть в шутку, а всякое Степаново непреклонное намерение встать и уйти разрушала быстрым и нежным прикосновением.
– Ну, дружок, не сердись, раздай за меня карты, сделай одолжение!.. – говорила она с милой, ласковой улыбкой и трогала его руку мягкими белыми пальцами. И у Степана не хватало духу встать и уйти – он сдавал карты, играл и вынужден был слушать новые нравоучения.
Учитель гимназии был холостяк, хотя лет ему уже около сорока. На вопрос попа, почему он так долго не женится, он обычно игриво отвечал, что его невеста еще не подросла. Степан всегда замечал, какими маслеными глазками он поглядывает на женщин, не пропуская даже Фросю. А Анюсю называл Нюнечкой.
В мастерской у Степана стоит настоящая кровать – железная, матрас застелен чистой белой простыней, теплое ватное одеяло с пододеяльником и две подушки. Когда он ложится, всякий раз вспоминает, как спал в Баевке – на полатях, на старом рванье, укрываясь лоскутным истертым одеялом. А то еще вспомнится, как у Иванцова спал за печкой возле поросят. И с таким наслаждением он вытянется на чистых простынях! Улыбается, вспоминает отца с матерью, и Дёлю, и Алатырь... И так захочется туда – посмотреть хоть одним глазком на всех!.. Да уж и есть ли на свете и Баевка, и Алатырь? Не приснилось ли ему все это?! Порой Степану казалось, что все, что было с ним до Казани, сон, ненастоящее, какое-то забвение, а вовсе не жизнь. Жизнь, настоящая жизнь – здесь, в этом теплом и чистом доме, в этой мастерской, полной красок и всего, что нужно для рисования, и где он полноправный хозяин, и Петр Андреевич, и добрая Варвара Сергеевна – только одни они самые его близкие люди.
Он не раз уже слышал, как Петр Андреевич похваляется Степаном, называет самородком и сравнивает его с целой артелью. Совсем недавно в лавке у купца Столярова говорил. Столяров спросил, сколько, мол, нынче мастеров держишь, а Петр Андреевич, кивнув на Степана, похвалился:
– Вот у меня мастер, никакой артели не надо, нет, не променяю!
Прежде такие похвалы были Степану приятны, но тут, в лавке, больно его задело это – променяю. Он что, лошадь, что ли? И Степан насупился, всю обратную дорогу домой молчал, не отвечал на заискивающие вопросы Ковалинского, его не радовали даже и новые кисти, которые он сам выбрал в лавке.
Вскоре после этого он невольно подслушал разговор Петра Андреевича с женой. Они возвращались из гостей и, должно быть, думая, что он спит, говорили громко.
– Что ты хочешь, Петр! Просто дикий, невоспитанный мальчишка, – сказала с досадой Варвара Сергеевна, продолжая, видимо, какой-то разговор.
– Это все так, Варя, я понимаю, но ты постарайся быть с ним поласковей, – глухо отвечал Петр Андреевич, но дверь в мастерскую была открыта, и все было хорошо слышно.
– Ох, да разве я не стараюсь? – капризно сказала Варвара Сергеевна. – Но ведь не могу же я...
– Ну, ладно, Варя, не сердись. Ты пойми меня. Мне иногда кажется, что если он вздумает уйти, его ничем не остановишь, – это такая необузданная натура. И тут достаточно какого-нибудь неосторожного слова!
– Мне иногда кажется, он тебе дороже, чем я и Анюся...
– Что ты говоришь, милая, – засмеялся Петр Андреевич. – В некотором смысле, конечно, он мне дорог. Подумай сама, он один или два-три пьяницы, которых надо палкой заставлять работать...
Голоса потихоньку глохли, удаляясь – хозяева поднимались по лестнице наверх, в свои комнаты. И последнее, что услышал Степан, были слова Варвары Сергеевны:
– Но эта дикость, это невежество!.. Просто стыдно перед людьми...
Должно быть, они ходили в гости к попу, там был и учитель из гимназии, и уж он-то и попотешился над Степаном, вволю повысмеивал его на всеобщую потеху.
Долго в ту ночь не мог уснуть Степан. Нет, он не хотел верить тому, что говорила Варвара Сергеевна. Может быть, он ослышался? Может быть, разговор был вовсе не о нем? Но нет, голос ее звучал в ушах с неотразимой ясностью, хотя то, что она сказала, никак не увязывалось с той Варварой Сергеевной, какая стояла перед глазами Степана – ласковая, добрая, прекрасная... Он не мог представить ее, говорящей с досадой такие слова... Ни злости, ни раздражения не рождалось в душе Степана – одно недоумение и растерянность. Вот это было непонятно. Петр Андреевич со своей выгодой, которую извлекал из него, отступал на какой-то второй план, он был не важен сейчас, не имел никакого значения и не касался Степана. Степан даже и не думал об этом.
Окна уже поголубели, в мастерской посветлело, а Степан все еще не мог сомкнуть глаз. Скоро утро, в доме начнется привычная жизнь: Фрося загремит в кухне кастрюлями, затопит печь, потом спустится сверху Варвара Сергеевна, даст Фросе хозяйские наказы, потом заглянет в мастерскую – с припухшим, но свежим, румяным от сна лицом, длинные пушистые волосы перехвачены за спиной голубой лентой, длинный стеганый халат на груди широко открыт. И скажет:
– Ах, ты уже встал! Ну, не буду тебе мешать... – А сама не сразу уйдет, еще постоит в мастерской, посмотрит на его работу, похвалит.
«Нет, теперь она не зайдет!..» – с тоской думал Степан. Но если зайдет, то как быть ему? Сделать вид, что он ничего не слышал? Но ведь он слышал, теперь он знает, что это не искренняя ласковая улыбка, не искренняя доброта. И он это покажет, он все выскажет, а потом будь что будет.
Но Степан ничего не высказал. Во-первых, в тот день он долго проспал. Когда открыл глаза, Ковалинский уже работал. Степан, ничего в эту минуту из вчерашнего не помнивший, страшно смутился и спросил, «сколько время».
– Да времени уже около двенадцати, – спокойно сказал Петр Андреевич, не отрываясь от работы.
Во-вторых, в тот день он и не видел Варвары Сергеевны, так что все в нем приутихло и вроде бы и высказывать ничего не надо было – жизнь шла своей обычной чередой. Но когда в воскресенье собрались гости, Степан не пошел наверх, хотя Петр Андреевич и звал его. И с тех пор его больше не приглашали. Да и Варвара Сергеевна уже не казалась ему такой прекрасной. Однажды он столкнулся с ней на крыльце. Они с Анюсей возвращались откуда-то, должно быть, из магазина, а Степан, на ходу надевая пальто, толкнул плечом дверь.
– Ой! – вскрикнула Варвара Сергеевна. – Чуть не убил меня!..
Он прямо, твердо взглянул в ее лицо: под глазами мелкая темная сетка морщинок, узкие, посиневшие от холода губы, желтоватые редкие мелкие зубы... Степан отвернулся, пропуская Варвару Сергеевну. А следом за ней вбегала на крыльцо Анюся – тугие щеки пылают румянцем, голубые глаза весело блестят, из пухлых розовых губ вырывается легкое, чистое, как у теленка, дыхание, часто вздымает высокую грудь...
Однажды на улице – дело уже шло к весне, к пасхе, – Степан столкнулся с Яшкой. Шапка на Яшке набекрень, в зубах – папироса. Степану он обрадовался весело и шумно, как другу.
– Видно, живешь у купца? – сказал Степан с улыбкой.
Яшка с досадой отмахнулся.
– К этим толстопузым не так-то легко попасть. Да я из-за этого не печалюсь, нашел себе место не хуже, чем у купца. Знаешь, куда? Сроду не догадаешься – в художественную школу!
– Неужто в Казани есть такая?!
– Прошлой осенью открыли... Я ходил, ходил по городу и нигде не смог устроиться. Потом один знакомый живописец меня направил туда. Им, говорит, нужен истопник, иди, возьмут, а заодно будешь и учиться. Пошел – взяли. Теперь топлю печки и учусь.
– Слушай, а чему там учат?
– Откровенно говоря, учат там пустому делу, – презрительно сказал Яшка. – Поставят перед тобой какой-нибудь глиняный кувшин или, скажем, вылепленную из воска руку и велят их рисовать. Целый день рисуй одно и то же, подохнешь со скуки. Как ни нарисуешь, все не по-ихнему. Сдохнешь со скуки, правда. Да еще и деньги за такую учебу дерут.
Это сообщение о деньгах сразу охладило вспыхнувшее было желание Степана поступить в художественную школу. А Яшка продолжал весело рассказывать о своем беспечальном житье-бытье: топит печки, подметает полы, бегает, куда пошлет начальник. Вдруг он, хитровато подмигивая, спросил:
– А ты до Фроськи не добрался? Или полез повыше? Недавно как-то проходил по Покровской улице и видел дочку твоего хозяина. Как ее, Анюся, кажется... Ей-богу, прынцесса, да и только. Я бы уж с ней потолковал!..
Яшке нужно было в москательную лавку за мелом и лаком, и они простились. На прощание Яшка сказал, где школа, и велел заходить – он все покажет, что там рисуют.
Дома Степан сказал Ковалинскому о художественной школе. Да, Ковалинский о ней слышал, но какой Степану прок в этой школе? Там учатся мальчики и девочки тринадцати-пятнадцати лет, а Степан – профессиональный художник, что ему там делать?
– Яшка тоже учится, – сказал Степан, хотя уже и согласен был в душе с Петром Андреевичем.
– Ну, Яшке, конечно, там есть чему поучиться, но только не тебе. Тебе надобно не учиться, а серьезно работать.
– Иконы... – сказал Степан.
– А ты думаешь, иконы – это легко? Ты думаешь, ты уже постиг всю иконопись? Нет, Степан, то, что ты пока делал, это все азы. Ты прекрасно умеешь... как бы тебе сказать... умеешь писать по образцам. Настоящий художник создает сам тот или иной образ, тот или иной сюжет. Вот смотри. Вот твой Никола, а вот мой Варсанофий. Чем они отличаются? Да почти ничем. А когда пишет настоящий художник, то его работу можно узнать из тысяч других. Вот скоро мы поедем в Семиозерную пустынь, в Лайшев, и там ты попробуешь писать по своим эскизам, по своим композициям. Это тебе будет лучше всякой школы.
Да, это было трудное лето. Лето работы и разочарований. Ковалинский не отступил от своего обещания – он позволил Степану писать по собственным эскизам. Эскиз нужно было сделать сначала карандашом на бумаге, и Степан впервые понял, как это сложно – связать воедино две, три фигуры в соответствии со cмыслом сюжета. А Ковалинский еще был беспощаден в оценках. «Нет линии! Нет ритма!» – говорил он, быстро взглядывая на эскиз, и тут же отворачивался, продолжая работу, потому что работы было много.
Да Степан и сам чувствовал, что у него не получаются самые простые, казалось бы, вещи. Разве не ясно, например, что в «Чуде Георгия о змие» должно быть все подчинено изображению быстрого, победоносного движения? Но конь у него получался такой, будто тащил груженную лесом телегу, а сам всадник был толстый, неповоротливый, как Михал Назаров. И, отчаявшись, Степан бросал бумагу, брался за кисть, за привычное дело.
– Вот видишь, – говорил Ковалинский. – Это все гораздо сложнее, чем кажется. Придать лику сходство с тем или иным лицом – это и самому шутейному художнику большого труда не составит. Надо, чтобы это лицо выражало свойство характера этого человека и твое понимание этого характера. Вот иди сюда. Видишь, «Чин деисусный», девять фигур. Чувствуешь связь?
Да, на эскизе Ковалинского фигуры не распадались, центральная фигура Христа, словно магнитная, клонила к себе фигуры справа и слева – они словно бы внимали каким-то важным словам Христа. Крылья двух архангелов подчеркивали единство линий, которое объединяло и фигуры.
– Есть ритм? – спрашивал Ковалинский.
– Есть, – отвечал Степан, плохо понимая, что разумеет Ковалинский под этим словом, но чувствуя, что это слово определяет именно единство во всей картине, похожесть всех фигур в ней своим скрытым движением.
– Ну вот, теперь этот ритм нужно подчеркнуть и цветом. Давай работай.
Такие уроки Ковалинского не проходили даром, и к осени Степан уже «довольно сносно» сделал эскиз «Нагорной беседы». Сама же картина должна была быть большой – аршин в восемнадцать длиной и разместиться на плоской стене над двумя узкими окнами левого предела.
Петр Андреевич долго рассматривал эскиз, и хотя не выразил особого восхищения всей композицией («довольно сносно, хотя общая идея довольно не ясна»), но похвалил Степана опять за то, за что и прежде хвалил – за живую выразительность отдельных фигур.
– Что есть, то есть, – сказал он. – Твое дело – портрет, иконопись, а сюжеты, композиции оставь другим.
Это было обидно слышать Степану, но он и сам понимал, что с гораздо большим желанием пишет отдельные фигуры, что его больше заботит и сладко волнует рождающаяся под кистью жизнь, тогда как связь большой композиции он вручал как бы воле божьей – что будет, то и будет. Эскизы в этом смысле были хорошими помощниками, да еще советы Ковалинского: у голубого фона сделать четкую сферическую границу или «посадить» дерево между Богоматерью и апостолом.
– Но у неба нет границы, – слабо возражал Степан с лесов, из-под купола.
– Мало ли чего нет! – кричал снизу Петр Андреевич. – Искусство – не копия природы, искусство – символ ее! Запомни!
И в самом деле, четкая граница сферы не разрушала впечатления о небе взаправдашнем, но придавала всей композиции общее единство и законченность сюжета, а «посаженное» дерево с какими-нибудь тюльпановидными листьями вносило в канонический сюжет нечто сущее, какую-то жизнь, пусть и нездешнюю. Да и смысл иконы не в этом ли состоит?! Чудо – только оно может исторгнуть молитву из человеческой души. Так пусть это чудо будет таким!
15
Но вот опять прошла осень, и к покрову Ковалинский со Степаном вернулись в Казань, в свой дом. И жизнь пошла опять своим чередом: по утрам гремела в кухне раздобревшая Фрося, сходила вниз Варвара Сергеевна. Сам Петр Андреевич зимой писал мало, так что Степан по целым дням иногда оставался в мастерской один. Но забегала иногда Анюся, смотрела, что он пишет, садилась у окна, глядела на занесенный снегом двор, зевала, говорила: «Как скучно» и уходила к себе наверх вышивать или читать книгу.
Однажды, когда она так сидела у окна и на что-то с любопытством глядела, Степан ее нарисовал – быстрый карандашный рисунок на бумаге. Анюся даже и не заметила, что он ее рисует. Но скоро она опять сделалась скучная, зевнула по обыкновению и ушла, а Степан глядел на свой рисунок с каким-то необыкновенным волнением. Он не узнавал Анюсю, эту девочку в коротеньком платьишке. Нет, тут была другая – живое, вдохновенное лицо, большеглазое, с чуть вздернутым тонким носиком, с кудряшками на крутом лбу, на маленьких ушах, с толстой косой по спине. Нет, это не Анюся. Но тогда кто же?!
Степан пошел на кухню и молча показал Фросе рисунок.
– Ой, мамочки, Анюська наша! – вскрикнула Фрося, глуповато и счастливо засияв своим толстощеким лицом. – Да какая красавица, мамочки!..
Степан ушел в мастерскую. Нет, ошибки не было, это Анюся.
Но что сделалось со Степаном? Почему он то и дело взглядывал на рисунок? Нет, он не своим художеством любовался, но некоей живой Анюсей, которую он как бы видел сквозь этот быстрый тонкий рисунок.
И еще этот рисунок что-то напоминал ему. Или кого-то – он не мог вспомнить. Но было такое ощущение, что-то подобное он видел уже. Где? Нет, у него не хватало сил перебирать прошлое, – живое лицо Анюси было так близко и так прекрасно.
«Как? Почему я не видел ее раньше? – думал Степан, уже лежа в постели и уставясь в темный потолок лихорадочными блестящими глазами. – Она ходит сюда каждый день, сидит здесь, я могу увидеть ее в любую минуту – и я не видел!..»
Ему вспомнилась та Анюся, прежняя – девчонка с косичками, в коротком платьишке, совсем ребенок рядом с Варварой Сергеевной, и вот вроде бы точно такая же она и сегодня сидела у окошка, точно такая же девочка!
И вдруг он вспомнил веранду Колонина и тот рисунок, который так поразил, – лицо Елены Николаевны. Вспомнил, и волна сладкого восторга поднялась в нем и понесла сквозь лучистую синеву морозной ночи навстречу новоявленной Анюсе.
На другой день Анюся опять прибежала в мастерскую, опять сидела у окна и скучала, а Степан украдкой сравнивал ее, настоящую, с той, какая была на рисунке. И хотя сходство было отдаленное, он не замечал этого и с гулко стучавшим сердцем глядел на ее профиль, на эти кудряшки, упавшие на лоб, на маленькое розовое – как оно было чудесно! – ухо. «Не уходи! Не уходи!..» – заклинал он. Однако Анюся зевнула и сказала:
– Какая длинная зима... – И собралась уходить.
– А разве... разве ты не катаешься на санках? – пробормотал Степан.
– Прошлую зиму каталась, а теперь мама не разрешает, – простодушно призналась Анюся. – Говорит, ты стала большая, нельзя, неприлично. А я большая, правда? Ну, скажи, только честно. Большая?
Степан смутился, покраснел и с ужасом почувствовал, как уши его наливаются жаром и какие они ужасно большие и толстые. И это она видит!
– Да, большая, – пролепетал он.
– Скажи, а я красивая? – весело, без всякого смущения, без тени запинки, точно играя, спросила Анюся. – Ну, скажи, ты ведь художник, ты должен знать.
– Красивая, – прошептал Степан, опуская глаза и тут же опять со страхом взглядывая на нее.
– Красивая, правда?!
– Правда...
– Ой, как хорошо! Вот счастье!.. – И она запрыгала по мастерской к двери. – Пойду скажу маме, что я красивая! Вот счастье!.. – Вдруг она остановилась у порога. – Скажи, а я тебе нравлюсь? Только честно. Ну, скажи, считаю до трех. Раз, два...
– Нра... Ндра...
– Что? Что ты сказал? Я не слышу.
– Ндравишься...
– Правда? Вот счастье! А может, ты меня любишь?
– Люблю, – выпалил Степан.
Они стояли как в столбняке, уставясь друг на друга со страхом и изумлением. Степан медленно бледнел и сделался белым как снег, а Анюся вдруг вспыхнула, закрыла лицо руками и убежала.
Дня три Степан не видел Анюси. Она не показывалась в мастерской, не раздавался ее голосок и на кухне, сколько ни вслушивался Степан. По вечерам, когда в доме все затихало, он стоял возле лестницы, но и тут не слышал Анюси. Он боялся спросить о ней даже у Фроси.
«Она меня презирает, ей стыдно...» – думал Степан с отчаяньем. И он не находил себе места, не мог работать, – все валилось из рук. Он мог только смотреть на свой рисунок.
Однажды, когда он сидел на кухне и все выжидал удобного момента спросить у Фроси, где Анюся, к ним в необычное время пожаловал покровский священник.
– Хозяева у себя? – спросил он у Фроси в прихожей.
– У себя, батюшка, – сказала Фрося.
– Иди скажи...
Фрося тяжело потопала по лестнице, а священник, подождав минутку, двинулся за ней.
Степан ушел в мастерскую.
Вдруг через какое-то время влетела к нему Фрося и, радостно вытараща глаза, сообщила:
– Наша Анюська замуж выходит!
– Как это?..
– Да как все девушки замуж выходят, не знаешь, что ли?
– Да за кого, говорю! – крикнул Степан.
– Да за этого, который все щиплется в коридоре, когда шубу свою подает...
– Да откуда я знаю, кто тебя щиплет! – крикнул Степан, теряя рассудок.
– Ну, этот, который учитель! А поп сватом приходил. – И Фрося счастливо улыбалась, сияя своим толстым лицом.
– Перестань улыбаться! Убирайся!
Фрося испуганно попятилась, толкнула задом дверь и исчезла.
Степан бегал по мастерской из угла в угол. Он готов был все тут разнести в щепки, переколотить все иконы и доски. На глаза ему попался тот самый злосчастный рисунок, и он в один миг разодрал его на клочки.
Все! Он не может больше ни минуты находиться в этом доме. Пусть тут живет этот, со свинячьими глазами!.. Степан сорвал с вешалки пальто, схватил шанку и выбежал на улицу.
Мороз, к вечеру еще и с ветерком, не остудил Степана, не успокоил его намеренья уйти от Ковалинского. Он ходил по улицам в надежде встретить Яшку – он бы что-нибудь присоветовал. Но Яшка не попадался, да и прохожих на улицах стало к вечеру мало.
Степан направился домой – делать было нечего, не ночевать же на улице, да и ноги уже замерзли в тесных сапогах. Ничего, завтра он разыщет эту художественную школу, и Яшка что-нибудь присоветует!.. Завтра! А там...
Кто-то стоял на крыльце. Степана точно толкнуло. Анюся! В сумерках тревожно блестели ее большие глаза.
– Ты чего здесь? – недобро спросил Степан.
– А ты где ходишь? – тихо сказала девушка. – Я тебя жду...
– А чего меня ждать? Тебе надо жениха ждать, а не меня.
Помолчали.
– Значит, ты... ты... – горько сказала Анюся. На глазах у нее сверкнули слезы. – Ты... Ты обманщик!..
– Я-то?! – Степан даже задохнулся. – Я убью этого!..
– Правда? Ты из-за меня его убъешь?
– Из-за тебя. Из-за кого же еще, ведь он...
– Не говори, не надо, он больше не придет к нам, ну его, мы ему отказали.
– Ты не пойдешь за него замуж, нет?
– Нет. А скажи... Она замолчала. – Ты... ты... – Она не могла выговорить того слова, которое еще третьего дня так легко, так весело и просто слетело у нее с губ. Но и Степан уже не мог сказать вслух этого же самого слова, точно оно за эти три дня приобрело какой-то иной, не выговариваемый на человеческом языке смысл.
– Да, – сказал он. – А ты?..
– Да, – прошептала она, закрывая глаза и слыша совсем рядом частое теплое дыхание Степана.
16
К весне Ковалинский получил большой заказ на роспись церкви в селе Можаров Майдан. Это село находилось в Курмышском уезде Симбирской губернии. Работа и в самой Казани оказалась, и Степан втайне надеялся, что Петр Андреевич оставит его здесь, а сам поедет с нанятым мастером в Можаров Майдан. Степану казалось невозможным и дня прожить, не увидев Анюси. Но Ковалинский распорядился иначе – он сам решил остаться здесь, а Степана с иконником Соловецкого монастыря Дмитриевым послал в село.
Дмитриева звали Владимир Илларионович, а лет ему было много – около пятидесяти. А ростом маленький и сухой, как щепка. Волос на голове совсем мало – только на затылке да на висках, но и те сизые от седины.
Вечером, когда они легли на свои постели в мастерской, Дмитриев сказал:
– Ты, я замечаю, хозяину свой человек. Давно живешь у него?
– Да уж три года будет, – сказал Степан.
– Ну и как, хорошо?
– Ничего. А что?
– Да так, – сказал Дмитриев и замолчал. Он вообще говорил мало, а когда работал, постоянно курил трубку.
В Можаров Майдан Дмитриев и Степан выехали после пасхи, когда немного спал весенний паводок и по Волге стали ходить пароходы. Проводить их на пристань пришли Ковалинский и Анюся. Степану так и не удалось остаться с Анюсей наедине и проститься с ней пришлось только за руку. При отце он постеснялся ее поцеловать, как это у них уже повелось с того самого вечера.








