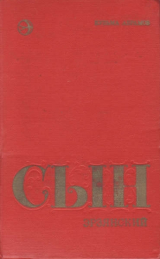
Текст книги "Сын эрзянский. Книга вторая"
Автор книги: Кузьма Абрамов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 19 страниц)
– Что, жаль расставаться? – с усмешкой проговорил Дмитриев, когда пароход стал медленно отходить от дебаркадера.
А позднее, получше приглядевшись к Степану, к его работе, он так говорил Степану:
– Послушайся моего совета, не вешай себе на шею тяжелый камень. Истинному служителю живописи камень на шее ни к чему. Жена – камень на шее художника. Само собой разумеется, если хочешь на всю жизнь остаться иконником, то, пожалуй, лучше всего жениться. Хорошая жена может быть в этих заботах хорошей помощницей, потому что теперь иконы – это в основном торговля. Ну, ремесло, конечно. Но столько строится церквей, такой спрос на нашего брата, так уж какое тут искусство!.. Любой богомаз сходит за мастера. И женишься, вдвоем с папашей такими делами будете ворочать – он мужик в этих делах разворотистый... Но, впрочем, мне кажется, что иконы – не твое дело, я видел твои работы в мастерской. Хотя,– добавлял Дмитриев, помолчав, – бог его знает...
Степану хотелось, чтобы Дмитриев говорил и говорил – слушать его было тревожно и радостно, однако Владимир Илларионович так всякий раз обрывал свою речь: «Бог его знает...»
17
Можаров Майдан – большое русское село, стоит в верстах двух-трех от реки Пьяна, немного выше от ее впадения в Суру. Степан и Дмитриев добрались до него к вечеру, сев в Васильсурске на пароход, идущий вверх по Суре. Священник отец Севастьян, в приходе которого была построена новая церковь, пригласил живописцев жить к себе. Большой его дом, составленный из двух изб с приделом посередине, стоял за старой деревянной церковью. Возле дома имелся двор и на всю усадьбу огромный плодовый сад.
– Устинья, приготовь для гостей две постели в левой избе! – крикнул отец Севастьян, когда они втроем вошли в средний придел дома, – там была кухня.
Открылась дверь справа, и выглянула девушка, показав рыжие волосы и круглое веснушчатое лицо. За девушкой показалась и толстая пожилая женщина в сбитом на сторону платке.
– А ты, Анастасия, покорми их как следует, да вели Семену истопить баню. Эти люди к нам приехали из Казани, с дороги им надобно подкрепиться и попариться, – сказал отец Севастьян.
Он ввел приезжих на левую половину дома и, сказав, «здесь располагайтесь», оставил одних. В этой комнате, видимо, никто не жил, мебели никакой не было, и только вдоль безоконной стены один за другим стоят три огромных сундука. В переднем углу горела лампадка, освещая несколько черных икон на полочке. Дмитриев присел на один из сундуков, вынул кисет.
– Ну, как, приглянулась тебе попова дочка? – проговорил он, набивая трубку табаком.
– Откуда знаете, что она ему дочка? – сказал Степан.
– Нам с тобой все равно, кто она ему, была бы только покрасивше. Страсть не выношу непривлекательных баб, – сказал Дмитриев, закуривая и пуская дым.
Степан не удержался от улыбки. Товарищ говорит о красивых женщинах, а сам отталкивающе безобразен. Щеки его впали, нос несуразных размеров да еще вдобавок и кривой. Бреется в неделю раз, лицо всегда в сероватой щетине. Глаза маленькие, веки голые, без ресниц. И вдобавок ко всему этому голый череп, который блестит даже при тусклом свете. И вот говорит о красивых женщинах!..
– Знаю, отчего улыбаешься, – сказал Дмитриев, раскурив трубку. – Сам, дескать, похож на орангутанга, а ищет красивых. Так ведь? Угадал? То-то же, брат, угадал. – Он помолчал. – Человеку всегда кажется, что сам он красивее всех. Ведь он не видит своего лица, а смотрит в свою душу, а душа у всех одинаково красива, если, конечно, она нормальная.
К ним вошла давешняя толстая женщина и позвала их есть. Она оказалась кухаркой. От нее они узнали все домашние дела отца Севастьяна: вдовец, живет с единственной дочерью Устиньей, с той самой, которая выглядывала в дверь, когда они вошли сюда. Вскоре и сама Устинья появилась на кухне: огнисто-рыжие волосы, все лицо густо усеяно веснушками, но такая статная, с таким живым веселым блеском в глазах, что Дмитриев только прицокнул языком и повел глазами.
Вечером Устинья с кухаркой загоняли во двор многочисленную скотину – двух коров, телку и голов двадцать овец. Степан стоял на крыльце. От него не ускользнуло, как живые карие глаза девушки все время метали на него взгляды. Загнав во двор скотину, она подошла к крыльцу, сняла с ног кожаные опорки и босая поднялась по ступенькам.
– Баня истопилась, позови товарища, идите париться. Там вас отец и диакон ждут.
Степан видел любителей попариться у себя в Баевке. Но то, что он увидел здесь, не шло ни в какое сравнение. Дмитриев повязал на голову платок, смоченный в холодной воде, полез на полок и велел диакону поддавать пар. Тот плеснул два-три ковша горячей воды на раскаленные камни и сам не выдержал жару, сунул ковш попову работнику и выскочил в предбанник. Работник Семен изловчился плеснуть ковш и тоже не вытерпел. Наконец эта. обязанность перешла к отцу Севастьяну. Он принес с собой в баню кувшин квасу с натертым хреном, вылил этот квас в таз и плеснул на каменку. Баня наполнилась горячим, едким вонючим паром. Все, кроме отца Севастьяна и Дмитриева, выскочили в предбанник. Они хлестали себя вениками и крякали, точно селезни. Наконец не выдержал Дмитриев.
– Поддай! – кричал отец Севастьян, и Дмитриев, заскочив в баню, бросал ковшами воду на каменку. Наконец оба вылезли из адской жары и легли в предбаннике на расстеленную на полу солому и дышали, точно загнанные лошади: огромная красная туша отца Севастьяна и тощий, костлявый Дмитриев.
Пока мылись в остывшей бане Степан, диакон и работник, они отдыхали, попивая холодный квас.
– Силу им бесовскую девать некуда, вот они ее и утихомиривают паром, – гнусаво выговаривал работник Семен.
– Поп-то ладно, он крупный и здоровый, но вот мой товарищ с чего так парится? – сказал Степан.
– Твой товарищ прямо настоящий сатана, ему и в аду, наверно, будет холодно, – сказал Семен. На костлявой его груди мотался на засаленном гайтане медный крестик.
Они вместе вышли из бани, оделись и пошли по тропе между яблонями к дому.
Степан прошел в избу и лег на постель, постланную на широком сундуке. В избе было прохладно, и он помаленьку остывал, приходил в себя.
В кухне уже раздавался командирский бас отца Севастьяна и звякала стеклянная посуда.
В избу заглянула Устинья.
– Ты зачем тут лег, – сказала она, – тебе вот там постелено.
– Какая разница, и там такой же сундук, – отвечал Степан.
Устинья засмеялась.
– Сундук такой же, да постель помягче!..
Комната освещалась маленькой лампадкой, и в этом призрачном свете, как наваждение, стояла Устинья.
Из кухни через неплотно закрытую дверь доносились пьяные голоса. Но бас отца Севастьяна гремел, как барабан.
– Теперь опять напьются, – проговорила Устинья печально. – Как хорошо, что ты хоть не пьешь. Люблю непьющих людей. – И она опять весело схохотнула.
– Непьющий человек, вроде меня, никуда не годится, – развязно сказал Степан, собравшись с духом. – Он несмелый, даже девушку обнять боится...
– Ну, это еще как девушка разрешит себя обнимать! – задорно сказала Устинья и засмеялась тихонько. – Разве девушку обязательно обнимать?
– А как же! – храбро сказал Степан.
– Ну уж нет! А ты, верно, к тому же и женатый?
– Знамо, женатый, – сказал Степан, вспоминая Анюсю. – Да разве не одно и то же, кто обнимает тебя?
– Э, как бы не так – одно! – воскликнула она. – Очень мне надо, буду я обниматься с женатым! – И тут же повернулась, колыхнув длинной широкой юбкой, и ушла.
18
Степан проснулся от запаха табачного дыма. Дмитриев расхаживал по избе и курил трубку. Он заметил, что Степан проснулся, и сказал:
– Я уже ходил смотреть новую церковь. О, господи, что за храмы пошли! Казармы какие-то!.. – Он попыхал трубочкой. – А нам, брат Степан, столько работы, что до покрова не провернуть. Напиши-ко письмо хозяину, пусть еще мастера присылает.
– Сам скоро приедет,– сказал Степан.– Чего поделаем, а там видно будет.
– Ну, как знаешь, а я ломить не собираюсь на твоего хозяина.
Степан оделся и, взяв полотенце, вышел в кухню. Здесь оказалась и Устинья. Ее пухлые губы растянулись в широкую улыбку.
– Где у вас умываются? – спросил Степан.
Она зачерпнула большим железным ковшом из ведра и сказала:
– Мы летом умываемся на дворе, пойдем, я тебе солью.
Степан подставлял ладони под щедрую струю воды из ковша, плескал себе в лицо, а глазом косил на Устиньину грудь. Верхняя пуговица на кофточке отстегнулась, виден край белого лифчика, а кожа золотится от веснушек. Степан нагнулся.
– Выливай весь ковш на шею!
– Я могу вылить и все ведро! – сказала Устинья, засмеявшись.
На другой день Степан и Дмитрий принялись за работу. В дом они приходили лишь есть да спать. Устинью он видел лишь во время обедов и ужинов. Завтракали они рано, она в это время еще спала, а кормила их кухарка. Но в обед и вечером хозяйничала Устинья.
От зорких глаз Дмитриева не укрылось ни оживление девушки, ни Степаново волнение. Однажды он сказал:
– Хороша девка! Испанский апельсин, а не девка!..
Степан вспыхнул и отвернулся.
– Знаешь что? – продолжал Дмитриев, набивая трубочку. – Сегодня Устинья по секрету спросила меня, женат ты или нет.
– Что же ты ей ответил? – отозвался Степан.
– Сказал, как есть. Или надо было соврать?
Степан, улыбаясь, промолчал.
– Вот ты говоришь – испанский апельсин. Что это такое? – спросил Степан.
Дмитриев засмеялся.
– Эх, Степан, Степан, ничего ты не знаешь. Тебе, братец, надобно учиться по всем статьям, а не жениться. Свяжешься с бабой, учиться не станешь, пропадешь. Из тебя, смотрю, вышел бы настоящий художник. Ей-богу, вышел бы! – Он немного помолчал и добавил: – Вот из меня ничего не вышло. Я – пропащий человек.
– А ты что, тоже женился?
– Было и это, – ответил Дмитриев, махнув рукой.
– Но ведь без женщины тоже не проживешь?
– Это точно, без нее, чертовки, не проживешь, особенно когда молод. Но я говорю о другом. Истинному художнику надо быть свободным от всего, а знать и любить только свое дело – искусство. И водку не пей! Этот зеленый змий похлеще бабы может тебя доконать. Голова художника должна быть всегда светлой... Постарайся попасть в Москву и поступить учиться. В Москве, братец, живут все большие художники. Москва – она всем голова. А здесь провинция, болото. Увязнешь – не вылезешь... Богомазы ничего тебе не могут дать, кроме как научат водку пить. И Ковалинекий, кроме своей дочери, ничего не даст. Ты поучился у него, чему мог, и ладно, и надо дальше двигать. А эти убогие казармы и без тебя размалюют.
Он замолчал, выбил о доску трубку и тяжело поднялся на ноги, – надо было снова приниматься за работу.
– А испанский апельсин – это плод такой, растет в теплых краях, кожура у него золотисто-желтая. Точно такая, как у Устиньи веснушки, – добавил Дмитриев, лукаво подмигнув.
После таких разговоров с Дмитриевым о Москве, о настоящей учебе Степан по вечерам долго не мог уснуть. Его мнение о себе как уже о настоящем мастере, которому не нужна учеба, рассыпалось в прах от одного замечания Дмитриева. Вспоминался и Яшка, его рассказ о художественной школе, где рисуют «глиняные кувшины, восковые руки да носы». Видать, не зря все это рисуют.
Но не давала покоя и Устинья, этот «испанский апельсин». К тому же ее иногда по вечерам не бывало дома. Где она? С кем? – мучился Степан ревнивыми догадками.
Как-то поздно, когда уже пропели петухи, он встал и пошел в кухню попить. Тут на крыльце послышались осторожные шаги, скрипнула дверь, и в кухню тихонько вошла Устинья.
Степан опустил ковшик в ведро, ковшик стукнул. Устинья испуганно ойкнула.
– Кто здесь?!
– Свои, не бойся, – проворчал Степан.
Она засмеялась тихонько.
– А я и не боюсь! Вот еще – бояться тебя!..
– Где ты была?
– Где была, там нет. А тебе что?
– Да я бы тоже сходил на гулянку, да вот ты не берешь меня.
– Правда, пошел бы?!
– Отчего не пойти?
– Завтра возьму, если хочешь. Познакомишься с нашими майданскими девушками. Парни, может, намнут тебе бока.
– За что намнут?
– Чтобы не отбил у них девушек.
– Если и отобью, то только одну – тебя, – сказал Степан и, протянув руки, пошел к Устинье.
Она попятилась, пожалась спиной к двери.
– Не надо, – прошептала она. – Отец услышит, задаст нам обоим... – И, тихонько смеясь, закрыла за собой дверь.
Утром рано, умываясь, Степан заметил, как вышел отец Севастьян из амбара, где спал. «Обманула меня, чертовка!.. – И радостно подумалось Степану: – Ну, теперь не обманешь!..»
Днем Устинья пришла в церковь и взобралась на леса к Степану. Он расписывал свод. Сюжет был известный, который Степан уже писал – воскрешение Иисусом одной молодой девушки, дочери большого вельможи.
– Хочешь, напишу тебя вместо этой девушки? – сказал Степан, показывая на роспись.
– Больно мне надо, нарисуешь меня умершей!
На лесах они были одни. Дмитриев работал внизу.
– Как прохладно здесь, – проговорила Устинья, поеживаясь.
Одета она была в легкое платье, поверх рыжих волос повязан белый платок, который еще больше оттенял веснушки на ее лице. Она опустилась на колени, чтобы лучше видеть, как Степан рисует.
Внизу вдруг загремел бас отца Севастьяна:
– Каковы дела ваши, рабы божии богомазы!..
– Ой, – напугалась Устинья. – Вот увидит меня здесь...
– Не бойся, он сюда не полезет, – успокоил ее Степан. Отец Севастьян куда-то позвал Дмитриева, и они скоро ушли.
Степан бросил кисть и смело обнял Устинью. Она не отбивалась, она только зашептала, тихонько смеясь:
– Ой, разве в церкви можно обниматься!..
– Пока церковь не освящена, можно, – твердо сказал Степан.
– Пусти!..
Она дернулась. Шаткие леса качнулись со скрипом. Устинья поглядела вниз, – обмерла в страхе и схватилась обеими руками за Степана.
– То-то же, – сказал он. – Зачем вчера обманула меня? Отец твой спит в амбаре, а ты сказала...
– Ничего я тебе не говорила, отпусти, а то больше ни разу не приду сюда, – сказала она обиженным голосом.
В субботний вечер после бани пировали у диакона. Степан не хотел идти, но Дмитриев его уговорил.
– Ты художник, тебе надобно все знать и видеть своими глазами. Посмотришь, как живет диакон. Жена у него, говорят, молодая, красивая бабенка.
– Зачем мне нужна жена диакона? – отговаривался Степан. – Вы опять будете пьянствовать, а мне что за радость?
– А ты смотри и запоминай. Художнику все пригодится. Поверь мне.
Диакон жил рядом с отцом Севастьяном в маленьком доме. И было у него небольшое хозяйство, как у заправского крестьянина – корова, лошадь, овцы. Жена его, Надежда Петровна, была маленькая, круглая и крепкая, как репа. У них было четверо детей. Степан сразу же, как только их увидел, заметил, что не у всех волосы на голове были русые. У двух самых маленьких они отливали золотистым блеском. Степан и Дмитриев посмотрели друг на друга и многозначительно улыбнулись.
Пир начался. Отец Севастьян объявил, что сегодня будут пить на спор – кто больше!
– Можно, – скромно согласился Дмитриев.
Диакон тоже вдруг распалился. Он ударил по столу костлявым кулаком и крикнул:
– Пить так пить!
Жена ткнула его в седой затылок.
– Питок мне нашелся! После четвертой рюмки под стол свалишься, я тебя не буду отхаживать.
– Не свалюсь! – ярился диакон, уже хвативший стопку. – Отец Севастьян скорее свалится.
На других глядя, и Степан выпил стопку, да тут же и захмелел, выбрался из-за стола. Проходя через кухню, Степан толкнул дверь в комнату Устиньи.
– Отец, ты? – спросила Устя.
– Я, – сказал Степан каким-то деревянным голосом и, вытянув руки, пошел в темноте на что-то мутно белевшее в дальнем углу избы.
– Уходи, закричу!..
Он больно ударился обо что-то твердое коленками. Сердце колотилось так, что кровь шумела в ушах. Как слепой, ловил он сильные, бьющие прямо в грудь, в лицо руки Устиньи, наконец схватил горячие мягкие запястья.
– Больно, отпусти, – прошептала она.
– Драться не будешь?
– Не буду...
Он поймал губами ее губы, мягкие, безвольные...
Потом Устя плакала, и он утешал ее, говорил какие-то ласковые слова, не понимая их, улыбаясь в темноте. Потом, сами не зная отчего, они рассмеялись, говорили друг другу «тс-с-с», но тут же следовал взрыв громкого, безудержного смеха.
Но вдруг они словно образумились, пришли в себя и увидели, что за окном встает солнце.
– Господи, что теперь будет!.. – тихо, горестно воскликнула Устинья и, точно устыдившись чего-то, закрылась с головой одеялом и затихла.
– Ну, чего ты... – растерянно бормотал Степан, – ну не надо... Ничего не будет...
Она не отвечала, не шевелилась.
– Ну, не надо... – Он погладил рыжие волосы, не попавшие под одеяло.
– Уходи, – глухо сказала она.
Степан, стараясь неслышно ступать, но не спуская с укрывшейся Усти взгляда, крадучись выскользнул на кухню, а оттуда – в свою избу.
Дмитриева на своем сундуке не было. Степан лег на свою постель, холодную и чистую. По телу полилась какая-то непомерная легкость и приятная истома. Откуда-то издалека всплыла вдруг неясно Анюся, но такая далекая, такая чужая. Степан закрыл глаза, и она исчезла.
Ему показалось, что он и заснуть не успел, как его разбудил Дмитриев. Лицо у него было опухшее, серое, но глаза живые и веселые.
– А где отец Севастьян? – спросил Степан, думая об Усте, о том, где она сейчас...
– Да я убрался, не знаю. Сейчас, должно быть, явится.
19
Отец Севастьян и в самом деле скоро явился.
– Илларионыч, ради бога, помоги! Как я теперь буду служить обедню? Костлявая дубина попортила весь мой иконостас...
Он держал на лице мокрое полотенце.
– Да что с тобой?
Отец Севастьян отстранил от лица полотенце. Под левым глазом была багровая, с куриное яйцо, шишка, на правой скуле кровоточила ссадина.
– Ну каково?
– Да, – сказал Дмитриев, – хорош.
Отец Севастьян громко крякнул. Он переменил согревшийся конец полотенца, облизнул красным языком разбитую губу и с мольбой уставился на Дмитриева, точно тот мог ему чем-то помочь. Но Дмитриев только попыхивал трубочкой и с состраданием качал головой.
– На спящего налетел, дьявол! Спящего человека и прикончить не трудно, – чуть не плача, сказал отец Севастьян.
– Сколько живешь вдовцом, а не знаешь, что на чужой усадьбе спать опасно. Сделал дело и уноси ноги, – сказал Дмитриев.
– Я, что ли, виноват, что канон не дозволяет священнику жениться вторично! Да я пришел сюда не лясы точить! – вскричал вдруг отец Севастьян. – Слышишь, колокол зовет. Что делать, господи?..
Степана вдруг осенило:
– Давайте, отец Севастьян, синяки замажем краской.
– А ведь правда! – обрадовался тот. – Давай мажь скорее.
Он усадил отца Севастьяна на стул против окна и принялся за дело. Синяк под глазом скрылся за слоем кремовой краски с белилами.
– Ну, как, Илларионыч? Да глянь ты, сотона, перестань коптить!..
– Прекрасно, – сказал Дмитриев. – Ты даже помолодел, отец.
– Тогда пойду службу править, пора.
На улице по-летнему тепло. На зеленой лужайке перед церковью пасутся поповы телята.
Степан поднялся на паперть, но в церковь идти не хотелось, и он постоял, оглядывая широкую улицу, тоже зеленую от весенней травки. Самое время белить холсты – они полосами белеют перед каждым домом. Их зорко охраняют девочки-подростки, чтобы на них не набрели телята и малые ребятишки. Степан вспомнил, как он однажды маленьким истоптал у себя за огородом холсты, вот так же постеленные для беления. Тогда ему здорово досталось от сестры Фимы – она отстегала его вицей. Степан улыбнулся своим воспоминаниям...
Дмитриев был на лесах. Увидев поднимающегося к нему Степана, он отложил кисть, достал трубку и принялся набивать ее табаком.
– Что ты меня не разбудил? – спросил Степан.
– Ты думаешь, в холодной церкви лучше, чем лежать в теплой постели после свидания с девушкой? – улыбаясь, ответил Дмитриев.
– Оно, конечно, не лучше, да ведь за меня никто работать не будет, – сказал Степан.
Дмитриев пыхтел трубкой.
– Тогда спускайся вниз, а я тут закончу, – сказал он.
Но Степан не торопился уходить, ему хотелось поговорить с ним. О чем? – он и сам не знал. Устинья радостно и тревожно все усложнила в его жизни, в его мыслях. Что теперь делать? Как быть? Ведь рано или поздно ему придется уезжать. А как она?.. А в Казани ждет его Анюся...
– Посоветуй мне, Владимир Илларионович, что делать? – грустно сказал Степан.
– Говорю тебе, слезай вниз и займись делом, – проворчал Дмитриев, сделав вид, что не понял истинного смысла его слов.
– Не об этом спрашиваю...
– Ах, ты о том, как серому волку теперь выбраться из овчарни?
Степан склонил голову.
Дмитриев усмехнулся.
– Не печалься, все образуется само собой.
Но как все это образуется? Степану пришла вдруг в голову мысль, которой он испугался: сесть на пароход и уехать в Алатырь!.. Нет, нет, – сказал он себе и вовсе расстроился. Ему казалось невозможным оставить Устю, которая с каждым днем все ласковее и нежнее была с ним – как жена, и опекала его как жена, но так же невозможным казалось и остаться тут навечно.
– Образуется, уж поверь мне, – повторил Дмитриев.
По случаю праздника троицы они не работали, и Степан, выбрав минутку, заглянул к Устинье.
Она лежала на постели лицом в подушку, плечи ее вздрагивали. Она плакала. Степан повернул ее мокрое от слез лицо.
– Ты что, Устя?..
– Ой, Степан, что делать-то? Отец посылает меня к тетке в Сергач. Она болеет, а кроме нас, у нее никого нет. Что нам теперь делать?..
Она смотрела на него растерянными глазами, полными ожидания и надежды, что вот сейчас же он скажет какие-то спасительные слова. Но что он мог сказать? Он целовал ее мокрое лицо и бормотал, утешая, что ведь это же ненадолго, что Сергач почти рядом, они будут видеться... И правда, в эту минуту ему было невыносимо представить, что вот она уедет, ее не будет в этом доме, он не увидит ее... Но от его ласк Устя успокоилась, да и не могла она долго быть печальной – столько в ней было молодой жизнелюбивой страсти! И скоро голос ее опять весело зазвенел, она забегала по дому, золотые волосы ее, как пламя, мелькали по двору, по саду, и Дмитриев, глядя на нее из окна, с восхищением покачивал лысой головой.
– Ох, и баба будет, ох, баба!.. Не уступит своему папаше!..
Она уехала на другой день. Работник Семен повез ее на телеге. Отец Севастьян давал наказы дочери, но она плохо его слушала – она смотрела в окно, где стоял Степан. Она опять была грустная и печальная и так на него смотрела, точно прощалась с ним навеки.
Так оно и оказалось. После троицы в Майдан приехал человек, назвавшийся «мастером от Ковалинского». Он привез для Степана письмо, в котором Петр Андреевич писал, чтобы Степан немедленно выезжал в черемисское село Чурвел Царевококшайского уезда – там его уже ждут три мастера, а он, Степан, будет у них за старшего.
Было и другое письмо – от отца. Отец писал, что они с матерью переехали в Алатырь, живут у Ивана, что дом надо ремонтировать. За каждым словом Степан чувствовал просьбу о деньгах.
Было и третье письмо – от Анюси: конверт перевязан розовой ленточкой, от бумаги исходил запах духов.
Анюся писала, что соскучилась, что ждет не дождется его, Степана, что погода у них в Казани плохая и она никуда не ходит, сидит дома, вышила скатерть, что мама и папа здоровы...
Письмо было короткое, но Степан и не обратил на это внимания, а скоро и вовсе забыл о нем. Другие мысли, другие заботы его одолевали. Из памяти не шла Устя, и с каждым днем он все острее и болезненнее чувствовал тоску по ней и невозможность уехать, не повидав ее. Вдруг в голову приходили иные мысли – об отце, о том, как они теперь живут в Алатыре и надо бы им послать денег, а денег при себе нет... И о Ковалинском думалось, но уже как-то отчужденно, как бы словами, которые говаривал Дмитриев. Но что делать сейчас, потом?.. Опять жить зиму в Казани, писать иконы? Нет, это казалось невозможным, непосильным. Учеба? Москва?.. Но где эта Москва?.. Вот Алатырь – другое дело, там брат, а теперь и отец, мать, братья...
А между тем надо было отправляться в какое-то черемисское село, где его уже ждут три мастера, – Ковалинский подробно расписал, как туда ехать.
– Ну вот, – сказал Дмитриев, – все и образовалось в лучшем виде.
Но Степан только огорченно махнул рукой.
– Что, не рад? Так оно всегда и бывает, друг мой... Все собрал? Тогда пошли, провожу тебя до пристани.
Степан растерянно озирал избу, где жил, сундук, на котором спал. Перед образами по-прежнему ровно горела лампадка.
– К отцу-то зайди проститься, – сказал Дмитриев, лукаво прищурившись и посапывая трубкой.
Степан постучал в дверь, в которую столько раз входил тайно с радостно и тревожно бьющимся сердцем. Точно так же билось у него сердце и сейчас, хотя он знал, что Усти нет.
Отец Севастьян сидел за столом и что-то читал, далеко отстранив книгу и откинув голову.
Степан сказал, что хозяин прислал письмо и велит ехать в другое место. Он говорил все это с запинками, с волнением, посматривая на заправленную высокую кровать Усти с горой белых подушек.
Отец Севастьян молча выслушал Степана, вздохнул, посмотрел за окно, на блещущий солнечный день. Должно быть, он о чем-то задумался, и Степан, по правде говоря, маленько испугался: а вдруг как он вспомнит Устю?..
Но отец Севастьян опять вздохнул, посмотрел на Степана с какой-то спокойной печалью, как тогда и Устя смотрела на него из телеги, и сказал:
– Ну что ж, коли так, путь тебе добрый, поезжай с миром.
Потом они шли с Дмитриевым по Сурской пойме к пристани. Травы уже поднялись, луга густо желтели сурепкой, сияло нежаркое солнце, и белые кудрявые облака бежали по синему небу, точно сказочные корабли.
Грустно было Степану уезжать, но Дмитриев, словно читая у него в душе, говорил хорошие и ободряющие слова о том, что художнику нельзя тратить силы на всякие мирские заботы и думать об устроенной оседлой жизни, он должен отдаться ветру жизни и плыть, как эти вольные, светлые облака – не ведая куда и зачем.
Но от этих слов еще грустней сделалось Степану, а сам Дмитриев стал еще дороже и ближе. Да и страшно горько было думать, что не увидит он больше и Усти, и отца Севастьяна!..
На пристани он едва удержал слезы:
Дмитриев обнял его на прощание и сказал:
– Мир велик, может, и не придется свидеться, но не забывай, что тебе говорил старый иконник соловецкий...
20
Черемисское село, куда приехал Степан, было в сорока верстах от Волги. Жители его, черемисы, были давно крещены, но до сего времени продолжали поклоняться в дубовой роще своему богу керемету. Когда построили в селе церковь, эту рощу срубили. И вот тут покорные черемисы возроптали, да так, что из Царевококшайска приезжали полицейские, зачинщиков увезли, а многих наказали, отпоров их розгами. Волнение было успокоено. Обо всем этом Степан узнал от попа, сухонького старичка лет шестидесяти, с реденькой тощей бородкой и сморщенным лицом. Поп страшно гордился своим первейшим участием в этой расправе над неверными. Как потом оказалось, он был яростным ревнителем веры, не терпел малейших отступлений в обрядах, в службе, в молитвах. Кроме того, он безошибочно знал по именам не только все высшее и низшее начальство казанской епархии, но и епископат всея Руси. Правда, все это он вызубрил еще в семинарии, так что хотя большинство из них и умерли, он не хотел признавать этого факта – новые имена в его памяти не уживались.
Между тем был это самый беднейший из попов, коих пришлось видеть Степану. Ряса на нем была засаленная, с аккуратными заплатами, во дворе не было ни лошади, ни козы, только несколько облезлых кур порхали возле крыльца. В услужении у него была черемисская женщина, ни слова не понимавшая по-русски. В самом доме все было грязно, запущено, ветхо, темно, так что после чистой, просторной и светлой избы отца Севастьяна Степан отказался остаться здесь на постой. Поп с неудовольствием пошевелил седыми бровями и спросил сурово:
– Ты православный или нет?
– А что?
– Знать хочу, кому храм божий доверяю.
– А как же, батюшко, православный. Крестился, причастился, все как положено.
– А почему лба не перекрестил, как из-за стола встал?
– Прости, батюшка, – сказал Степан и перекрестился.
– Ну, то-то.
И вот так все грязно, затхло было в избе у попа, так мрачно, что скорее хотелось выбежать на улицу, однако все стены были обвешены иконами, а по углам горело несколько лампадок.
– Твои товарищи-мастера охальники и богохульники, – сказал сурово поп, когда они вышли на улицу. – Ругаются матерно, требуют от меня на вино, а я где возьму? Нету, а они несут меня богомерзкими словами и смущают черемисов. Ты прибери их к рукам, иначе я буду жаловаться.
И не было у Степана никакого сомнения, что этот поп может легко исполнить свои угрозы – такой жестокостью и твердостью веяло от его слов.
Он показал Степану на двор, куда определил «богохульников», а сам дальше не пошел.
Степан хорошо знал о бедной жизни эрзян, его глаза перевидели много великой бедности и в других краях, но здесь, в Черемисском краю, жили и того хуже. Во всем селе не было видно ни одной избы, у которой бы было больше двух окон. И окна такие маленькие, точно лазы для кошек. А есть избы и вовсе без окон. Поставлены они безо всякого плана, а кому как заблагорассудится, и вот село – не село, деревня – не деревня: ни улиц, ни проулков. Сами избы маленькие, а возле них дворы огромные, обнесенные плетнями. Во дворе, куда вошел Степан, кроме рубленой избушки из толстых бревен, были еще три или четыре маленьких кривых сарая с плоскими крышами. В этих сараях не было ни дверей, ни окон, и влезть туда можно было через небольшие дыры. И ни души кругом! Приглядевшись, Степан заметил в щелях одного сарая следящие за ним испуганные глазенки маленьких детей.
Степан вошел в рубленую избу. Его глаза не сразу привыкли к сумеречной полутьме, но, попривыкнув, он разглядел в углу небольшой очаг без трубы, дырку в потолке, куда, должно быть, вытягивался дым. А на полу на соломе лежали три странные фигуры. Сразу было видно, что это не черемисы – «художественная» разномастность бород, остатки «городских» признаков в одежде, сапоги...
– Здорово, мастера-иконники! – сказал громко Степан. И фигуры сонно, нехотя зашевелились. Наконец один из них, со страшно черной огромной бородой, сел и, тупо уставясь на Степана, сказал угрюмо:
– Никак старшой прибыл... Ты, что ли?
– Я, – сказал Степан.
– Эй, мужики! – оживился чернобородый и ткнул кулаком своего соседа. – Эй, вставай, старшой прибыл!..
– Старшой? Где старшой? – спросонья быстро затараторил и завертел маленькой светловолосой головой худенький мужичонка. – Это старшой?..
Заворочался на соломе и третий, сел, протер кулаками глаза. Это был здоровый красивый мужчина лет сорока, светлобородый, с широким опухшим лицом.
– Ох, мочи нет, – сказал он и пополз на четвереньках к лавке, где стояло ведро с водой, зачерпнул и долго, жадно пил, гукая нутром.








