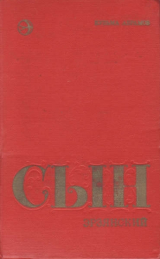
Текст книги "Сын эрзянский. Книга вторая"
Автор книги: Кузьма Абрамов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 19 страниц)
Вечером, когда они с Ковалинским поужинали и пришли в свой флигель, Степан, против обыкновения, не поспешил раздеться и лечь в постель.
– Никак погулять собрался? – спросил Петр Андреевич, блаженно вытянувшись на своей мягкой кровати.– Погуляй, погуляй, дело твое молодое, а я вот почитаю пока. Будь добр, подай-ко мне книжечку.
Степан взял на столе книжку и, прочитав на ходу – А. П. Чехов «Хмурые люди», подал ее Петру Андреевичу.
Петр Андреевич зевнул и, положив книжку себе на живот, опять сказал:
– Иди, иди, погуляй в саду, вечер чудесный, – и опять зевнул.
Степан вышел на крыльцо.
Солнца уже не видно было за крышами домов и за деревьями сада, но небо еще насквозь лучилось, свежей зеленой краской блестела широкая усадистая луковица новой церкви, в которой они работали. За воротами раздавались голоса собиравшихся на вечернюю посиделку девок, а в дальнем конце улицы несмело играла гармошка.
Степан постоял, переминаясь с ноги на ногу, однако так и не решился пойти за ворота, а побрел по влажной уже траве в сад. Там было тихо, в углах, заросших малиной и смородиной, уже густели тени. Яблоки на деревьях еще были зеленые и мелкие, с луковицу, но и они уже источали тонкий резкий запах.
Потом он попал на хорошо утоптанную тропинку, которая вела к бане, и пошел по ней, сам не зная зачем и куда.
За баней сад кончался, и Степан постоял у частой изгороди, которую переплела высокая, в человеческий рост, крапива. Такая же крапива растет и в Баевке за двором, и сколько мать ни билась с ней, сколько ни выкашивала, ни выдирала, так и не вывела – каждую весну крапива вымахивала еще гуще.
Степану вспомнилась и Дёля, но почему-то вообразилась она растолстевшей, под стать Михалу, мужу своему. Степан улыбнулся и побрел обратно.
Уже смеркалось, небо потемнело, тяжелой глыбой высилась над крышами луковица церкви.
На скамье под яблоней, мимо которой он давеча прошел, сидел кто-то. Степан даже вздрогнул от этой неожиданной встречи – на скамейке сидела Наталья.
– Чего тут ходите? – сказала она с усмешкой.
– А что, нельзя?
– Почему нельзя, можно, да только об эту пору вы уже спите.
Степан сел на другой конец скамейки.
– А ты почему одна? – спросил он.
– А с кем мне быть?
– Ну, с подругами, с парнями.
– Я не девка, – грустно сказала Наташа. – Я уж вдова. – И она рассказала, как два года назад утонул на сплаве ее муж, и купец взял ее из жалости работницей в свой дом.
– Только одно и название, что замуж выходила – месяца не прожили, – сказала она и грустно улыбнулась.
– А хороший муж был? – спросил Степан.
– Да кто его знает, – помолчав, сказала она. – Мало пожили вместе, не знаю...
– А чего за другого замуж не пойдешь? Вон у вас сколько парней – песни поют, на гармошке играют...
– Да как – пойдешь-то? За хорошего пошла бы, да не берут.
– Не все же одной жить?.. – сказал Степан.
– Это уж как выйдет, не своя воля, – тихо, покорно сказала Наталья, и Степану стало жалко ее. Он протянул руку и тронул ее за плечо. Она вздрогнула и изумленно уставилась на него.
– Вы что?..
Степан отдернул руку. Ему сделалось отчего-то нестерпимо стыдно. Он поднялся со скамьи.
Наташа молча исподлобья смотрела на него.
– Пойду, – сказал он.
Она не шелохнулась, ничего не сказала.
Степан потоптался возле скамейки и медленно пошел по тропе.
Чего она испугалась? Разве он хотел ее обидеть? Ему просто стало ее жалко. Но отчего-то ему было и стыдно, хотя он и сам не знал отчего.
Во флигеле Петр Андреевич спал, уронив книжку на пол. Степан разделся и тоже лег, но сна не было, и он лежал, уставясь в окно, – над занавеской виднелось черное звездное небо. Уже ночь, а Наташа, должно быть, сидит сейчас на скамейке и плачет. Степан поворочался в постели, но вид горько плачущей Наташи не выходил из головы. Он не вытерпел, поднялся, оделся, осторожно вышел во двор и пошел в сад. Но на скамейке было пусто. И, постояв, посмотрев на спокойное звездное небо, Степан вернулся во флигель.
Утром Наташа убирать комнату пришла после их ухода, и Степан опять стал думать, что обидел женщину.
После обеда Ковалинский пристроился отдохнуть в алтаре, а Степан, как обычно, взялся за работу. Он только успел развести краску, как услышал, что кто-то за его спиной хихикнул. Он оглянулся. Под сводом стояла Наташа в синем переднике, в белом, до глаз, платке.
– Ты чего здесь? – спросил Степан.
– Я хочу посмотреть, как ты рисуешь.
Степан был удивлен. Ведь он думал, что она обиделась на него.
– Значит, ты не сердишься?
– Из-за чего мне сердиться?
Он оставил краски и подошел к ней. Они были одного роста, глаза в глаза. Наташа лукаво улыбнулась.
– Что же не рисуешь?
Ее горячее дыхание коснулось его лица.
– Правда, не сердишься?
Наташа тихонько засмеялась.
– А если сержусь? – И такой сладкой незнакомой тайной женщины повеяло вдруг на Степана, что он мигом покраснел и потупился.
– И-и, какой ты!.. – не то удивилась, не то обрадовалась она и как-то властно, смело потрепала его за волосы. И Степан, сам того не ожидая, ткнулся губами куда-то ей в лицо. Наташа оттолкнула его сильными руками и тихо, рассудительно сказала:
– В церкви миловаться грех. – И едва слышно шепнула: – Вечером приходи в сад, – и убежала.
Но вечером Степан не пошел в сад. Он и сам не знал, почему не может, как вчера, пойти по тропинке между яблонь. Он притворился, что спит, но он не спал. Ковалинский уже похрапывал с тонким присвистом, а Степан лежал и говорил себе: «А что, вот встану сейчас и пойду». Но воображение тотчас рисовало толстощекое лицо Наташи, широкие плечи, сильные руки, слышался шепот ее, – и Степан зажмуривался, точно в ожидании удара, и никакая сила не могла заставить его выбраться из-под одеяла. Мало того, вдруг ему вспомнилась Варвара Сергеевна, как она одергивает, оглаживает на нем пиджак, и эти ее легкие прикосновения, близкие и такие прекрасные глаза!.. И Наташа вмиг потеряла всякую власть над его фантазиями. Так с видением прекрасных глаз Варвары Сергеевны и уснул Степан.
Утром он неожиданно столкнулся с Наташей во дворе, когда шел в церковь. Наташа тащила полное помойное ведро к яме и, увидев его, замедлила шаг, ведро качнулось, помои плеснулись и окатили ей голые крепкие ноги. И Степан, глядя на эти окаченные помоями ноги, пробормотал «доброе утро» и быстро прошел мимо.
Больше они с Наташей не обмолвились ни словом. Оба делали вид, что не замечают друг друга.
В последние дни Ковалинский и Степан оформляли иконостас, вставляя в него написанные иконы. Принимать их работу пришли многие именитые жители города, священники и прочие церковнослужители. Работа художников понравилась всем, но особенно долго разглядывали они настенные картины. На одном из сводов была написана Мария Магдалина, Христос и толпа грешных, злых судей. Мария была очень похожа на купеческую работницу Наташу, но этого никто из них не заметил.
10
Из Казани Ковалинский и Степан уезжали в самый разгар весны, назад возвращались в середине лета. На пристани Ковалинский нанял извозчика. В городе стояла несносная жара, на улицах висела пыль, и после речной прохлады здесь нечем было дышать. Степан не успевал отирать с лица пот. А народ – как на ярмарке. Даже Покровская улица, весной такая тихая, безлюдная, преобразилась.
Первой, кого Степан увидел, была Анюся. Без платка и в легком платьице, она сбежала с крыльца и повисла у отца на шее.
А на крыльце уже стояла Варвара Сергеевна. Степан даже толком и не разглядел ее – так смутился, так предательски заколотилось сердце!.. Схватив первый попавшийся под руку чемодан, Степан втащил его на крыльцо и унес в мастерскую и оттуда с каким-то ревнивым чувством вслушивался в радостную беготню и суетню, поднявшуюся в доме. И еще он ждал, что вот сейчас его позовут, может быть, сама Варвара Сергеевна войдет, улыбнется и спросит, как он там жил в Унже, не скучал ли?.. Но никто не шел, никто никуда не звал его, даже Фрося, будто Степана и не было в доме, будто не он рвался сюда, в этот дом, с таким нетерпением, а кто-то другой...
Наконец Фрося загремела в кухне кастрюлями. Варвара Сергеевна сверху крикнула:
– Фрося, неси обед!
И Степан замер, затаился. Вдруг ему захотелось убежать из дому – пусть поищут его, пусть поволнуются! Выждав минуту, когда Фрося тяжело затопала вверх по лестнице, Степан, никем не замеченный, выбежал из дому.
Дневная жара уже спадала, но город по-прежнему был шумен и полон народу. И в этом шуме, гомоне и толкотне Степан мало-помалу забылся, а дорога, которую он и не выбирал даже, привела Степана к кремлю, к башне Сююнбеки. Впрочем, знакомым оказался только цоколь – тяжелый, серый, с зеленоватой плесенью. Но на ступеньках портала, как тончайший золотой ковер, лежал теплый солнечный свет. Этот солнечный свет облил и всю башню и пронизывал ее насквозь через большие арочные окна всех ее этажей, а восьмигранная бочка была так легка, что тяжелый шпиль, казалось, каким-то чудом парит в воздухе на крыльях орла.
Степан глядел и не узнавал свою башню. Его грудь наполнялась каким-то благоговейным волнением перед этим чудом, возникшим из единства солнца и камня. Наверное, древний создатель на это и рассчитывал, это и творил – иначе зачем она, башня?.. Может быть, царица Сююнбека вот в такой же солнечный вечер поднималась по гулкой каменной лестнице, чтобы осмотреть свою шумную столицу, увидеть блеск волжского простора и тускнеющую пыльную даль степей?.. И в ту минуту вся Казань лицезрела, должно быть, в сквозной восьмигранной бочке, в сиянии вечернего солнца свою прекрасную Сююнбеку... так же, впрочем, как и сейчас, любой, кто взглянул бы вверх, мог увидеть в одном из арочных окон Степана Нефедова. Однако никому не приходило в голову смотреть туда, даже редкие фигурки людей в самом кремле спешили куда-то.
Но какое чудесное зрелище представляла из себя Казань сверху! Все было видно как на ладони. И в то же время ничего нельзя было разобрать: ни улиц, ни отдельных строений. Только шпили минаретов да сияющие купола церквей разбивали живую, но тяжелую мозаику расплывшегося по земле города...
А солнце, багровое и огромное, рассеченное тонкой полоской горящей по краям тучи, уже катилось по краю земли, небо лучилось насквозь – высокое и чистое, и, будто несомые ветром листья, скользили в вышине ласточки. Да и вокруг башни все гуще и гуще носились дикие голуби, сердитым треском крыльев пугая Степана, – должно быть, он занял их обиталище, которое они унаследовали от прекрасной Сююнбеки. И Степан, последний раз поглядев на угасающие луковицы церквей, начал спускаться вниз по гнилой деревянной лестнице.
11
Скоро Ковалинский опять начал собираться в дорогу – на этот раз он подрядился расписывать собор в Арске, в уездном городишке за шестьдесят верст вверх по Казанке. Работа предстояла большая, и Ковалинский с ног сбился в поисках второго помощника – мастера, однако время было неподходящее – лето, самый разгар работы у иконописцев, и вот накануне отъезда он привел маленького тщедушного старичка с козлиной бородкой, которая у него постоянно дергалась, точно старик хотел сказать что-то смешное, веселое, отчего сам уже смеялся, но так и не решался сказать это смешное вслух. Звали старика Никоныч – так называл его Ковалинский. И был он в самом деле веселый и разговорчивый, так что Ковалинский частенько приказывал ему замолчать.
– Молчу, ваше панство, молчу! – готовно вскрикивал Никоныч, смешно таращил веселые плутоватые глаза и подмигивал Степану, чуть только Петр Андреевич отворачивался.
Никоныч рисует в очках. Руки у него дрожат. Когда ему приходится выполнять тонкие детали иконы, к примеру глаза, он часто обращается к Степану:
– Иди-ка, сынок, поправь.
И пока Степан пишет глаза, старик откладывает кисть, достает из кармана табакерку с нюхательным табаком и, набивши им угрястый нос, заводит какой-нибудь рассказ о том, какое вот однажды дело было, лет десять тому, как расписывали они с артелью церковь в женском монастыре, а хозяин такой был бабник, такой бабник!..
И если его не обрывал Петр Андреевич, следовал такой откровенный и подробный рассказ, что у Степана краснели уши.
Никоныч, говоря, отправлял в нос все новые порции табаку, рассыпая себе на рубашку и на палитру с краской.
В первые дни они со стариком больше всего работали вдвоем. Ковалинский улаживал финансовые разногласия с настоятелем собора и старостой, но те упрямились, и Петр Андреевич безуспешно грозился поехать в Казань и жаловаться на них. Тогда настоятель со старостой начали придираться к их работе. Настоятель однажды даже пустился в дискуссию, указывая на только что написанного апостола.
– Что это у вас за апостол? Это не апостол, а какой-то мужик-голодранец!
Но Никоныч ответил ему вполне разумно и красноречиво:
– Кто же был, по-твоему, апостол Петр? Граф? Аль, может, князь?! Петр был простым мужиком! Иисус увидел его с братом, закидывающим сети в море, «ибо они были рыболовами».
– Мало ли кто кем был, важно, кто кем стал! – воскликнул настоятель с сознанием собственной важности.
Но Никоныч и тут нашелся:
– Ну, это уж и вовсе не от бога, а от полицейского участка. Если бы Петр ради фелони[3]3
Фелонь – верхняя одежда священника.
[Закрыть] пошел за Христом, а то ведь он пошел трудиться и страдать!
Настоятель вспыхнул, насупился, повернулся и, раскидывая полы рясы, быстро вышел вон. Староста погрозил Никонычу пальцем и выбежал следом.
После этого настоятель и староста ни разу не показывались в соборе, а Степана так поразила эта победа старика над важным и заносчивым настоятелем, что он без всякого зова помогал Никонычу дописывать лики на иконах, но просил, чтобы старик не говорил об этом Петру Андреевичу.
– Нет, не скажу. На кой ляд мне говорить об этом? Хозяин – он есть хозяин. Только вот не понимаю, из-за какой корысти ты так для него пыжишься? Хозяйских дел, сынок, никогда не переделаешь.
– Я, Никоныч, люблю рисовать, для меня нет занятия приятнее, – сказал Степан.
Старик с сомнением покачал головой:
– Не понимаю, чего тут приятного. Лучше займись молодой монашенкой. В твои годы я, брат, ощупал всех молодых монашек в Казанской губернии.
– Мне, Никоныч, кроме рисования, ничего не надо!
– Глуп ты еще, как я погляжу, – вполне серьезно сказал Никоныч. – Для художника женщина первое дело. Ты, может, думаешь, что станешь настоящим художником, если с утра до потемок будешь писать эти лики? Как бы не так!..
– А что надо?
– А жить надо, вот что! – молодо воскликнул Никоныч. – Душе волю дать, вот что! – И сунул щедрую щепоть табаку в широкую, как труба, ноздрю. – А-а-пчхи! – раздалось под сводами собора. – Вот, правду говорю, – подтвердил он сам себе.
– А вот ты жил, отчего же настоящим художником не сделался? – спросил Степан.
Никоныч как-то странно заволновался, задергал плечами и, пробормотав:
– Я – другое дело, особый тут сказ, – замолчал, насупился и принялся за толстую, осанистую фигуру святой Екатерины. И в таком необыкновенном молчании старик усердно трудился до вечера, до прихода Ковалинекого. А когда тот посмотрел на его работу и спросил, сам ли он это написал, старик даже обиделся:
– Кто же сделает за меня? Аль ты вовсе забыл, как я раньше-то писал?
– Ну, верю, верю, – торопливо сказал Ковалинский.
– Ну, раз веришь, так дал бы ты мне, Андреич, в счет моего заработка хотя бы полтинник, а то что-то поясницу заломило.
– Никаких полтинников, Никоныч. Как договорились, так и будет. А насчет поясницы ты мне брось, мы сюда приехали работать, а не редькой натираться, – строго проговорил Ковалинский и опять посмотрел на законченную икону. – Что-то не нравится мне твоя Екатерина...
И тут Никоныч обиделся всерьез, заругался бранными словами, плюнул под ноги и пошел вон.
Степану было жалко старика, и он подумал, что отдаст ему рубль, который имелся у него.
– Ты поменьше слушай этого старого болтуна, – сказал Ковалинский, – у него нет совести, он может наговорить тебе такое... Он жизнь свою разменял на всякие глупости и пустяки, а теперь вот ни дома, ни семьи и гол как сокол. Я ведь его пожалел и взял с собой, чтобы он с голоду в Казани не помер. Толку от него мало, а языком болтать горазд...
Но Ковалинский что-то недоговаривал, и Степан это чувствовал. Тайна старика еще больше заинтересовала Степана.
Они вышли из сумрачной прохлады собора на тихий закатный свет солнца. Где-то в конце улицы щелкнул кнутом пастух, слышалось мычание коров, возвращающихся с пастьбы, и зазывные голоса хозяек.
– Дочка! Дочка!.. – звучал близко особенно звонкий и сильный голос.
Ковалинский и Степан шли возле железной решетки вокруг собора, и Петр Андреевич говорил:
– Завтра я поеду в Казань, надо уладить дела да посмотреть, как у нас дома. Ты тут останешься за старшего, я уже об этом предупредил настоятеля. Так что посматривай за Никонычем, как бы он не напился. Ежели ему попадет капля вина, тогда он больше не работник. – И добавил с тяжелым вздохом: – Эх, люди, люди...
Степан неопределенно пошевелил плечами. Как ему смотреть за Никонычем, ведь он не ребенок...
Они обошли собор и опять остановились у паперти, наблюдая, как стадо идет по улице в облаке густой золотистой пыли.
Ковалинский уехал рано поутру с почтовым ямщиком. Никоныч, когда узнал это, обрадовался и повеселел.
– Сроду под хозяйским глазом работать не любил, – сказал он. – Я что, каторжный какой, что ли, чтобы за мной надзирать? Я свободный художник, и хочу – работаю, хочу – нет, а если заработал – плати, и точка.
– А за что ты хозяев не любишь? – спросил Степан.
– А за что их любить? – живо отозвался Никоныч. – Хозяин – не баба, для него сколько ни старайся, сколько ни люби, ему все мало, он тебя до последней капли высосет, а потом и вытолкнет и спасибо не скажет. Знаю я эту породу.
– И Петр Андреевич такой же? – спросил Степан с улыбкой – он почему-то не принимал всерьез ворчание старика.
– А какой же еще? Такой и есть и сроду таким был – ведь я его давно знаю...
Степану хотелось спросить, что же Никоныч знает, но он промолчал и ждал, пока старик нанюхается табаку, – может, он и сам заговорит.
– Табачок, однако, кончается, – печально сказал Никоныч и бережно закрыл жестяную баночку. – Купить бы надо, да купило мое хозяин в Казань увез. Али тебе оставил, а? – вкрадчиво спросил он у Степана. – Нет, не оставил? Ну, так я и знал, так и знал, он такой, Петька-по́ляк такой, своего не упустит, да и чужое к рукам приберет. – Никоныч покосился на Степана. – Он тебе какую плату-то положил?
Степан пожал плечами.
– Ну вот, вот, я и говорю – всю жизнь везет ему на таких дураков, вроде меня да тебя. Через кого он, думаешь, в люди-то вышел? А, не знаешь! Да вот через меня! – вскрикнул Никоныч.
– Как? – изумился Степан.
– Да вот так! О, не знаешь ты, парень, как в прежние годы Никоныч писал! Меня, брат, с молодых лет по имени-отчеству величали за тонкую работу, да не кто-нибудь, а сам архиерей. Да у любого православного и нынче спроси, какой Никоныч художник был, всякий тебе скажет. – Очки у старика съехали на самый кончик носа, и белесые глаза сияли детским, простодушным восторгом. – Такие, брат, дела. А Петька-то-по́ляк и подъехал ко мне этаким бесом: Иван Никоныч да Иван Никоныч! Ну, а мне что – гляди, не жалко. Правда, поизголялся я над ним, был грех, был. Когда выпивши бывал, я уж любил покуражиться. Куда, говорю, ты своим лютеранским рылом в православную веру лезешь? Вот, говорю, отчего лики-то у тебя какие-то базарные получаются, а не духовные! До слез так-то парня доводил, до слез. Крестился, говорю, нынче, «Отче наш» читал? «Читал, Иван Никоныч, читал!» Ну, правду сказать, переимчивый он был, ловкий, все с лету схватывал. Да и куда пошлю, за водкой там или за табаком, живо бегал. За это я его уважал. – Никоныч опять открыл баночку, собрал щепотью табачную пыль, сунул в нос, прочихался и продолжал с веселой ухмылкой: – Вот однажды дело такое было – писал я для купца Николаева «Успение». Плату он хорошую положил, да и задатку дал изрядно. Хорошо у меня дело пошло, да запил я. А Николаеву как приспичило – подай да подай ему «Успение». Ну, а мне тоже шлея под хвост попала, понесло меня, христового, остановиться не могу. И вот Петька это сделал – дописал икону-то кое-как да снес ее Николаеву. Чего уж там у них вышло, каким он к купцу бесом подъехал, да только после того к нему в дом и зачастил, и зачастил. А через годик-то купеческую дочку, Варьку-то, и сосватал. Тут уж у него дела-то и пошли: и дом купил, и мастерскую свою завел, хозяином сделался, а ко мне уж и не ногой... Старик печально вздохнул, уронил голову на грудь и так посидел молча. От того воодушевления, с каким он начал рассказ свой, не было и следа.
– Вот я тебе и говорю, – тихо сказал он,– все они, хозяева, одним миром мазаны... – Он опять открыл баночку, поскреб в ней пальцами, но табаку не набиралось. – И табачок весь...
Степану стало жалко старика, но чем ободрить его, он не знал. Да и самому ему было отчего-то тоскливо и грустно, писать не хотелось, он отложил кисть и глядел в окно, забранное кованой решеткой – серые низкие тучи плыли по небу.
– Так правда, что ли, не оставил хозяин казны-то тебе? – спросил Никоныч.
Степан пошарил в кармане пиджака, нащупал свой полтинник и подал старику. С радостным восторгом схватил Никоныч монету и быстро выбежал из собора, точно боялся, что Степан передумает и отнимет деньги.
Весь этот день Степану не работалось. Он брал кисть, делал мазок-другой, подолгу смотрел на карандашный набросок, по которому надо было писать евангелиста Матфея, но вместо Матфея вставали перед глазами то Колонин и картины алатырской своей жизни, то Никоныч. И воображалось, каким тот был в молодости, как писал, как учил Ковалинского рисованию. И думалось: почему судьба так немилостиво обошлась с Колониным и Никонычем, а Ковалинский стал хозяином, берет крупные заказы и нанимает мастеров, заставляет их писать, и считается, что это все его работа?.. Но ясного ответа не приходило в голову.
К вечеру в собор неожиданно вошел настоятель, долго и мрачно глядел на готовые иконы, а потом подошел к Степану и, глядя куда-то сквозь стекло алтарного окна, сказал:
– Иди и подбери на улице своего товарища. Напился, как свинья.
Пришлось идти и подбирать бесчувственного старика. Степан притащил его в соборную сторожку и уложил на соломе.
Сам он спал в соборе, хотя ночи уже начинались холодные. Утром, когда он пришел в сторожку, чтобы позвать старика поесть, Никоныча уже не было там.
12
Ковалинский приехал дней через пять.
Никоныч не работал, пил, валялся в сторожке на соломе и снова пил, и Ковалинский, кажется, этому даже не удивился. Степан все это время работал один.
– Прогоню, сегодня же прогоню, чтоб духу твоего здесь не было! – ругал Ковалинский Никоныча.
Старик молчал.
Выговорившись, Петр Андреевич поуспокоился и принялся за работу. Вскоре приволокся в собор и Никоныч. Ковалинский, косо и зло поглядев на него, промолчал.
Руки у старика дрожали. Кисть вываливалась, сам он едва стоял на ногах. Наконец Никоныч слезно взмолился, упав перед хозяином на колени: «На шкалик!.. Не дай умереть!..»
– Никаких шкаликов до окончания работ ты от меня не получишь! – неприступно, жестко ответил ему Ковалинский.
Никоныч затряс бородкой. Глаза у него заблестели.
– Ты видишь, хозяин, я плачу и рыдаю...
– Плачь и рыдай на здоровье.
– Бездушный! – заорал вдруг визгливо старик. – Ты всегда был таким, нехристь!..
Ковалинский не моргнул и глазом, точно не слышал.
Но тут в собор ворвалась попова стряпуха.
– Ах, ты вот где! – закричала она, увидев в темном углу Никоныча. – Где деньги? Попросил у меня на час, а сам не несепть третий день! Выкладывай их сейчас зже!
Никоныч, жалкий и несчастный, стоял перед толстой стряпухой, как провинившийся мальчишка.
– Ты мне не крути бородой! Ты мне деньги подавай сию минуту! – грозно наступала на него стряпуха.
Тут Ковалинский не выдержал, швырнул кисть и подошел к ней.
– Сегодня отдаст, только не ругайтесь в церкви.
– Чего мне церковь?! За свои кровные я где хошь молчать не буду!
Жирное тело стряпухи тряслось, как студень на блюде. Ковалинский осторожно взял ее под руку и, мягко уговаривая, вывел из собора.
– Не беспокойтесь, сегодня же он вам вернет ваши деньги. Много он у вас занял? – спросил он, когда они уже очутились на паперти.
– Целковый! Вот этими руками отдала. Христом-богом клялся, паразит. Думала, он порядочный человек, богомаз!..
Никоныч с каким-то изумлением и жадным любопытством слушал ее голос, точно речь шла не о нем.
Когда Ковалинский вернулся, Никоныч как подкошенный грохнулся ему в ноги.
– Не буду больше пить, Петр Андреич, вот тебе истинный Христос, не буду!
– Довольно и того, сколько пил, – гневно крикнул Ковалинский, даже не повернув в его сторону головы.
– Больше не буду! Не буду!.. Прогонишь, сдохну с голода.
По седой бороде Никоныча, словно светлые бусинки, скатывались крупные слезы. Его костлявым коленям, видно, было больно стоять на каменном полу, и он то и дело переминался, упираясь обеими руками в плиты.
– Довольно прощал я тебя. Теперь хватит, – решительно проговорил Ковалинский и непреклонно добавил: – Боишься помереть с голода, иди в богадельни.
Никоныч, поняв тщетность своих молитв, замолчал, поднялся на ноги, потер колени руками и, сгорбившись, вышел из собора. Степану так жаль стало старика, что он не выдержал и сказал:
– Куда ему теперь деваться?
– Это не мое дело. Пусть сам подумает.
– Ведь он правда может помереть с голода...
– И хорошо сделает. Сам успокоится и других освободит, – сказал Ковалинский ледяным голосом.
Степан впервые почувствовал в нем эту жестокость. Он всегда ему казался мягким и добросердечным. Конечно, Никоныч поступил плохо, он мало работал и опозорил их на весь Арск. Но ведь он плакал, он так несчастен, да и не мало, как оказывается, сделал для Ковалинского...
– Я не согласен, что ты его прогнал, – проговорил Степан, набравшись храбрости.
– А я в твоем согласии не нуждаюсь. Поступаю так, как того требует дело, – раздраженно ответил Ковалинский.
– Тогда прогони и меня,– сказал Степан и положил кисть на подставку, на которой стояла доска.
– Я никого не держу силой, уходи и ты, если тебе у меня не нравится! – Голос Ковалинского нервно задрожал. – Сегодня же поеду в Казань и привезу других мастеров. Я взял заказ и должен выполнить. У меня нет возможности потакать пьяницам!
Степан молча развязал фартук, бросил его на пол и вышел из собора. Тут он увидел Никоныча, который выходил из сторожки с котомкой за плечами.
– Пообедал бы сначала, – сказал ему Степан.
– Пусть сам хозяин подавится своим обедом! – зло крикнул старик, чтобы слышал Ковалинский в соборе.
Степан спустился по каменным ступеням и пошел рядом с Никонычем.
– Куда ты теперь пойдешь? – спросил он его.
– В Казань, куда мне больше идти. За два дня, может, доберусь, – проговорил старик невеселым голосом.
Они шли по улице. И встречные люди, как Степану казалось, с презрением узнают Никоныча. Но старик не обращал на них внимания. Внезапно он заулыбался.
– Вот и хорошо! Пусть теперь за меня долги отдает сам хозяин – я ведь рублей пять набрал, а может, и больше. Вот и ладно!..
Степан с изумлением смотрел на старика, на его улыбку, на беспечальную радость.
– Теперь бы вот на прощание разломить полбутылочку, идти-то бы веселее было. У тебя нет денег?
Степан молча продолжал смотреть на него. Давеча он плакал, стоя на коленях перед хозяином, божился именем Христа, что больше не будет пить, а теперь смеется, шутит и просит денег на выпивку!.. Как это все понять? Не прав ли в таком случае Ковалинский? Зачем он вмешался в ссору между хозяином и глупым стариком? От этих мыслей Степана пробудили с шумом пролетевшие над его головой скворцы. Они черной тучей опустились на жнивье и сразу же исчезли. Степан оглядел пустынное поле с темным леском вдали, серую казанскую дорогу с шагающим с котомкой человеком и повернул к городу.
Ковалинский работал. На лице его было какое-то яростное ожесточение, и кисть только мелькала. Он даже не взглянул на Степана.
Степан поднял с полу фартук, повязал за спиной тесемки и взял кисть.
До вечера они не сказали друг другу ни слова.
Когда в соборе стало темно, Степан вынес иконную доску на паперть и принялся писать здесь. Ковалинский остановился возле него. Он сказал мягко, спокойно, как прежде:
– Мне, признаться, Степан, не понравилось, что ты заступился за этого пьяницу. Он был, и его больше нет. А нам с тобой, может, придется еще долго работать вместе. Так стоит ли из-за каждого пустяка затевать ссору?
– Мне было его жалко, – сказал Степан. – Он заплакал...
– Никогда не верь слезам пьющего человека, Степан. Он где плачет, там и смеется. И словам не верь. Пьяница никогда не сдержит слова. Скажет тебе одно, а поступит наоборот. Ты еще слишком молод, и таких отпетых людей, как Никоныч, тебе не приходилось встречать. Да и всех не пережалеешь. А ежели станешь жалеть, то и сам останешься ни с чем. Жизнь, Степан, суровая штука, в ней нет места для жалости. Запомни, тебя никто не пожалеет. Тот же Никоныч первый пнет тебя, когда споткнешься. У людей закон таков: богатому поклоняются, на бедных плюют. Рассуди сам, кем быть лучше и удобнее...
Степан слушал, не перебивая и не задавая вопросов. Да и о чем он мог спросить, чего он знает и понимает? В жизни он стремился лишь к одному – к рисованию. Других интересов у него никогда не было. Теперь он рисует. У него для этого есть все, что же еще нужно? Зачем так просто давеча сказал, что пусть и его прогонит Ковалинский, если прогонит Никоныча? Но для Никоныча рисование – ничто, и он легко ушел. А куда бы пошел Степан? Снова в железнодорожную мастерскую?.. Нет! Дело, которым он сейчас занимается, ни на что не променяет. Да и не так уж и неправ Ковалинский, а Никоныч не такой уж и несчастный...
13
Пришло время убирать леса – целый месяц после ухода Никоныча пролетел незаметно в ожесточенной и беспрерывной работе: Ковалинский не щадил пи себя, ни Степана. Но вот последняя икона святой Екатерины была написана, Ковалинский в изнеможении опустился на табуретку возле теплой печки и закрыл глаза. Он тихо, блаженно улыбался и так же тихо, не открывая глаз, сказал:
– Вот и все!..
Степан тоже измотался. Он уже не знал, не понимал, хорошо ли пишет, и работал последние дни как во сне.
Но собор заметно преображался – своды ярко голубели, по ним возносились ангелы, ехал на осле Христос к граду Иерусалиму, сопровождаемый толпами народа, архангел Михаил стоял в гордой воинственной позе, обнажив разящий меч, фарисей с мытарем входили в некий храм замолить свои тяжкие грехи и причаститься святыми... И все это сквозь жерди лесов сияло свежими красками, просилось, прорывалось наружу, на свободу. Но Степан уже ничего этого не видел – какое-то равнодушие ко всему на свете одолело его.








