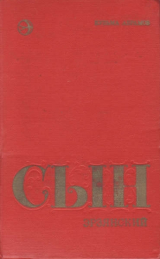
Текст книги "Сын эрзянский. Книга вторая"
Автор книги: Кузьма Абрамов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц)
– Нету, – грубо отвечал Степан, точно спохватясь, что если будет рассуждать, то даст себя уговорить. Но Иван был терпеливый.
– Конечно, – сказал он, – иконы – дело хорошее, если научишься их писать. Да ты научишься, я знаю, ты парень ловкий, голова у тебя есть. Но в жизни, Степа, всякое умение сгодится, мало ли что. Вот дед Охон – помнишь его? – ну вот, он, бывало, говаривал: «Всякое ремесло под старость хлеба добудет, учись, Ваня, всему, что бог пошлет».
Между тем к Степану подошла Вера и, упираясь в него своим большим животом, мягко и властно стала расстегивать пуговицы на пиджаке и приговаривать:
– Пойдем-ка, братушка, сначала позавтракаем. На сытый живот и капризничать лучше.
– Я не капризничаю, – отозвался Степан, и у него не хватило сил оттолкнуть ее руки.
– Тогда, наверно, капризничает Петярка, до сего времени не может слезть с печи, – с улыбкой сказала Вера и весело крикнула Петярке: – Скорее, сыночек, слазь да садись за стол, а то отец с дядей всю кашу съедят.
Степан нехотя снял пиджак, нехотя сел за стол, подталкиваемый Иваном. Позавтракать, конечно, неплохо, голодный куда пойдешь. Поест сначала, потом снова оденется, и уж заставит брата отвести.
Петярка прямо с печи кинулся к столу. Мать поймала его и отправила умываться в предпечье. Тут и Степан вспомнил, что он тоже не умылся. Пока они с Петяркой находились в предпечье, Иван о чем-то шептался с Верой, но Петярка плескал водой, и Степан ничего не разобрал, однако, когда сел за стол, по их лицам увидел, что они что-то затеяли.
После еды Степан хотел одеться. Но Иван опередил его, взял пиджак.
– Никуда сегодня мы с тобой не пойдем, – сказал он уже строже.
Степан исподлобья взглянул на Веру, поднял с пола шапку и в одной рубашке выскочил из избы.
– Не беспокойся, никуда не денется, – улыбаясь, сказала Вера. – Сейчас не лето, постоит немного на улице и придет домой.
Иван ушел в переднюю избу и принялся за дело. Выходки брата вывели его из равновесия, он тесал и строгал с раздражением, испортил один шип – не там выдолбил долотом, бросил инструмент. Иван никак не мог понять младшего брата. Что ему надо? Кормят его, поят, живет в тепле, учат столярному ремеслу, а ему подавай что-то другое. Попробовал бы он со своими капризами побродить, как они с дедом Охоном, по зимним дорогам в зипунишках в поисках работы и куска хлеба. Такого бы дед Охон ни одного дня не стал держать возле себя. Сыну, конечно, не дозволено обвинять отца, но все равно Иван недоволен был отношением отца к Стенану. Это отец с малых лет потакал ему, вот он и вырос таким упрямым и непослушным. Да и работать не любит, привык к даровым хлебам. Он, Иван, с восьми лет начал работать, пас с дядей Охремом стадо, в десять лет пахал, в пятнадцать с дедом Охоном плотничал. Этот же ничего не делает...
Время подвигалось к полудню. Иван несколько раз выходил во двор, на улицу. Степана не было видно. Вера сначала все говорила, чтобы не беспокоился, а потом и сама заволновалась, накинула на плечи овчинную шубу, пошла к соседям спросить, не заходил ли Степан. Но и там его не было. Тогда Вера обыскала весь двор, может, где-нибудь прячется? Заглянула и в закут к поросенку, – кто знает, может, там Степан прячется от холода? Но его не было нигде. Тут уж они забеспокоились по-настоящему. Иван оделся и пошел разыскивать его по городу.
Побродив немного по улицам, Иван вернулся, – и в зипуне-то холодно, не то что в рубахе.
– Если уж домой отправился?..– предположил он, и его не удивила нелепость такого предположения. Иван сидел, не снимая ни зипуна, ни шапки.
– Вот замерзнет где-нибудь, ты будешь виноват! – точила его Вера, словно сама была ни при чем.
7
А Степан, как только выбежал от брата, зашагал по улице вверх, в гору. Он не знал, куда направляется, все равно куда, лишь бы не оставаться у брата.
А день был базарный – пятница. Венец кишел людьми, ближние улицы плотно заставлены подводами. Но Степан уже привык к толпе, к шуму, гвалту базарной торговли. Он прошел по хлебному ряду. Здесь от теплого хлебного духа было теплее, чем в других рядах. Но прошел другой, пятый раз, на него стали оглядываться, да и холод пробирал уже до костей. Куда? Возвращаться к брату? Ему пришла мысль погреться в соборе. Но обедня уже кончилась, народ вышел из собора, на паперти женщина в черном мела березовым голиком. Она косо зыркнула на Степана. Он постоял, огляделся, ежась на зябком промозглом ветру. Вдруг женщина сказала:
– Пойди в сторожку, погрейся. – И махнула голиком куда-то за плечо. И правда, в ограде собора, под высокими черными березами стоял маленький неприметный белый домик. Степа бежал туда, смело толкнул тяжелую дверь.
Старик, должно быть – сторож, сидел возле окошка на низенькой скамеечке и подшивал старый валенок. У старика была одна рука, другой рукав подвернут и подшит к плечу. Одной рукой ему, видимо, было очень трудно справляться. Степан поздоровался: «Доброго здоровья...» – и в нерешительности остановился у двери. Старик снял с бородавчатого носа круглые очки, прицепленные за уши петлями из витых ниток, и посмотрел на вошедшего.
– Чего тебе, паренек?
– Да вот... ходил но базару... решил зайти к вам погреться, – ответил Степан.
– По базару ходил? – протяжно произнес старик и удивленно принялся разглядывать его. – Что же в одной рубахе? Знать, живешь где-нибудь поблизости?
– Да нет, – признался Степан, – живу далеко.
– Ну что ж, грейся, – помолчав, сказал старик и велел сесть поближе к теплой печке, а сам снова принялся за валенок. В сторожке было тепло, пахло плавленым воском. В переднем углу горела лампадка, слабо освещая какую-то большую, от пола до потолка, картину. Степан вгляделся. Иисус, босиком, стоит на белом облаке. Картина была старая, тусклая. Ее, верно, вынесли сюда из собора за ненадобностью. Рядом с картиной на стене тикали ходики с двумя медными гирьками, и Степан глядел то на картину, то на ходики, а старик молча возился с валенком. Может быть, он совсем забыл о Степане? Степан решился напомнить о себе, – старик казался ему добрым человеком. Кашлянув, сказал:
– Отчего, дедушка, не бьешь часы днем, а только ночью?
Старик, сплюнув с губ дратву, не сразу ответил:
– Ночью люди не видят солнце, не знают, сколько времени, надо им сказать. Вот я и бью ночью.
И опять молчание. Только неутомимые ходики частят – тик-так, тик-так.
Наконец старик отложил валенок в сторону и так же молча прошел за печку, где на полу стояло ведро с водой, небольшой чугунок и лукошко с картошкой. Он положил в чугунок несколько картофелин, плеснул ковш воды, помыл их и воду вылил в щели между половицами. Одной рукой кое-как порезал картофелины, залил водой, бросил туда горсть просяной крупы. Чугунок сунул в печку на горячие угли.
– Что же ты, дедушка, не почистил картошку? Разве из нечищеной картошки варят суп? – спросил Степан.
– Варят, сынок, коли нечем чистить. Одной рукой много ли начистишь.
– Я бы тебе почистил!
– Сегодня ты мне почистишь, а завтра кто? – сказал старик насмешливо.
В голове у Степана сверкнула мысль: остаться жить со стариком, он бы ему все стал делать – чистить картошку, носить воду и дрова, а ночью выходил бы бить часы.
– Если бы ты мне разрешил, то я всегда бы стал тебе чистить картошку, – проговорил Степан робким голосом. – Совсем бы остался жить у тебя.
Мохнатые и седые брови старика взметнулись вверх. Он молча смотрел на Степана, потом спросил:
– А кто ты есть? Откуда?
Степан уже доверился доброте старика и быстро рассказал ему свою печаль. Помолчав, он еще раз для убедительности повторил:
– Отец ему наказал, чтобы он меня отвел, а он заставляет меня работать... У меня совсем нет охоты заниматься столярным делом, я хочу рисовать.
– Писать иконы, сынок, дело трудное. Всякий их не может писать. Для этого надобен талан. – Он поднял глаза на икону в углу, перекрестился и продолжил: – Видишь, как написано. Иисус будто живой стоит перед нами. И не поверишь, что это сделано грешной рукой человека...
– У меня хотя и нет талана, – быстро заговорил Степан, – но все равно я умею рисовать. И эту икону смог бы.
Старик покачал головой.
– Не говори всуе, сынок. Не люблю, когда человек хвалится.
– Не веришь? – воскликнул Степан с чувством обиды.
Глаза Степана забегали по сторожке – чего бы найти такое, вроде широкой доски? Но кроме покрышки от ведра он ничего не увидел. Тогда он решил нарисовать Иисуса прямо на столе. Подошел к печке, достал потухший уголь и встал у стола. Старик недоверчиво качал головой и усмехался в бороду.
Степан довольно долго срисовывал на столешницу Иисуса на облаке. Он не торопился, рисовать углем на столешнице оказалось трудно. Между тем у старика сварился суп. Он вынул чугунок и принялся обедать, пристроившись на лавке. Несколько раз приглашал и Степана. Но тот не отзывался. Наконец Степан сказал:
– Вот, – и устало сел на лавку.
Старик не спеша облизал ложку, расправил бороду и подошел поглядеть. Лукавая улыбка медленно сошла с его доброго лица.
– Вай, посмотри-ка, ведь вправду нарисовал... – сказал он, не скрывая изумления. – Кто же так научил рисовать?
– Никто не учил, сам, – сказал радостный Степан, – теперь уж старик должен его оставить у себя жить!.. Но старик подал ему ложку и велел дохлебать суп из чугунка.
В сторожку зашли три старухи-нищенки. Они сложили свои мешки у двери на полу, сами прошли к лавке. Старик принес из сеней колотых дров. Степана он как будто не замечал. Потом старик сказал нищенкам:
– Подметите пол да печку затопите, воды скипятите – с горячей водой кусок легче в горло полезет. А я тут схожу по делу. – С порога он поглядел поверх очков на Степана. – А ты пока побудь, никуда не ходи.
Его не было довольно долго. Печка уже протопилась, вода вскипела, и нищенки развязали свои мешки. Чего там только не было! И куски калачей, и ломти ржаного хлеба, и куски пирогов! Господи, да в их доме у матери не бывало никогда таких хлебов. Правда, сегодня базарный день, подумал Степан. Ему было приятно, тепло, и он задремал.
Степана разбудил Иван. Он ткнул его в плечо и велел ему скорее надеть пиджак, который принес с собой. Рядом с ним, посмеиваясь, стоял старик. На столе горела свечка. Никакого Иисуса там уже не было видно. Наверно, нищенки стерли тряпкой уголь.
Степан, бросив злой взгляд на старика-сторожа, молча стал натягивать пиджак.
– Если не отведешь к иконописцу, сбегу, – проговорил он.
Брат ничего не сказал. Вместо него ответил старик:
– Отведет, завтра же отведет, к самому лучшему иконописцу в городе – Тылюдину. – И, видя, что мальчик не верит, ласково добавил: – Я уже сам у него был, договорился. Он тебя ждет.
Степан просунул один рукав и приостановился, ожидая, что скажет брат. Но брат молчал.
– Отведешь?
Иван сверкнул злыми глазами.
– Отведет, отведет, – поспешил заверить старик.– У парнишки талан есть, надо отвести.
Степан победно взглянул на брата. Но когда вышли из сторожки, Иван так двинул кулаком по спине, что Степан задохнулся.
– Я выбью из тебя эту дурь, ты у меня не будешь убегать из дома! Будешь меня позорить на весь город!..
8
Утром Степану приказали хорошенько «умыть рожу» и надеть чистую рубаху. Два раза не надо было повторять – через минуту он был готов.
– Посмотри, Иван, как брат-то наш торопится, – проговорила Вера. – Словно его на праздник позвали.
Иван промолчал. Он был хмур со вчерашнего.
Степан потянул с гвоздя новый пиджак.
– А вот пиджак оставь, – сказал Иван. – Истаскаенть зря. Надевай зипун.
– Знамо, зипун, – поддержала Вера. – Не в гости же, правда. У свиней убирать да дрова таскать и в зипуне добро. А то, думаешь, за так станут тебя держать?
Степан был сегодня так рад, что ему все равно в чем идти, главное – идти, его ждет настоящий иконописец. Он не слышал насмешки Веры. Он даже не видел сострадательного и жалеющего взгляда Петярки, прижавшегося к матери. Он и на улице ничего не замечал: ни промозглого, со снежной крупой, ветра с реки, ни людей, ни самого Ивана. Он забегал вперед и с разбегу катился по крепко застывшим лужам, разметая лаптями снег.
– Иди добром, – ворчал то и дело Иван. – Кому говорю?!
Они пришли на самую окраину – дальше были заметенные снегом огороды, кочковатый болотистый луг, кусты ракитника. Однако дома тут были новы, крепки. Дом иконописца оказался вторым от края, пятистенным, под железной зеленой крышей. Степан впервые видит такую крышу – зеленую, и благоговение и гордость охватывают его, – ведь и он тоже художник, ведь и он будет жить в этом доме под зеленой крышей.
А во дворе уже закатывалась хриплым лаем собака. Иван со Степаном остановились, боясь ступить на чистое крыльцо. Дверь отворилась, выглянул человек с черной бородкой, с прищуренным глазом. Иван сдернул с головы шапку и поклонился.
– А, это ты! – сказал человек приятным голосом и шире отворил дверь. – Ну, заходите, раз пришли.
Степан, во все глаза глядевший на иконописца, заметил, что волосы у него длинные, как у диакона, черные, с рыжеватым отливом. Но еще сильнее поразил его фартук, который был на человеке, – он был весь густо заляпан краской. Этой краски хватило бы на целую икону. Он вошел за Иваном в какую-то комнату, где сильно и густо пахло маслом, красками и сосновым деревом. У стены в ряд стола несколько икон. Степан перекрестился на них, но лишь потом заметил, что некоторые из этих икон еще не дорисованы. Он смутился, покраснел и спрятался за спину брата. Там он и услышал, как иконописец сказал веселым приятным голосом:
– Ну-с, где ты там, покажись!
Иван выдернул брата из-за спины.
– Вот...
– Так, так,– сказал художник, как-то странно щурясь и улыбаясь, оглядывая Степана с головы до ног. – Хочешь иконы рисовать?
– Хочу, – буркнул Степан, а художник отчего-то громко рассмеялся. Потом уже строже, без тени улыбки:
– Ладно, пусть поживет, там будет видно. – И, подумав с минуту, прибавил: – Если есть талант и желание, чему-нибудь да научится.
– Таланта у меня нету, но желание есть! – живо ответил Степан.
Тылюдин засмеялся.
Иван тоже не знал, что такое талант, но, должно быть, этим называется счастье, рассудил он и толкнул брата в бок.
– Молчи, дурак, – буркнул он. И уже громко, назидательно, скорей для хозяина, чем для Степана:
– Делай все, чего будут тебя заставлять, живи смирно, слушайся хозяев. – Потом низко поклонился, художник махнул ему рукой, и он вышел вон.
Степан остался один. Глаза его зверовато и жадно оглядывали комнату. На полу были сложены заготовки из досок – под иконы, догадался он. На стенах висели законченные иконы. На подоконниках двух широких окон, смотрящих на пойму, стояли баночки с красками, маслом, валялись кисти – большие и маленькие. В комнате остро пахло скипидаром и вареным маслом, и этот запах был до того сладок, до того приятен Степану, что ноздри у него раздувались от удовольствия. Это было то, о чем он мечтал уже давно, то, что казалось сказкой, зароненной в его душу когда-то давно-давно.
– Сними свой зипун, подними с пола шапку, повесь на гвоздь вон там в углу, – сказал хозяин. – А уже потом мы с тобой займемся делом. Брат тебе сказал, как меня зовут?
– Тылюдин, – смело ответил Степан.
– То – фамилия, а зовут меня – Василий Артемьевич.
«Василий Артемьевич, – повторил про себя Степан. – Василий Артемьевич...» Надо было запомнить это трудное имя.
Не менее трудное имя оказалось и у хозяйки дома – Евпраксия Яковлевна. Правда, после нескольких попыток выговорить это имя, чем вызвал ее веселый смех, она велела Степану называть себя попроще: тетей Парашей, а то, мол, язык сломаешь. Вообще она была женщина добрая, ласковая к Степану, часто расспрашивала его о Баевке, об отце и матери, и за одно это Степану было приятно помогать Евпраксии Яковлевне в ее хлопотах по дому.
Всякое утро его посылали к калашнику за свежим калачом к чаю, наказывая не брать «вечернего пёка», а просить свежего, сегодняшнего. Калашник жил по той же улице, что и Тылюдин, только на горе, и Степан резво бежал по раннеутреннему обжигающему морозу. В домах, за замерзшими окнами, уже теплились красноватые огоньки, из всех труб поднимались дымы в темно-синее остекленевшее небо, а вверху, там, где, окутанный морозным дымом, просыпался город, медленно бил благовестный соборный колокол. Степан взбегал на высокое крыльцо калашника, – уже лазорево оплавлялось звездное неоо за поймой, дергал за скобу, к которой липли пальцы, вскакивал в теплые сени, где уже хорошо, вкусно пахло свежими калачами.
– А, пришел эрзя́, тронуть нельзя! – рокотал огромный рыжебородый калашник в белом фартуке. Потом на полке, завешанной ситцевой занавеской, выбирал колобан порумянее, бросал его на запыленный мукой стол и длинным сверкающим ножом рассекал, сминая и плюща, надвое. Однако тут же обе половины опять поднимались, росли, словно вбирая в себя теплый, вкусный запах калашниковой избы. И вот уже Степан держит в руках мягкую, пушистую краюху. Тут два фунта с походцем – калашник еще никогда не ошибался.
– Мы уж Василию Артемичу уважим, – рокотал, как труба, калашник, провожая Степана до крыльца, боясь, видно, чтобы мальчишка что-нибудь не стянул в сенях. – Так и передай...
А на дворе заметно прибавилось свету, звезды меркнут, несмолкающий благовест густым гулом поднимается все выше и выше...
Так начинается день у Степана.
После завтрака Василий Артемьевич идет, в мастерскую «писать» иконы, а Степану надо еще натаскать воды из колодца, наколоть и наносить дров. А если хозяйка затевает стирку, воду приходится возить на салазках из озера, – колодезная вода для стирки не годится. Хорошо, если тропка к озеру уже пробита, накатана, а если приходится ехать за водой после метели, так тут одно мучение: бредешь по пояс в снегу, ведра с санок опрокидываются... Но зато какая награда после этих трудов пойти в мастерскую, глядеть, как по тонким карандашным штрихам Василий Артемьевич бьет твердой кисточкой, как все яснее и яснее образуется лик, как он начинает оживать, утверждаться на доске, где только что ничего не было. Степан и не замечал, как все ближе и ближе подвигается к Василию Артемьевичу, точно повинуясь власти этого чуда рождения. Затая дыхание, он глядит из-за плеча Тылюдина, как кисточка приближается к носу Николая Чудотворца, как вдруг отскакивает, оставив светлый блик, отчего вдруг преображается все лицо, вся икона. И если кисточка в руке Тылюдина почему-то дрожала, Степана охватывал безотчетный страх. А если Василий Артемьевич, нарисовав один глаз, вдруг бросал кисточку на подоконник, Степан чуть не плакал от досады.
Но Тылюдин не любил, когда кто-нибудь стоял у него за спиной во время работы, особенно когда был не в духе. Зло обернувшись, он коротко бросал Степану:
– Пошел! – И Степан уходил в угол, где мыл в скипидаре кисти, растирал на мраморной плите железным пестом краски. От этой злости Тылюдина, от этого краткого приказания Степану отчего-то не было даже обидно. Наоборот, он со страхом ждал, что вот сейчас Василий Артемьевич в своем огорчении бросит кисть и уйдет, а Казанский Варсанофий останется кривой. Степан боялся поднять глаза и с особым усердием тер пестом краски, подливая масла из бутыли. В такие минуты эта нудная долгая работа, которую он не любил, не казалась даже нудной и долгой, и он сам видел, что краска выходит лучше. Может быть, Василий Артемьевич будет доволен краской и ему позволит порисовать кисточкой?..
Но такого дня все не наступало, зато неотвратимо приближались и наконец наступали дни базарные.
В базарные дни, которые Степан возненавидел, они связывали готовые иконы в две ноши и рано утром шли на Венец. На Венце у Тылюдина был небольшой дощатый ларечек, точно такой же, в каких продавали калачи. Здесь Степан увидел и других иконописцев, которые тоже выносили свой товар на продажу. В Алатыре, оказывается, их было довольно много. Каждый из них, подбоченясь, стоял около своего ларечка с видом важным и независимым. Друг с другом они почти не разговаривали, чему Степан немало удивлялся.
Однако его хозяин, не в пример щеголеватый и нарядный – белые валенки с красным узором по голяшкам, овчинная шуба, крытая синим сукном, мерлушковая высокая шапка, – любил ходить по базару, высматривать возможных покупателей и тихим ласковым голосом приглашал посмотреть свои иконы.
А Степан в легком зипуне и лаптях нещадно мерз в щелеватом ларьке. Отовсюду сквозило, несло снег, и он так коченел, что не мог шевелить ни руками, ни ногами. Но, может быть, после этой казни позволит хозяин порисовать красками? Но стоит Степану заикнуться, стоит с трудом выговорить его имя:
– Васили Ар-те-ми-евич... – как Тылюдин, если в хорошем настроении, щурится и спрашивает насмешливо:
– Ну что, какой твой дело? – Он нарочно коверкает язык, подражая Степановому выговору. – Краска растер?
– Растер, – отвечает Степан и, поднимая на хозяина горящий просительный взор, говорит несмело: – Порисовать мне дай...
Хозяину смешно, хозяин хохочет. Отхохотавшись, говорит строго и назидательно:
– Ты смотри, как это делается, и кумекай. Меня тоже так учили рисовать и, как видишь, неплохо научили.
Но вот уже стали обтаивать стекла, над крыльцом повисли сосульки, и когда по утрам Степан бегал к калашнику, благовест уже звучал звонко, молодо и далеко летел по твердым притаявшим снегам. Степану все чаще стала вспоминаться Баевка, отец с матерью, о которых он заскучал так сильно, что стал видеть по ночам во сне. А Петярка с Михалом уже вовсю гоняют на ледянках по насту, а может, опять сделали к масленице горку на берегу и по вечерам катаются на санях... И от этих воспоминаний все больше и больше стало надоедать житье в доме Тылюдина, растирание красок, мытье кистей, а таскание воды но утрам сделалось ненавистным, так что он иногда по целому часу ходил на близкий колодец: сядет у сруба на перевернутое ведро, сидит, смотрит на грачей... А когда сошел снег вовсе и хозяин стал посылать его в огород копать гряды, Степан, насупясь, заявил, что у брата Ивана «тоже огорода есть».
– Неужели у брата Ивана есть огорода? – передразнил Тылюдин, но, видя насупленные, зло сдвинувшиеся брови, сказал: – Ну, коли так, поживи у брата Ивана.
Когда Степан уже собрался уходить, Василий Артемьевич подарил на прощание две старые кисти, несколько почти пустых склянок с засохшими красками и флакончик с маслом.
В доме брата Ивана все было по-прежнему. Правда, в зыбке верещал племянник Васька, и когда он уж закатывался нестерпимым ревом, Петярка бежал к матери на огород и звал ее. Приходила Вера, брала сына на руки и садилась с ним на лавке, вывалив из-за сарафана большую грудь. Степан, если был в избе, украдкой поглядывал на Веру, на ее грудь, на маленького человечка, с такой сладостью затихшего в руках у матери.
А Иван все строгал, пилил и долбил в своей мастерской – к весенней ярмарке он торопился сделать сундуки. Занятый этой работой, он словно и забыл о Степане, да и Вера как-то равнодушно и спокойно на него посматривала, не ворчала, ничего не заставляла делать. И вот так жил Степан, жил своей волей. Вскоре он нашел занятие, в которое ушел с головой: Иван зимой вырезал Петярке из сосновой чурки ангела, и поскольку Петярка им очень гордился, дорожил и дразнил Степана, что вот он не сумеет так, как отец, то Степан загорелся желанием вырезать такого же ангела. Он выбрал чурак и стал на крыльце с ним заниматься: сначала обкорнал его топором, потом долбил долотом и ковырял стамеской. Петярка неотступно сидел рядом, поглядывая с восхищением то на своего ангела, то на Степанового, который уже весьма отчетливо обнаружился из дерева. Но восхищала его не так сама работа, как то, что скоро у него будет два ангела, две таких чудесных игрушки.
Так они сидели на крыльце, оба воодушевленные, забывшие обо всем на свете, как вдруг слабый просительный голос раздался рядом:
– Подайте, внученьки, Христа ради немощной бабушке...
Степан только глянул на нищенку и бросил Петярке:
– Подай, чтобы отвязалась.
Петярка живо притащил початую краюху хлеба. Старуха быстро убралась. А ангел между тем как будто все нетерпеливей выдирался из дерева, словно он сидел там в чурке, и вот теперь заторопился на белый свет.
Руки у Степана горели, они были необыкновенно легки, они как будто тоже проснулись, воспрянули и сами по себе отзываются на нетерпение ангела вырваться из деревянной тюрьмы...
– Подайте Христа ради, деточки добрые, пригожие...
Степан даже не поглядел, кто это занудил над ухом, но Петярка, точно сам охваченный огнем освобождения, слетал домой за хлебом и опять сел рядом со Степаном.
А ангел уже освобождал крылатые плечи!..
Но тут их позвали обедать.
– Сейчас...
Вера вышла на крыльцо и взяла Петярку за шиворот. Степан резал.
Вышел Иван, вырвал из рук стамеску.
Степан нехотя поднялся.
Когда сели за стол, Вера вдруг гневно спросила:
– Куда хлеб девался?
И глядела на Степана – ведь раньше хлеб не пропадал. Но Степан пожал плечами – он не брал никакого хлеба.
– Мы с дядей Степаном дали нищим, – сказал Петярка. – Тут они приходили...
Вера опустилась на лавку. Кажется, она впервые не находила бранных слов. Вытаращив глаза, она смотрела на Ивана.
После еды, которая так и прошла в угрюмом молчании (даже Васька в зыбке молчал!), Иван велел брату идти за ним.
Пришли в мастерскую. Иван сел на верстак и сказал:
– Вот что, парень, если хочешь жить у меня, давай работай. Ты уже не маленький, а у меня, знаешь, лишней копейки нет. – Он говорил чуждо и холодно, без всякого раздражения, точно не брат был ему Степан, а посторонний человек. И эти холодные слова точно отрезвили Степана: он увидел, как Иван похудел за зиму, как заострились скулы, какие усталые у него плечи, какая безысходная тоска в глубоко запавших глазах... Где та осенняя веселость? Где лихие усики?.. Степан смущенно опустил голову, но тотчас снова взглянул на брата.
– А хочешь, ступай к отцу, – тихо, равнодушно сказал Иван.
– Домой не пойду, буду тебе помогать.
Иван, помолчав, так же тихо сказал:
– Ангелочков да лошадок я бы тоже любил вырезать, да за них денег не платят... Вон, – кивнул он на два готовых сундука, стоявших один на другом, – этим еще как-нибудь прокормишься...
– Я помогу, – сказал Степан, но брат словно и не слышал. – Эх, жизнь!.. – вырвалось у него с тяжелым вздохом. – И просвета не видать, Васька совсем обрек меня...
Теперь Степан был спокоен. Столярная работа не раздражала его, как это было осенью. Может быть, просто он меньше уставал, работая пилой и рубанком. Но было еще какое-то тихое и глубокое разочарование в ученичестве у иконописца, у лучшего иконописца в Алатыре. Что уж тогда говорить о других, которые несчастными сиротами стоят в своих дощатых лавочках по базарным дням на Венце!.. Нет уж, лучше здесь, у брата заниматься делом, чем прислуживать у чужих недобрых людей. Так он сам себя уговаривал, когда от усталости опускались руки, а рубанок казался тяжелой непослушной колодой, – слишком близки и свежи были в памяти дни в доме Тылюдина, слишком большая разница оказалась между горячей ребяческой надеждой и явью. Надо было с ней примириться, остыть, набраться новых сил, чтобы они мало-помалу снова укрепили дерзость в сердце мальчика, если она там жила вообще.
Да и несравнимо легче было теперь жить в доме брата – ведь он уже ничего не ждал, и каждый новый день не оттягивал никакого срока. Наоборот, каждый новый день приближал весну, приближал троицын день, день весенней ярмарки, когда они повезут на продажу свои столярные изделия.
Помощь Степана взбодрила и старшего брата. Дело пошло живее, надежда осветила уставшее, измученное лицо Ивана. Оставалась до троицы неделя, и воодушевленный Иван принялся за третий маленький круглый столик на толстой резной ноге. Теперь он успеет сделать и его. А сундуки он велел Степану покрасить зеленой краской – ведь это по его части!
Сундуки вынесли на улицу. Весенняя теплынь, солнце, безумолчные песни скворцов и чечевичек, поселившихся на высокой березе перед домом, первая изумрудная трава, покрывшая весь двор, запах вскопанных гряд – все это настраивало Степана на какой-то праздничный лад, и он с особым тщанием приготовил краску, сам довольный своим умением, которого у него еще совсем недавно и не было.
Петярка крутился под ногами, приставал с просьбой дать и ему покрасить, и такой восторг был в его детских живых глазах, такая радость, что Степан не мог отказать ему, хотя У самого руки зудели от жажды работы, на которую он впервые получил полное право. Но когда сундуки выкрасили в зеленый цвет, когда древесный рисунок исчез навсегда под слоем краски, они вдруг поразили Степана какой-то своей тяжелой угрюмостью. Однако брату они понравились.
– Вот хорошо! – сказал он, вышедши на крыльцо.
Но что хорошего? Ничего хорошего не было, и похвала брата отчего-то только вызвала досаду. Но тут он вспомнил про краски, которые подарил ему на прощание Василий Артемьевич. И, затая сладкую мысль разрисовать сундуки, он вздохнул спокойнее – ведь если хорошо сейчас, то каково же будет потом!..
Два дня он помогал Вере в огороде – сажали лук, репу, морковь, копал гряды под огурцы, удивляясь Вериным вздохам о том, что «не дай бог, если нынешнее лето опять такое же будет, как прошлое».
– А что, разве плохое лето было? – спросил Степан, вспоминая свои походы в лес, луг над Бездной, родник, где они с Дёлей пили, – ведь такого лета еще не было в жизни Степана. Но у Веры было свое суждение:
– Да уж чего хорошего – такой неурожай, такой неурожай, что я сроду такого не помню. Как только зиму и прожили – эка дороговизна!.. Не дай бог! – И крестилась на колокольный звон, весело летевший от ближней церкви.
Но Степана это не касалось. Его занимали теперь сундуки, а они не спешили сохнуть. Но вот палец уже оставляет едва заметный отпечаток: значит, можно приниматься. Он получше промыл кисточки, размешал в баночках краску, добавил туда масла и рано утром, когда Петярка еще спал, а Иван строгал в передней избе, приступил к своему художеству. Поначалу он сильно робел, руки не хотели слушаться, были точно деревянные, а громадная зеленая плоскость крышки казалась необъятной и вселяла какой-то панический страх. Да не оставить ли уж так? Ведь говорит же брат, что хорошо!.. Но этот голос был уже не властен над ним, и кисточка словно сама собой тянулась нарушить зеленое уныние. И оно было нарушено – вскоре на крышке во всей своей наивной простоте расцвел пышный невиданный цветок. Зеленое уныние было разбито, это еще больше смутило Степана – какой-то дикий резкий вопль издавал изуродованный сундук. И когда растерянный Степан нарисовал в углу нечто подобное, ему показалось, что резкий вопль вроде бы попритих, точно уродство утверждалось в своем законном праве на жизнь. Когда же в каждом углу крышки распустились красные кровавые цветы, дикий вопль цвета совсем затих в своем пышном самодовольстве. Обрадованный таким поворотом дела, Степан пустил по краям крышки синие диковинные листья. Многое тут зависело не от воли художника, но от скудного наличия красок, а поскольку красной было гораздо больше, чем других, то он и употреблял ее смело. Синей же было меньше, и, сообразуясь с этой жестокой реальностью, вырастали и синие листья. И хоть первоначальные секреты колера Степану были знакомы, однако он не решился испытывать судьбу, и самые дикие, невиданные цветы и листья разукрасили крышки всех трех сундунков.








