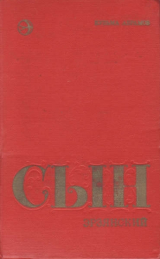
Текст книги "Сын эрзянский. Книга вторая"
Автор книги: Кузьма Абрамов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 19 страниц)
– Ты чего там делаешь?
– Да так, – сказал Степан. – Может, Петр Андреевич захочет порисовать...
– Сейчас ему не до рисования, – сказал Яшка.
– А чего?
– Чего, чего! Переговоры ведет с консисторией да с купцами на заказы, вот чего. Слышал я, будто на какую-то Унжу собирается – к черту на кулички. Нет, надо сматываться, – добавил Яшка грустно. – К Столярову, что ли, сходить?
Ну что же, подумал Степан, если хозяину недосуг... – и сам испугался внезапной мысли: порисовать на приготовленном на мольберте полотне!..
Яшка натягивал штаны, бормоча свои ругательства по поводу скипидара и клея.
– А где сейчас Петр Андреевич? – спросил Степан.
– Где, где... – Яшка просунул свою кудлатую голову в ворот рубахи. – Ясно где – в церковь подались всем семейством.
Он оделся, натянул сапоги, потом смял их гармошкой, притопнул и, подергивая плечами, пошел на кухню.
– Эй, Ефросинья! – послышался там его игривый, веселый голос. – Эй, давай чего-нибудь пошамать!.. – И Фрося тотчас взвизгнула, рассмеялась – должно быть, Яшка опять ухватил ее за толстый бок.
Но до Степана все эти звуки долетали глухо, он не вникал в них. Чистое полотно властно влекло его, и он уже не в силах был противиться этой неведомой власти.
Что он хотел писать? Какой лик стоял у него перед глазами и невидимо отпечатлевался на полотне? И где он видел этот лик? – в своей ли Баевке, в журнальных ли репродукциях Колонина или вовсе недавно?.. Или Степан переносил на полотно тот угольный рисунок на доске? Не знал Степан, ничего он не знал сейчас, но вот уже коричневый мафорий облекал склоненную голову, складками падал по покатым широким плечам, обозначая плавные контуры фигуры, утверждая се на холсте. Этот цвет, эти складки и линии силуэта как будто излучали сокрытую в них живую многострадальную плоть, и она уже повелевала рукой художника, она уже отзывалась в цвете, и вишнево-коричневый мафорий согласно переходил в охристо-желтый тон лица, каноническо-тонких кистей рук.
В первый раз Степан писал без контурного рисунка, без клеточек и разметки, и он сам не знал, как это все получилось – точно его руке оставалось утвердить некий облик, так ясно и живо стоявший у него перед глазами.
Это было жадное упоение работой, и Степан не замечал ни времени, ни того, что делалось вокруг. Только краем глаза он замечал за окном, как полощутся на окрепшем ветерке огромные белые легкие флаги, и, улыбнувшись чему-то мимолетно, опять забывался в том тихом и властном рождении жизни, которая будто бы сама собой возникала и крепла от каждого мазка.
Степан не слышал, как вернулись из церкви хозяева – гулкий, бодрый топот по деревянной лестнице на второй этаж, раздававшийся по всему дому, не коснулся его слуха. Фрося раза два заглядывала в мастерскую, чтобы позвать Степана обедать, но, испуганная выражением его лица, с суеверным страхом тихонько притворяла дверь...
Он не услышал, как в мастерскую вошел и сам Петр Андреевич и стал у него за спиной. Но вот чья-то рука легла ему на плечо. Это было так неожиданно, так чуждо и посторонне, что Степан вздрогнул и оглянулся. Позади стоял хозяин. Кисть выпала из рук Степана.
– В воскресенье надо отдыхать... – тихо сказал Петр Андреевич и нагнулся за кистью.
Отдыхать?.. Но почему Ковалинский не ругается, почему с лица его не сходит доброе, ласковое и удивленное выражение?.. Разве он не видит, что Степан сделал с его приготовленным полотном?.. Он опустил голову и ждал.
Ковалинский молчал. Но в его молчании не чувствовалось приближающейся грозы. Вдруг он спросил с улыбкой:
– А зачем это ты чепчик Богородице подпустил, а?
Чепчик? Где чепчик? Степан не рисовал никакого чепчика...
– Да вот эта синяя каемочка! Разве не ты написал?
– Это... это платок, – прошептал Степан. – Так носят...
Петр Андреевич расхохотался.
Потом он задумчиво походил по мастерской, на минутку остановился перед законченным архангелом и сказал:
– Я думаю, тебе нечего делать в учениках. Тебе надо работать. Я в эти дни искал хорошего мастера себе в помощники, но оказалось, что он у меня уже есть.
Степан верил и не верил тому, что слышал. Неужели это о нем говорит Петр Андреевич?! Да, о нем!.. Он называет его мастером!.. Его – Степана Нефедова, вчерашнего столяра... Господи, не сон ли это? Где Яшка, чтобы подтвердил эти слова хозяина?!
– С сегодняшнего дня, Нефедов, ты уже не ученик у меня, – решительно сказал хозяин. – Будешь у меня работать как мастер-живописец. – Он перевел взгляд на Богородицу. – Вот так, как написал ты, может написать далеко не каждый мастер. Не знаю, где и у кого ты учился, но писать умеешь. Странно мне, что ты начал писать не по рисунку, а сразу красками. Это нелегкое дело. Здесь необходим точный глаз и твердая, опытная рука...
Впервые в жизни Степан услышал в свой адрес похвалу понимающего в живописи человека. Он даже не все слова и понимал – силуэт, гармоничность сочетания, тип лица, композиция, но понимал, что слова эти говорятся ему в похвалу, и сердце его трепетало от радости, от счастья, и он не знал, куда деть глаза, которые жгли счастливые слезы.
– Ну, ну, не смущайся, – сказал Петр Андреевич и, потрепав Степана по плечу, ушел из мастерской – должно быть, сообщить новость жене Варваре Степановне...
7
Над Богородицей Степан работал два полных дня, и хозяин, к Яшкиному удивлению, не только не сердился, но и не указывал Степану, а если и подходил, то лишь смотрел и удовлетворенно кивал головой. Сообразительный Яшка все понял и заскучал еще больше, потому что вся работа по хозяйству свалилась на его плечи: в магазин, на рынок, по воду. К вечеру Яшка так замотался, что не болтал, как прежде. Он даже и Степана стал сторониться, не трогал при нем Фросю, не щипал ее за бока.
Но что Степану до этого? Ведь не побежит же он доносить хозяину на Яшкины проделки. У него своя забота – Богородица. Петр Андреевич сказал, что она получилась слишком скорбной. Но это хорошо, Богородица такой и должна быть. В конце концов, никакого особого отступления от канона здесь нет.
Если бы Степан начал писать ее сейчас, когда из ученика превратился в мастера, его Богородица, может быть, так не скорбела бы. Да и чего бы ей было скорбеть, если так неожиданно повернулась судьба Степана?.. Может быть, Петр Андреевич позволит ему писать другую икону?
– Отдохни, – сказал Ковалинский, улыбаясь. – Дня через два мы отправимся в далекое путешествие. Вот там ты уж попишешь вволю... Слышал про город Унжу? Вот мы с тобой туда поедем. Дел там будет много, хватит на целое лето... Как думаешь, Яшку возьмем с собой? Толк из него какой-нибудь будет?
Степан пожал плечами.
– Может, для чего-нибудь и сгодится.
Разве это не удивительно – хозяин разговаривает с ним, как со взрослым человеком, советуется. Такого со Степаном еще никогда не бывало в жизни. Даже брат никогда с ним не советовался.
– Сейчас сюда спустится Варвара Сергеевна, и ты пойдешь вместе с ней в магазин. Тебе надо купить кое-что из одежды, не правда ли? А женщины здесь разбираются лучше нас, – сказал Ковалинский и пошел из мастерской. Должно быть, он и не заметил, в какое замешательство поверг Степана. Варвара Сергеевна придет сюда!.. Он пойдет вместе с Варварой Сергеевной!.. Нет, в этом было что-то невероятное. Степан заметался, стал прибирать на сундуке постель, одернул на себе рубаху и наконец не выдержал – выскочил в кухню, оттуда в сени и на крыльцо, а там – за ворота.
На скамеечке за воротами сидел Яшка.
– Далеко собрался? – спросил Яшка уныло.
– Пойду... куплю чего-нибудь, – пробормотал Степан.
– У меня аж ноги ноют от этих похождений, целое утро гоняли: купи им то, купи другое. Право слово, у купца жить лучше. У них все есть в доме, бегать никуда не надо...
– Хозяин собирается в Унжу, и нас с собой берет, – сказал Степан.
Яшка цыкнул сквозь зубы, и плевок, описав дугу, шлепнулся на булыжник.
– Видал бы я в гробу эту Унжу...
Он уже готов был к очередному плевку, но тут на крыльцо вышли хозяйка и дочка. Обе в белых платьях и темных жакетах. На голове у Варвары Сергеевны соломенная шляпа с широкими полями, с большим бантом. И Степан уставился на нее, как на диво.
– Вот бы с ними куда-нибудь махнуть, а не с хозяином, – прошептал Яшка и, живо вскочив, так ловко и изящно отставил ножку и льстиво улыбнулся, что Степан почувствовал себя рядом неповоротливым бревном.
Яшка улыбнулся, показывая редкие зубы. Но Варвара Сергеевна будто и не замечала его. Степан не был уверен, что она и его видит, однако когда проходила мимо, сказала вдруг, в упор взглянув на Степана своими огромными серыми прекрасными глазами:
– Ну что ж, Степа, ты проводишь нас с Анюсей?.. – И пошла, точно ни секунды не сомневалась, пойдет ли следом Степан.
И он, так же ни секунды не раздумывая, пошел следом, и шел как привязанный, и когда Анюся оглядывалась, он смущенно опускал глаза.
Так они дошли до Воскресенской улицы, где было много народу, и в большом магазине Варвара Сергеевна выбрала для Степана легкий пиджак из светлого тонкого сукна. Она заставила Степана тут же примерить пиджак, сама оглядела широкие отвороты, отвернула полы, и от этих прикосновений, от близости ее лица, глаз Степан стоял ни жив ни мертв. А она еще так лукаво, так ласково взглядывала на него из-под широкого поля шляпы, и так значительны казались эти взгляды, что у Степана всякий раз замирало сердце.
Варвара Сергеевна похвалила купленный пиджак: как он хорошо сидит на Степане.
– Правда, Анюся? – сказала она.
– Да, хорошо, – важно сказала Анюся, точно тоже была взрослой женщиной.
– Ну, кавалер, пойдемте покупать брюки для вас!..
Брюки?! Ведь их, наверное, тоже заставят примерять!.. Это как же так?..
– Нет, – сказал Степан и покраснел так, что загорелись даже уши. Анюся прыснула и спряталась за мать.
– Чего – нет? Почему – нет? – изумилась Варвара Сергеевна. – Неужели ты и дальше хочешь ходить в этих... Она замялась, потому что то, что было на Степане, трудно было назвать брюками – штаны, портки. Но этого она не могла сказать. – Нет, дружок, нет, так нельзя, пойдем, ты сам выберешь брюки.
Степан стоял, опустив глаза в пол. Варвара Сергеевна поняла, что все ее уговоры будут напрасны, и, смеясь, сказала Анюсе:
– Ну что делать, Анюся, придется уж нам самим, а кавалера, что ж, не будем мучить.
– Не будем, – сказала Анюся.
– Ладно, – сказала Варвара Сергеевна, – иди, Степан, погуляй и вот купи себе гребешок. – И дала Степану три рубля. Он смял бумажку, сунул в карман и, так и не подняв головы, повернулся и побежал вон из магазина.
Степан шел к кремлю, чтобы постоять у башни Сююнбеки. Эта старинная башня всякий раз, когда он оказывался в городе, тянула его к себе. Какое-то неразгаданное значение, сокрытое в ступенчатой каменной стене, влекло его. Может быть, язык вознесенных к небу каменных глыб говорил человеку, что пока он живет, он должен стремиться вперед, подниматься с одного этажа на другой все выше и выше?.. Или сам дух прекрасной Сююнбеки манил его сюда?..
Сегодня Степану вершина башни казалась несколько ближе, как будто он поднялся на ее первый этаж. На вершине черный бронзовый орел раскинул широкие крылья и летит навстречу белым весенним тучам. Он и сам в эту минуту казался себе таким же орлом, летящим в беспредельных просторах неба. «Сююнбека», – сказал Степан, а сам вдруг так ясно увидел глаза Варвары Сергеевны...
Волжская вода по Казанке поднялась до самой кремлевской стены. На ее мутной поверхности плавали пустые ящики, куски дерева, обрывки бумаги и прочий мусор. Степан шел по берегу Казанки и, улыбаясь, все повторял: «Сююнбека... Сююнбека...»
Кроме того что теперь у него был дом, в кармане нового пиджака еще лежала и трешница. И почему-то вспомнил он о ней, когда проходил мимо дома тети Груни. И он решительно свернул во двор и спустился вниз по ступенькам в полуподвальное помещение – длинный темный коридор со сводчатым потолком, и по обе стороны были двери комнат. Комнату тети Груни он определил по дробному стуку сапожного молотка. Муж тети Груни сидел на своем обычном месте за низким столом и работал. Приходу Степана он обрадовался, отложил в сторону сапог, который подбивал, и потянулся к коробке с махоркой.
– Сейчас мы с тобой глотнем табачку и вообразим, что опрокинули по рюмочке за встречу, – проговорил он, протягивая Степану бумагу на цигарку. – Хорошо, что ты зашел, а то у меня уже язык стал плесневеть, не с кем вымолвить слово. Ругаюсь с ребятишками, вот весь мой разговор, – продолжал он, все еще держа бумагу в вытянутой руке.
– Я же не курю, – усмехнулся Степан.
– Ах да, я совсем забыл, что ты не куришь. Ты, может, и не пьешь?!
Степан опять усмехнулся.
– И не пью.
– Может, это и лучше, – тихо сказал муж тети Груни, сосредоточившись на чем-то своем.
В комнате была и Анка, а в кроватке – меньшая. Анка принесла в той же железной ложке уголек и снова вернулась к своему занятию у окна: она старательно зашивала кому-то из братьев порванную рубашку.
– Принес немного денег за сапоги, – сказал Степан. – Не знаю, хватит ли... и выложил на стол трешницу.
– Эге! – встрепенулся сапожник. – Это больше, чем надо!
Его карие глаза как-то яростно засверкали, руки задрожали мелкой нервной дрожью.
– Мне бы хватило и на бутылку, – заговорил он опять. – Ну, коли принес столько, сдачи тебе не будет. Ведь сапоги снова износятся, я и подошью, и мы с тобой будем квиты. Анка! – крикнул он. – Иди сбегай в казенку, принеси бутылку. Или нет, найди Ивана, пусть он сходит, а то тебе, пожалуй, не дадут. Слышишь? Иди сейчас же!
Девочка проворчала:
– Где я буду искать Ивана, он с ребятами пошел рыбу ловить.
– Найди, тебе говорят! – прикрикнул он на дочь и, повернувшись к Степану, заговорил с болезненной жалобой: – Не слушаются меня, собачьи дети, нельзя никуда послать!..
Девочка нехотя вышла из комнаты. Степан посидел еще немного и собрался уходить.
– Посиди, посиди, сейчас кто-нибудь из них появится, пошлю за бутылкой, опрокинем по рюмочке, – говорил сапожник, стараясь удержать Степана. – Или погоди, сбегаю сам, эдак, пожалуй, скорее будет!
– Никуда не ходите, – остановил его Степан. – Я же не пью, к тому же мне некогда.
Во дворе он увидел Анку, стоящую у стены.
– Зачем вы дали ему деньги? – сказала она сквозь слезы. – Он теперь их все пропьет... Надо было отдать маме. Все отдают маме...
Степан этого не знал.
– Что же теперь делать? – сказал он растерянно. Ему было очень жалко девочку, и виноватым он себя чувствовал.
– Теперь ничего не сделаешь. Пока не пропьет все, работать не будет... И по грязным щекам девочки опять побежали слезы.
Степан вовсе растерялся и поплелся к дому Ковалинских, который теперь был и его домом. Впервые так остро осознал он, что, желая добра, причинил людям горе. Почему так? Разве он хотел горя для семьи милой тети Груни? Как теперь он взглянет ей в глаза?..
Он сел на лавочке у ворот. Из головы у него никак не шло это недоумение. И чувство вины все сильней угнетало его. Наверное, Анка все еще стоит у стены и плачет – худая, в сарафане с чужого плеча, в драной большой кофте... Может быть, пойти и отобрать трешницу у сапожника?..
Но тут дверь хлопнула, и на крыльцо вышел Яшка со своим деревянным сундучком. Его красивое чернявое лицо чем-то было сейчас похоже на лицо плачущей Анки. Конечно, Яшка не плакал, он даже пытался улыбаться.
– Ты чего? – спросил Степан.
– Прогнали, – сказал он как-то враз сломившимся голосом.
– Куда?
– Куда, куда, ясно куда – на улицу, – сказал Яшка и недобро взглянул на Степана, словно это он велел хозяину выгнать Яшку. Но, может быть, он и прав – не будь Степана, его бы не выгнали...
Яшка сел на скамеечку, цыкнул сквозь зубы, проследил полет своего плевка и уронил кудрявую голову на грудь.
Помолчали.
– Куда ты пойдешь? – спросил Степан.
– Куда... Буду искать место у какого-нибудь купца. У купцов жить лучше, – сказал Яшка. – Ну, пойду.
Он поднял сундучок на плечо и медленно побрел по улице. И такая тоска стиснула сердце Степана, что он чуть было не побежал за Яшкой. Он-то хорошо знает, что значит искать где-то место...
8
В дорогу собралось много поклажи – одни живописные принадлежности едва уместились в двух ящиках, которые для этих целей и служили Ковалинскому, потому что он и прежде каждое лето ездил по селам и городам расписывать церкви.
Особый чемодан заняла провизия, которую с таким тщанием собирала Варвара Сергеевна. Степан даже удивлялся, как это все можно съесть за дорогу, но Петр Андреевич сказал, что дорога не близкая – только по Волге плыть на пароходе четыре дня, а там еще по Унже-реке!..
Наконец все было готово, и радостное оживление сборов пресеклось внезапной тихой грустной минутой во всем доме. Затихли топот и беготня на втором этаже, притихла и Фрося в кухне, и когда Степан спросил, чего она куксится, Фрося простодушно сказала:
– Помилуй бог – как страшно!..
– Да что страшного?
– И за вас страшно – в такую даль поедете, мало ли что, да и тут без вас боязно...
Степан улыбнулся – для него дорога была праздником.
К воротам подкатил тарантас, и в доме сразу все оживилось. Варвара Сергеевна, Анюся, Фрося забегали по лестнице, и было такое впечатление, что они бегают друг за другом от страха остаться в одиночестве хоть на минуту.
Степан с извозчиком стаскали в тарантас сундуки, чемоданы и отправились на пристань, а на другом извозчике ехал Петр Андреевич с Варварой Сергеевной и Анюсей.
Но как славно было качаться на мягком сиденье тарантаса и глядеть на людей, которые никуда не поедут, на дома Казани, которая останется ждать их с Петром Андреевичем!.. Волга, пароход, неведомые города, Унжа!.. У Степана захватывало дух от одной мысли о том, что он увидит. Только бы не опоздать на пароход! Только бы пароход не ушел без них!.. И в этом страхе не опоздать он таскал чемоданы и сундуки на пароход, не видя еще самого парохода, заслоненного пристанью, но чувствуя с каким-то восторгом и страхом и железную рифленую палубу под ногами, и тихое сопение мощной машины где-то рядом. И бухты смоленого каната, и толстые, как чурки, железные кнехты, и матросы, такие спокойные и распорядительные у трапа,– все до глубины души поражало Степана.
В этой суматохе он забыл и о Варваре Сергеевне, и только когда Петр Андреевич крепко взял его за руку и повел куда-то вверх по железной гремящей лестнице, он почувствовал, что пароход уже плывет, что машина работает, сотрясая мелкой дрожью всю железную громаду, – вот только тогда он с недоумением осознал, что Варвара Сергеевна осталась на берегу, на пристани, а он уезжает и не увидит ее долго-долго!.. Но вот Петр Андреевич вывел его на палубу, на яркий солнечный свет, и он увидел, как далеко уже пристань, как неотвратимо ширится полоса блестящей под солнцем воды и как люди на пристани все дружно машут платками, шляпами, зонтиками. Замахал своей соломенной шляпой и Петр Андреевич – должно быть, он видел Варвару Сергеевну и свою Анюсю, а они видели его. Но если они видят его, так видят и Степана! И он сорвал с головы картуз и тоже стал махать, точно прощался с людьми, которым грустно было с ним расставаться, – ему так в это верилось!..
После половодья Волга еще не очистилась, вода была бурая, мутная. Но пена, образуемая ходовым колесом парохода, была удивительно бела. Степан впервые плывет по Волге. Да, это не Бездна, да и не Сура у Алатыря, а пароход – не плоскодонная лодка. Стоишь и не чувствуешь, что ты на воде. Если бы не дрожала палуба от гула паровой машины и не струилась бы так быстро вода вдоль борта, можно было бы подумать, что это какой-то чудный дом среди воды. Но бегут навстречу и лесистые и луговые берега, и далеко-далеко за лучами поблескивает на закатном солнце сельская церквушка...
Степан смотрел на зеленеющие берега, на сверкающий неоглядный простор реки и со сладостным чувством думал, как все хорошо для него сложилось!.. В Казани он нашел настоящее счастье. Он вспомнил о гадалке-цыганке, которая выманила у него тогда последние медяки и нагадала, что он будет жить в большом городе, разбогатеет, женится на красивой девушке, что жена будет зваться Анной... Но где та Анна – ведь вон их сколько: у тети Груни дочка Анка, у Ковалинских – Анюся...
Ковалинский сидел на одном из ящиков здесь же, недалеко от борта, и от нечего делать подремывал. Видно, ему все это привычно, а Степан вот глядит и не может наглядеться.
К вечеру ветер посвежал. Ковалинский и Степан спустились с палубы в отделение третьего класса, похожее на барак с двухъярусными нарами. Правда, это был все-таки пароход – за окном бежала, пенясь, вода. Но когда загорелся под потолком желтый свет, за окном сразу сделалось темно, только вода шипела.
Степан и во сне не мог забыть, что плывет по Волге, и, пробуждаясь от духоты, слезал с верхних нар и пробирался между спящих на полу людей и узлов на палубу. Как черно было кругом, как жутко от необъятного простора, который веял таким стылым и вольным дыханием на его лицо!.. И куда так уверенно плывет пароход среди этой тьмы?.. Степан крепче сжимал холодный мокрый брус борта и вглядывался в этот необъятный, темный, ветреный простор до рези в глазах. Но ничего не видел, кроме редких белых да красных огоньков, значение которых он не знал, но вскоре понял, что именно эти огоньки и определяют путь парохода по ночной реке.
Пока плыли до Юрьевца на большом пароходе, Степан с Петром Андреевичем мало говорили, мало и виделись. Утром, когда пригревало солнце, Петр Андреевич поднимался из душного плацкартного отделения на верхнюю палубу, садился где-нибудь в уголке и сидел там, подремывая, глядя на реку. Видно было, что этот пароходный быт его утомил, и ему хотелось скорее добраться до места, выспаться на мягкой постели и заняться работой.
Степан же не мог и минуты усидеть на одном месте, ему хотелось ничего не пропустить на реке – ни нового поворота берега, ни встречного парохода, ни очередной пристани. Он облазил весь пароход, где можно было, часами торчал у машинного отделения, глядя на беспрестанное качание толстых маслянистых шатунов. Или сидел на носовой площадке у бушприта, разглядывая цепи, якорь, лебедку. Все ему было интересно, и за едой, когда они раскладывали подорожники, Петр Андреевич просил Степана только об одном – не выходить с парохода на пристанях.
– Не дай бог – останешься, – говорил он. – Сам пропадешь и меня погубишь...
Так они добрались до Юрьевца. Здесь им долго пришлось ждать пароходик на Макарьев, который перебежит Волгу и понлывет по маленькой Унже. Вечер был теплый, летний, за Волгой поднялась огромная багровая луна, перебросив светлую дорожку по тихому водному простору, и Степан с Петром Андреевичем, сидя на сундуках своих, глядели на эту дорожку и думали, как далеко теперь они от Казани, от своего уютного дома, от доброй и прекрасной Варвары Сергеевны.
И вот Ковалинский вдруг говорит своим тихим приятным голосом:
– Все хочу тебя спросить, Степа... Никак не пойму, кто ты? Не то чуваш, не то черемис...
– Я – эрзя, – сказал Степан.
– Эрзя? Ты извини, но я что-то не слышал о таком народе. Где ваша земля?
– Есть река Сура, вот по этой реке. Да эрзян много и в Казани. А вот стояли в Нижнем, я слышал на пристани, как разговаривали по-эрзянски. Значит, они есть и там. Когда я был маленьким, мне казалось, что эрзяне живут по всей России, везде – по городам и по селам. Думал, что и царь в Петербурге тоже эрзянский человек, а русские только учителя, попы да становые пристава. Татары, думал, торговцы... Эрзян еще иначе называют мордвой.
– Ах, вот как!.. Ну, тогда я про вас слышал, извиняюсь. Да, да, слышал! Говорят, мордовцы не воруют, не обманывают. Это так?
– Не знаю, как в других местах, а у нас в Баевке так.
Потом Ковалинский расспрашивал Степана о его детстве, об отце и матери и как Степан научился рисовать. А потом заговорил о себе, и тут Степан узнал, что родители Ковалинского были поляками, что их переселили из Польши в тридцатые годы, а сам он родился уже в Казани. Живописи учился у отца. Поляком он себя не считает, не знает даже хорошо и польского языка. Жена его – Варвара Сергеевна – из русской купеческой семьи...
Этот вечерний разговор сразу как-то сдружил их, и, в первый раз доверчиво взглянув друг на друга, они уже постоянно чувствовали теперь эту по-родственному тесную близость.
9
В Унже они устроились на жительство во флигеле первого унжинского купца, того самого, который и подрядил в Казани Ковалинского расписывать новую церковь. Самого купца не было дома, и устройством художников руководила жена его Парасковья Ивановна, женщина лет пятидесяти, полная, грузная телом, но скорая на ногу и распорядительная, не дававшая прислуге своей ни минуты покоя: убери там, прибери здесь, поставь самовар!.. Так же энергично и властно взяла она под свой надзор и жизнь художников: утром посылала будить их и звать завтракать, к обеду часто сама являлась в церковь, где работали Петр Андреевич и Степан. И приходилось бросать работу и идти к столу. Ковалинский это делал с удовольствием, но для Степана было мучительно отрываться от работы, однако Парасковья Ивановна была неумолима, говоря, что на сытый желудок и святые будут получаться благолепнее. Да и сам Ковалинский зачастую сдерживал рвение Степана.
– В нашем ремесле, – говорил он, – главное – не торопиться, чтобы не пришлось переписывать. Не люблю переписывать, – признавался он.
Но все эти премудрости ремесла до Степана как-то не доходили. Ведь он вовсе не торопился, а если работал быстро и азартно, то не потому, что заставлял себя так работать. Он не делал никакого постороннего усилия, он не думал даже, быстро ли у него пишется. Как у него писалось, так он и писал, и поэтому не мог воспринять эти уроки Ковалинского. Да и хозяин не очень-то настаивал: работы, особенно сначала, было много.
Доски для икон поставляли два столяра, и за ними надо было следить, чтобы не подсунули сырые. А перед тем как левкасить, каждую доску Степан фуговал сам: Ковалинский посматривал на него и радовался, какого хорошего мастера заполучил неожиданно – один работает за троих. От рисования его не оторвешь, даже за едой у Степана какой-то отрешенный вдохновенный блеск в глазах. После обеда Ковалинский обычно отдыхал, а Степан спешил к работе. Иногда Ковалинский даже удивлялся его одержимости. Степан не хотел признавать ни воскресных дней, ни праздников, ни вечерних веселых игр, которые устраивала молодежь. У купца проживало много всякого народа – конюхи, приказчики, прислуга. Все они в большинстве были люди молодые, по целым вечерам галдели перед воротами. Но Степан будто ничего этого не замечает. Наработавшись до изнеможения, он засыпает мертвым сном. И только под утро ему начинают сниться доски, лики святых. Иногда они вдруг оживают, превращаясь в знакомых людей.
Их комнату каждое утро приходила убирать молодая женщина лет двадцати, купеческая работница по имени Наташа.
Ковалинский вскоре заметил, что она неспроста приходит убирать в то время, когда они еще не ушли из флигеля. И Петр Андреевич, глядя на Степана, только посмеивался, – ведь Степан вряд ли замечает ее. И вот она как-то не вытерпела и шутливо спросила Ковалинского:
– Почему ваш товарищ все время молчит? Может, он немой?
– А ты попробуй сама с ним поговорить, – сказал Петр Андреевич. И, может быть, он увидел тут еще одну возможность подвергнуть «благонадежность» своего молодого мастера испытанию. Так или иначе, но однажды в церкви за работой он сказал:
– Степан, давно я хочу спросить у тебя, отчего ты женские лица все пишешь скорбные, страдавшие много?
– А как же, – ответил Степан, – разве Мария мало страдала и пережила, когда спасалась с сыном?
– Так-то оно так, да я говорю – отчего лица у тебя все старые? Ведь она была молодая дева: «Дева во чреве примет и родит Сына... А муж ее Иосиф и не знал Ея...» Вот как сказано в писании.
Степан молчал, смутившись. Смутило его то, что в словах Ковалинского была правда – лики у Степана все были как бы списаны с пожилых женщин, замученных беспрестанными заботами.
– Вот, смотри, – продолжал Ковалинский, указывая кистью на «Рождество», которое только вчера закончил Степан по эскизу Петра Андреевича. – Ну, сама Мария – ладно, она вроде бы роженица, эта, допустим, повитуха... А что же эта? Или вот на клеймах ты написал: «Избиение младенцев». Ведь как сказано: Ирод послал избить всех младенцев от двух лет и ниже. Понимаешь? Значит, это все молодые матери, им лет по восемнадцать-двадцать. Ну, как вот нашей горничной Наташе, – добавил вдруг Петр Андреевич с улыбкой. – Ты, кстати, замечаешь ее?
– Да так... – пробормотал Степан, радуясь, что замечание Петра Андреевича вышло не таким строгим, как он того ожидал. Конечно, теперь Степан тоже увидел, что женские фигуры, особенно на клеймах, слишком тяжелы и однообразно угловаты, в них нет живого движения, и от этого вся композиция получается застывшей, мертвой, хотя по задаче своей должна проникаться светом рождения, светом надежды. Ну, а то, что женские лица у него выходят старые, на это Степан как-то не обращал внимания. Но та, что приходит каждое утро убирать у них во флигеле... отчего же, он ее замечает.
– Ну, это бог с ним, – сказал с улыбкой Петр Андреевич. – Мне вот что интересно, Степа. Я заметил, что ты пишешь не вообще лицо, но лицо с точным индивидуальным выражением. Нет, нет, не волнуйся, тут нет никакой беды! Я просто подумал, что у тебя хорошая зрительная память и твой рисунок всегда на что-то опирается. Не так ли?
И хотя Степан не задавался сам таким вопросом, он почувствовал, что Петр Андреевич прав – ведь и в самом деле, когда он пишет чей-нибудь лик, мужской или женский, ему невольно приходят на память лица живых людей. И на вопрос Петра Андреевича он согласно кивнул.
– Ну, это не беда, не беда, – ободрил Ковалинский. – Только не стоит делать святым молодые прически.
– Где?
– Да вон – Павла причесал, словно приказчика. Ладно, ладно, оставь, хорошо, – сказал Петр Андреевич.
За весь день он больше и не обмолвился о Наташе, но те мимолетные слова Ковалинского странно задели Степана. Почему он думает, что Степан не замечает ее? Правда, до сего дня он не знал, как ее звать, но зато может сказать, какой на ней сегодня утром был фартук – из синего сатина с белой каемкой на кармане. Но что из этого? А лицо – что, нормальное лицо, щекастое, с толстым носом, с круглыми глуповатыми глазами. Разве такие глаза у Варвары Сергеевны! – подумалось внезапно Степану, и он испуганно покосился на Петра Андреевича, словно тот мог услышать, учувствовать эту его непрошеную думу.








