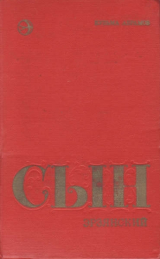
Текст книги "Сын эрзянский. Книга вторая"
Автор книги: Кузьма Абрамов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 19 страниц)
Напившись, сказал испитым сиплым голосом:
– Слушай, старшой, когда нас Ковалинский нанимал, магарыча нам не выставил.
– Не выставил, нет!.. – радостно закивали его товарищи.
– Он сказал, что деньги будут у тебя...
– Ну и что? – сказал Степан, еще не понимая, куда мужики клонят.
– А то, что ты нам дай денег... маленько.
Степан помялся. Мужики мрачно и враждебно смотрели на него, выжидая.
Степан вытащил кошелек, порылся в нем, высыпал на ладонь мелкую монету.
– Чего же это? По капле всем не хватит! – заговорили разом мужики. – Добавь, старшой, не жмись.
– Это у нас будет вроде магарыча. С Ковалинским ведь мы не пили, договор был насухо, а сухая кисть, сам знаешь, дерет грунтовку!..
Делать было нечего, пришлось Степану раскошелиться.
Белобородый о чем-то пошептался с чернобородым, взял у него деньги и мигом исчез.
Степан спросил, как их зовут.
– Меня называй дядя Павел, я годами старше тебя, – строго сказал мужик со страшной черной бородой. – А ежели хочешь сделать уважение, зови Павлом Ивановичем. А этот, – показал он рукой на маленького бойкого мужичонка, – Шишига. Его и жена называет Шишигой.
– Тебя и самого-то никто не называет Павлом Ивановичем! – звонким фальцетом закричал Шишига. – Ты для всех Бангуж, а никакой не Павел да еще Иванович. Бангуж – и все прозвание. А меня люди величают Митрофаном Митрофановичем.
– Митрофан Митрофанович! – передразнил Бангуж. – Вишь ты, не забыл, каким именем крестили!..
Так они друг с другом пререкались, пока не пришел их товарищ, которого, как оказалось, звали Сивым Егором. Этот Егор принес деревянный полуведерный лагунчик.
– Это, любезные друзья, черемисский самогон! – объявил он с воодушевлением. – Дали больше – взяли дешевле! А крепок, дьявол, не хуже царской!..
Степан вышел во двор поискать хозяев. Надо было договориться о жилье, о пище, о плате, какую они возьмут. Он просунулся в первый сарайчик, где были ребятишки – четверо или пятеро, и все без порток, в рубашонках до пупков, и все грязные, обросшие одинаково. Они испуганно сбились в угол, вытаращились на него, и сколько Степан ни добивался, где мать или отец, они молчали.
Во втором сарайчике его встретила молодая женщина в длинной вышитой на эрзянский манер белой рубахе. На голове у нее возвышалось что-то вроде кокошника, покрытого синим платком. На ногах – остроносые лапти. Она была чем-то очень похожа на эрзянскую женщину. Не хватало только пулая. Но и она, сколько он с ней ни заговаривал по-русски и по-эрзянски, лишь улыбалась и мотала головой.
В третьем сарае он наконец увидел старика. Старик сидел на толстом чурбаке и плел лапоть. Он встал навстречу Степану и, улыбаясь, заговорил:
– Поди-ка, поди-ка...
Степан пожелал ему доброго здоровья и спросил, он ли хозяин.
– Хозяин, хозяин, – сказал тот, мотая в такт словам головой.
– Нам надобно варить пищу. Понимаешь? Есть у вас кому варить? – спросил Степан.
– Понимай, понимай. Варим. Мой баба тебе варит.
По-русски он говорил очень плохо, но все же Степану удалось договориться с ним обо всем. Он дал ему денег за еду и за постой. У старика дрожали руки, когда он брал деньги, а потом никак не мог найти место, куда бы их положить. Наконец он их сунул в щель в стене. Его широкое скуластое лицо все время улыбалось с любезной приветливостью, а узенькие глазки в то же время с колючей настойчивостью пробегали по Степану и поблескивали то с хитринкой, то с недоумением. Освободившись от денег, он протянул руку к висящему на стене берестяному кузовку, достал оттуда плотно свернутый табачный лист, который был пропитан какой-то темной смолистой жидкостью, и протянул его Степану. Не зная, что с ним делать, Степан вернул ему лист. Тогда старик положил табак себе под язык и принялся, причмокивая, сосать, и по старому лицу его разлилось простодушное детское удовольствие.
Степан отправился посмотреть церковь, где им надлежало работать. Она была небольшая, срубленная из толстых сосновых бревен. Колокольня состояла из двух ярусов. В проемах верхнего яруса виднелись четыре колокола, один большой и три маленьких. Дверь церкви была заперта на большой амбарный замок. Поп, видимо, заметил в окно Степана и уже спешил к нему, и медное распятие на его груди качалось, как маятник.
– Помру, велю похоронить себя под алтарем, – радостно говорил он, отпирая замок. – Эту церковь построил я, ради нее я тут и жизнь прожил, и вот гляди – церковь стоит! Стоит! – воскликнул он. – Как свеча божья в логове языческом!.. – Он стиснул в сухом жилистом кулаке медное распятие, а глаза его сияли сурово и торжественно, как у победителя.
Степан осмотрел пустые стены церкви, пустой иконостас, собранный из тесанных топором брусьев. Новыми, чистыми были и филенки царских врат.
В алтаре на полу стояли четыре большие иконы, темные, старые.
– Эти я выхлопотал из Москвы! – гордо сказал поп. – Их надо немного почистить. Сумеешь?
Степан спросил, исправно ли черемисы ходят к службе. Поп вздохнул, зло насупился и, брызгая слюной, опять заговорил о темных язычниках, о том, как всю жизнь он бьется с ними, прививая им православную веру. Конечно, еще и теперь приходится их загонять в церковь палкой, особенно стариков. Упрямый народ. Знамо, язычники, чего с них возьмешь, живут в ереси, в темноте. Но он приведет их ко Христу, к свету истинному, к жизни чистой и праведной!..
Слушая попа, Степан вспоминал отца Севастьяна и думал о том, что его бог гораздо бы скорее утвердился здесь, чем бог этого злого, яростного попика...
А товарищи его уже шумели на всю деревню. По двору бродил пьяный Егор в распущенной рубахе и что-то орал во все горло, а возле каждого сарая стояло по мужику-черемису, словно часовые, и вид у них был весьма воинственный.
– Чего раскричался, Егор? – спросил Степан, подходя к нему.
– Не пускают меня, а я хочу посмотреть на ихних баб!
– Пойдем-ка ложиться, баб посмотришь завтра.
Степан взял его под руку и потащил в деревянную избу. Здесь творилось что-то невообразимое. Здоровенный Бангуж сидел на развалившемся очаге, брал горстями угли с золой, сыпал себе на голову и, гнусавя на манер попа, тянул: «Крещается раб божий Паву-у-ул!..» Шишмига, голый, без рубахи, вертелся на животе по соломе и кричал сиплым фальцетом: «Карусель!.. Карусель!..»
Черемисская самогонка, должно быть, помутила им разум. Шишига с Бангужем шумели и бесчинствовали здесь, в избушке, а Егор все время прорывался во двор, ругался и кричал: «Дайте посмотреть на черемисских баб! Я их не трону, только погляжу!..» Степану пришлось связать ему ноги. Наконец они обессилели, повалились кто как и только бормотали что-то бессвязное.
Степан вышел во двор. Был уже поздний вечер, заря потухла, над черным лесом висел тонкий серп месяца, по низинкам плавал туман...
Степан постоял, послушал мертвую тишину черемисского селения и пошел в сарай к старику.
– Мне бы где-нибудь прилечь, – сказал он тихо, просунувшись в темноту избушки.
Старик, лежавший почти на пороге, отодвинулся и показал на освободившееся место. Степан, не снимая сапог, лег рядом с ним. В прорехах между древесной корой, из которой была крыша, виднелись мерцающие звезды. «Как они живут здесь? – думал Степан о черемисах. – Ни пола, ни потолков... А зимой, должно быть, все собираются в рубленую избушку... Но, может быть, они счастливы и так? Навряд ли, да и разве в той же Казани так ли уж много счастья? Где-то мается Никоныч, мается тетя Груня со своим безногим мужем и детьми... А в Алатыре мается брат Иван со своей семьей... И куда ни посмотришь, везде нужда, нужда, нужда, везде смертная битва за копейку, за кусок хлеба. И как православная вера помощница в нужде, так и языческий керемет что-то не шибко спешит с помощью своим черемисам. Но что же тогда? Неужели эта проклятая нищета – вечный удел всех смертных?..
21
Всю неделю мастера работали исправно, вели себя смирно и о выпивке не заикались. Бангуж со смиренным достоинством говорил Степану:
– За водку нас, Степан Дмитриевич, не ругай. В жизни у нас одна только радость – выпить. Посуди сам, чего хорошего мы видим в жизни, особенно вот здесь, в этой дыре? Да и вся наша жизнь проходит по таким бедным и темным дырам. Тут с тоски повеситься можно...
Степану польстило, что его назвали Дмитриевичем. Так его нигде еще не называли.
– Ты на нас надейся, мы тебя не подведем. Не смотри, что пьем – дело не забываем. Сделаешь нам хорошо – отплатим тем же дважды.
Но только первая неделя оказалась спокойной – дальше «мастера-иконники» пили черемисский самогон почти каждый день. Иногда по утрам они заявлялись в церковь, где работал Степан в одиночестве, садились в алтаре и канючили у «Дмитрича» деньги, однако денег уже у Степана не было.
Степан извелся с такими помощниками и написал Ковалинскому письмо с угрозой, что уедет отсюда «к чертовой матери», если он сам не приедет.
Но Ковалинский не спешил ехать, да и не отвечал Степану. И у Степана опускались руки, работа у него шла вяло, медленно, хотя поп и торопил его. Наконец он не выдержал и однажды сказал ему, чтобы он убирался к черту. Поп вздрогнул, отскочил от него, сжимая в кулаке распятие, завизжал:
– Богохульник!.. – И, размахивая широкими рукавами рясы с заплатками на локтях, выскочил из церкви.
Одна была отрада у Степана – по воскресеньям он уходил с черемисскими девушками в лес. Они собирали по опушкам и вырубкам землянику, пели свои тягучие и грустные песни, очень похожие на эрзянские. Временами Степану даже казалось, что он в своей Баевке, что стоит ему пойти на песню и он увидит Дёлю...
Наконец приехал Ковалинский, но работы оставалось уже мало – установить доски в иконостас.
Хозяин удивился, что так мало сделано четырьмя мастерами!..
– Чем же вы тут занимались?
Степан пожал плечами и ничего не сказал. Но поп обо всем доложил, и Петр Андреевич больше не попрекал Степана. Однако первый за четыре года скандал у них произошел и вспыхнул неожиданно – из-за платы столяру-черемису, который делал доски для икон.
– Я его не нанимал, – вспылил Ковалинский. – Поп нанимал, пусть он и платит.
– Но поп отказывается, – сказал Степан. – У него нет денег.
– А у нас с тобой есть деньги, чтобы раздавать их черемисам?!
– Тогда я заплачу из своих, – сказал Степан.
– У тебя их тоже немного останется, если будешь раздавать! .
– За четыре года, думаю, я все же заработал сколько-нибудь!
Ковалинский дрожащей рукой дотронулся до своей бородки, кинул на Степана недоумевающий взгляд. Это для него было ново. Раньше Степан никогда не говорил о том, сколько он зарабатывает.
– Сколько надо заплатить? – проговорил Ковалинский, чтобы положить конец неприятному для него разговору.
– Сколько стоит работа, столько и надо заплатить. Ты сам знаешь.
Ковалинский скривил губы. Но он не стал спорить, вынул из кармана три рубля и протянул Степану. У того еще оставалось немного денег от общего кошта, так что он черемису за изготовку досок заплатил четыре рубля. Кроме того, он уговорил мастеров заплатить хозяину, у кого они находились на постое. Те не стали спорить, отделили каждый по рублю.
Старик черемис, провожая их от двора, сказал:
– Вы хоть немного бешеный, когда много-много пьете, так ребята хороший. А вот Арыптышень сапсим не пьет, очень-очень плохой.
– Вто это Арыптышень? – спросил Степан.
– Длинный волос, который палкой бьет за Исуса. Самый настоящий Арыптышень.
Все, конечно, догадались, о ком говорит старик, и засмеялись.
– А что это значит – Арыптышень? – опять спросил Степан.
– Арыптышень – много-много плохой, живет там, под землей, проговорил старик и рукой показал вниз. – Каждый ночь выходит людей пугать,
– Это они, вишь ли, так называют сатану, – кому еще жить под землей, – разъяснил Бангуж.
Старик заулыбался и кивнул в знак того, что его поняли правильно.
«Мастера-иконники», получив расчет, отправились пешком на волжскую пристань.
– Ну, Дмитрич, извиняй, если что не так, – сказал за всех Бангуж, поклонился.
Спустя два дня уехали и Степан с Ковалинским. Эти два дня они и занимались иконостасом, а потом поп выдал им для консистории «бумажный вид» на окончание работ. Поп все ворчал, то не хорошо, это не так. Степан, будь воля его, плюнул бы и уехал, но Ковалинский до конца с ним был подчеркнуто вежлив, терпелив и делал вид, что прислушивается к его советам.
– С подобными людьми иначе нельзя, грубостью их не проймешь, – оправдывался он. – Вот он возьмет и напишет в Казань своему начальству жалобу, тогда иди и объясняйся. Нет, с такими фанатиками только так и можно.
22
Намерение остановиться на денек-другой в Нижнем Ковалинскому пришло уже на пароходе. Может быть, он хотел сделать Степану приятное, чтобы развеять тот неприятный холодок в их отношениях, устойчиво разделявший их после ссоры с платой за доски.
– Побродим по ярмарке: людей посмотрим, себя покажем, – беспечно сказал он, обняв Степана за плечи. – Остановимся?
– Как хотите, – буркнул Степан.
Помолчали. Было раннее утро, по широкой речной воде плавали розовые клочья тумана. Всходило солнце. Далеко впереди, там, где река широко сливалась с небом, поблескивали купола нижегородских храмов.
– Ты все сердишься? – осторожно спросил Ковалинский.
Степан пожал плечами.
– Нет, чего сердиться...
– Я понимаю, ты устал с этими Бангужами и Шишигами, но, веришь ли, они мне показались толковыми мужиками, когда я их нанимал. Особенно этот Бангуж, такой благообразный, рассудительный...
Степан спросил о Дмитриеве, о том, закончили ли они работу в Майдане.
– Да, да, там все закончено, и Дмитриева я отпустил, – сказал Ковалинский.
«Значит, не бывать мне в Майдане...» – с грустью подумал Степан, вспоминая Устю, светлые весенние ночи, и та тревога и растерянность, которую тогда испытывал Степан, которая отравила столько счастливых минут, казалась теперь каким-то досадным недоразумением. Теперь-то он чувствовал, что из всех тех лет, которые он прожил на земле, только в прошлую весну он и жил-то по-настоящему. Именно в те дни он как бы стряхнул с себя детские наивные сны, неопределенность мечтаний о своем будущем. Все увиделось с такой пронзительной ясностью: и Ковалинский, и иконописное ремесло, и Анюся, и своя жизнь!.. Нет, он не сердился на Петра Андреевича, он и о той перепалке забыл. В душе устойчиво жило какое-то смутное предчувствие, что все это уже в прошлом, а Петр Андреевич уже далекий, чужой ему человек...
В Нижнем Ковалинский намеревался походить по ярмарке, поискать подарков для Варвары Сергеевны и Анюси, загадочно говоря при этом о какой-то скорой свадьбе и поглядывая на Степана. Однако Степан остался безучастным к этому сообщению и понуро таскался за Ковалинским по ярмарочной толчее. Наконец он сказал, что устал.
– Да и я устал до смерти, – согласился Ковалинский. – Сейчас пойдем на выставку, отдохнем.
– Какая выставка? – вяло спросил Степан.
– Да художественная. Я хоть и не поклонник этой новой французской манеры, однако заглянем. Я думаю, и тебе не понравится.
И они пошли на выставку.
Степан как только вошел в первый зал, так и остался там стоять. Он был придавлен, уничтожен огромной картиной во всю стену, которая называлась «Северная идиллия[4]4
К.А. Коровин. Панно на темы русского Севера для Всероссийской выставки 1896 в Нижнем Новгороде.
[Закрыть]». Да и никак не верилось, что это картина, что она написана руками человека, вот такой же, как и его рука, и такими же красками, какими работал он. Но тогда откуда берется этот солнечный живой свет, эта ликующая чудная природа?.. Нет, он отказывался верить тому, что видели его глаза!..
Но то, что он увидел дальше, еще глубже и острее поразило его.
– Врубель... – шептали люди кругом, толпясь возле удивительно странного полотна, у которого было как бы несколько планов, а сама фигура спокойно сидящего юноши была до того объемна во всей своей могучей живой силе, что казалось, рама едва выдерживает это чудо.
И как вдруг убого показалось Степану все то, что он писал!.. Он готов был разреветься от огорчения за свою нищету и слепоту и от того восторга, какой бушевал в нем при виде этих резко и свободно ломающихся штрихов, от этого мозаично-дробного света, исторгнутого обычной кистью и краской!..
Он подходил и совсем близко к картине, к самому уголку, чтобы убедиться, что это картина – плоский и ровный холст. Он осторожно, затая дыхание, дотрагивался пальцем, чтобы убедиться, что это – всего лишь мазок кисти.
Люди, стоявшие возле картины, посматривали на него и улыбались, но Степан никого не видел, ничего не слышал.
Кто-то потянул его за рукав. Он обернулся. Это был Ковалинский. О, как ненавистно вдруг сделалось ему это лицо с клинышком бородки, эти холодные вопрошающие и укоряющие глаза!..
Весь путь до Казани Степан был точно больной – из глаз не шли те картины, которые он видел на выставке. Он не видел ни реки, ни берегов, не отвечал на вопросы Ковалинского, едва понимая их смысл. А Петр Андреевич без устали говорил о том, что французская живопись – это ерунда, дань моде, что она никогда не приживется в России, что учеба на настоящего художника – это не учеба какому-нибудь обыкновенному ремеслу, тут нет никакой гарантии, что из тебя выйдет художник. Да если и выйдет, то еще тоже неизвестно какой. Сколько их, этих художников, влачащих жалкую нищую жизнь!.. В довольстве и богатстве живут лишь единицы, да и те завоевали признание скорее проворством и умением делать себе репутацию сомнительными средствами, чем талантом. А остальные, коих тысячи, влачат жалкое существование, мало-помалу спиваются, опускаются на дно, и скоро в них истлевают и остатки таланта. И он, Петр Андреевич, очень не хочет, чтобы Степан загубил себя, загубил всю свою жизнь – судьба Бангужа, судьба Шишиги, да и Дмитриева, – вот наглядный ему урок...
Но Степан только улыбался в душе и не отвечал Ковалинскому. Да и что он мог ответить? Ответить он может только делом.
В Казань они прибыли вечером, и когда ехали на извозчике, Степан с удивлением чувствовал, что и город-то стал ему как бы чужой. Может быть, это потому, что он устал?
Вот сейчас колеса загремят по Покровской, он увидит дом, который уже стал ему родным, увидит Анюсю, которая его ждет... Но странное спокойствие было на душе, и Степан только улыбнулся, увидев желтые окна во втором этаже дома, возле которого остановилась пролетка.
– Ну-с, вот мы и дома! – радостно сказал Ковалинский, с умилением глядя на свой дом, на уютный свет в окнах и воображая, должно быть, ту радость, с которой его встретит жена и дочь. – Видишь, Степан, нас ждут!..
В доме, как и в прошлые их приезды после долгих отлучек, поднялась суета, Фрося загремела в кухне корытом, готовя Петру Андреевичу «баню», по лестнице несколько раз прощелкала туфельками Анюся, и Степан слышал, как шаги ее замирали возле двери в мастерскую.
Но Степан лежал на кровати прямо в одежде и не мог понять, хочется ли ему, чтобы Анюся вошла, или нет. Ему все тут сделалось посторонним, и в сердце было тихо и тоскливо, как перед прощаньем.
Часть четвертая
На распутье
1
Алатырь встретил Степана раннеутренней тишиной, и когда он ехал на пролетке мимо Вознесенского собора, на колокольне ударил колокол к обедне. Площадь Венца была по-утреннему чиста и пуста, и несколько крестьянских телег стояло у коновязи. Степану вспомнилось, как он мальчишкой в ярмарочной толпе ходил тут, рассыпая из-за пазухи землю. О, как это было давно!..
Пролетка мягко покатилась по немощеным знакомым улицам. В домах уже топились печи, горланили петухи по дворам, шли по воду хозяйки...
Дом брата Степан увидел издали и даже привстал в пролетке. Но странное зрелище представлял из себя дом – без окон, крыша и стены подпираются бревнами. «Должно быть, перестраивают», – подумал Степан, вспоминая письмо отца, полученное еще весной, в Можаровом Майдане. Он тогда так и не послал отцу денег. Ничего, они и сейчас пригодятся. Возле дома никого не было видно.
Степан велел остановиться, сунул в широкую коричнево-задубевшую, как кора, ладонь извозчика два двугривенника и, подхватив зеленый сундучок, вылез из пролетки.
Возчик с изумлением разглядывал серебрянные денежки в своей ладони, не в силах поверить, что это все ему. Но вот, точно спохватившись, круто развернул свою лошаденку и полоснул ее кнутом.
Во дворе Степан первым увидел отца. Дмитрий за эти годы сильно изменился. Это был уже настоящий старик. Курчавая когда-то светлая борода потемнела, поредела, висела сивыми космами и уже не блестела, как прежде. Некогда широкие плечи теперь опустились, обвисли, спина сутулится. Через открытый ворот рубахи виднелась запавшая костистая грудь. Он уставился на вошедшего Степана, внимательно разглядывая его, не узнавая, потом лицо у него просветлело. Но, все еще боясь поверить своим глазам, он робко сказал:
– Степан, да это никак ты?
– Я, отец... И спазма перехватила горло. Он опустил на землю сундучок и обнял отца, остро, болезненно и сладостно чувствуя, как сливается с теплотой большого и грузного отцовского тела. Да и у Дмитрия глаза сделались влажными, бескровные губы дрожали. Он оторвался от сына и засуетился, украдкой стирая кулаком слезы.
– Пойдем в избу, чего мы здесь стоим... Ой, да что говорю, изба-то разломана!.. Мы пока в сарае живем, а мать с маленькими ходит ночевать к соседям.
Во двор вбежали два мальчика. Степан даже растерялся, не зная, который из них его брат, а который племянник. Они были почти одинаковыми. Только у одного волосы на голове немного темнее. Дмитрий догадался о его сомнениях.
– Посветлее, этот – Миша, твой меньший брат, а потемнее – Вася, племянник. Он тоже, как и ты, все чертит на стенах да на заборах. Видно, пошел в тебя. А Илька с Петром пошли на Старицу рыбу ловить. К вечеру принесут на уху. – Дмитрий повернулся к мальчикам и сказал: – Чего вы стоите и не подходите? Это приехал наш Степан.
А Степан, как обычно, только тут вспомнил, что забыл о гостинцах для своей родни. Его сундучок был набит красками и склянками с рисовальным лаком. Даже костюм и прочее белье пришлось завернуть отдельно и приторочить к сундучку.
– Вот отдохну немного с дороги и поведу их в лавку, накуплю им всяких гостинцев, – виновато сказал он, подмигивая братишке и племяннику. – Правда? Я ведь не знал, чего у вас есть, а чего нет...
Из огорода, отбросив калитку и распугивая во дворе кур, выбежала мать и, точно обезумев от счастья, бросилась Степану на грудь. Она плакала, целуя его в шею, в глаза, гладила по спине, отстранялась на миг и опять припадала к нему. На ней не было ни пулая, ни кокошника, с которыми она не расставалась в Баевке, волосы на голове у нее убраны по-русски, длинный темный сарафан... Степану так непривычно видеть мать такой, точно это не она, а какая-то другая женщина в ее образе. И, сам едва удерживая слезы, он говорит:
– Ты, мама, совсем превратилась в рузаву...[5]5
Рузава – русская женщина.
[Закрыть]
– Дак ты сам, Степа, сделался настоящим русским человеком, – сказала мать с улыбкой. – Встретила бы где-нибудь на улице и не узнала бы. Вон как вытянулся, а лицо белое...
– Работа у меня была такая, мало приходилось бывать на солнце.
Марья уже пришла в себя. Она уже распоряжалась:
– Ну, пойдем покормлю, чай, проголодался с дороги. Видишь, где живем, в сарае. Дом-то разобрали, а собрать никак не выходит... Иван все работает на паровозе, – рассказывала она, накрывая на стол, – а один отец ничего не может, старый совсем стал...
– Теперь соберем, Степан поможет, – сказал Дмитрий, не спуская радостного взора с сына.
Ребятишки тоже подсели к столу. Степан чувствовал, что и мать и Вера ждут каких-то подарков. Вера – та и вовсе не могла оторвать глаз от зеленого Степанового сундучка, и чтобы внести в это дело ясность, Степан вынул из кармана деньги и положил перед отцом:
– Вот это всем вам подарок от меня.
В сарае воцарилось долгое изумленное молчание. Ни отец, ни мать, ни Вера, ни ребятишки не могли отвести глаз от денег, лежавших на краю стола ровной пачечкой. Они не могли поверить в эту реальность, но и не верить было уже невозможно.
– Господи, – прошептала Вера.
Степан улыбнулся и подвинул деньги отцу.
– Бери, отец, и распоряжайся.
Отец заморгал и с каким-то детским удивлением уставился на Степана.
– А уж подарков не купил, извините...
– Хорошо сделал, что не купил, – радостно всполошилась мать. – С домом и без того много денег израсходуется, – распорядилась она уже как строгая хозяйка. Она гордилась теперь Степаном.
Дмитрий трясущимися пальцами отделил от пачки два червонца.
– Эти возьми. Ты теперь уже взрослый мужчина, без денег нельзя...
Марья постелила постель в задней части избы, где окна не были выставлены и печь стояла на месте. Она подождала, когда Степан разденется и ляжет, потом присела к нему на край постели. Она провела теплой и шершавой рукой по его волосам.
– Привычка у тебя осталась прежняя, долговолосый...
Степан, конечно, чувствовал, что мать подсела к нему совсем не для того, чтобы сказать это. Она сейчас будет расспрашивать, как он жил в Казани, почему приехал, надолго ли, что думает делать дальше.
– Знать, там тебе не понравилось, сынок? – спросила она осторожно.
– Жил я, мать, в Казани хорошо, – ответил Степан и поторопился добавить: – Но ведь мне нужна не только хорошая жизнь.
– Что же тебе еще нужно, сынок?
Степан подумал немного и сказал:
– Тебе этого не понять, мама.
Мать опять провела рукой по его голове.
– А ты расскажи, может, пойму. Я уж не такая бестолковая.
Степан долго говорил ей о необходимости учиться, о том, что иконник – это не живописец, не художник, которым он собирается стать, и Марья действительно ничего не поняла. Она все время слушала молча, не перебивая его.
– Ну, а пока поживу здесь, может, не прогоните? А?..
– Что ты говоришь пустое, сынок, – вздохнула мать. – Только вот жилье-то у нас худое, к холодам бы с домом успеть. – И она стала жаловаться на Ивана: работа грязная, тяжелая, а дома не может без вина и шагу ступить, плохо помогает отцу...
– Ну ладно, не ругай его, я помогу, – успокоил ее Степан.
2
Целыми днями, а они делались все короче и короче, Дмитрий с сыном занимались ремонтом дома. Степан уже отвык от топора, и отец, глядя на его работу, только посмеивался да остерегал, чтобы он не порубил себе ногу.
Они заменили нижние венцы, под окна подвели дубовое бревно, потому что от сырости тут всегда дерево гниет быстрее. Степан сначала исподволь заводил разговоры о том, что можно бы нанять плотников, ведь есть теперь деньги, однако отец отмалчивался и только ожесточеннее, яростнее садил топором по бревну, вырубая паз.
Но вот дошло дело и до переборки пола в передней избе, до печки. Тут уж пришлось нанимать печника, и два целковых, которые запросил печник, повергли Дмитрия и Марью в настоящее горе.
В ясные сентябрьские дни, дни бабьего лета, крыли дранкой крышу. Это была веселая, радостная работа. Солнце сияло на свежей осиновой щепе, дробно и звонко стучали молотки, и, остановившись на минуту, чтобы смахнуть со лба пот, Степан глядел на открывшуюся алатырскую пойму со стогами сена, на желто-багряный разлив засурских лесов... А внизу, на дороге, играли в «бабки» Миша и Вася или строили из щепок домики, населяя их вылепленными из красной глины уродливыми человечками. И ему вспоминалось на миг свое детство, как он вот так же строил домики и лепил из глины всякие фигурки... Но к нему уже вплотную подступал, гоня свой ряд дранки, племяш Петярка, вымахнувший за четыре года в долговязого подростка, азартно покрикивал ломающимся голосом: «Эй, дядя Степа!..», и Степан, улыбнувшись этому окрику, этому новому своему имени, брался за молоток. «Дядя!..»
Но с каким-то особенным пристрастием посматривал Степан на пятилетнего племянника Васю. Может быть, он видел в нем самого себя таким, каким и сам был в пять лет? В первый же день отец, лукаво подмигивая, с какой-то затаенной радостью показал Степану на исчерченные углем дощатые стены сарая. Это были рисунки Васи.
Конечно, племянника он обязательно будет учить рисовать, и ему не придется мыкаться у каких-нибудь богомазов. Однако Вася еще слишком мал, чтобы серьезно заняться его учением. Им с Мишей сначала надо пойти в школу, научиться читать и писать.
Как-то в одно из воскресений Степан зашел в лавку книготорговца и купил для них букварь. Для себя он выбрал книжку стихотворений Некрасова, – это имя было ему знакомо: в Лайшеве Ковалинский брал ее читать из большой поповской библиотеки. А букварь Степан отдал ребятам. Миша и Вася очень обрадовались этому подарку. Но не прошло и пяти минут, как они поссорились из-за того, у кого в руках должна находиться книга. Миша тянул ее к себе, Вася – к себе.
– А вы прикиньте на палке, кому достанется держать книгу сегодня, кому – завтра, – посоветовал им Степан.
Мальчики взяли длинную палку и, перехватывая ее руками, прикинули, чья рука выйдет последней. Последней на палке вышла Мишина рука. Вася на некоторое время успокоился. Однако вечером спор разгорелся с новой силой. Весь день прошел, и Вася стал требовать себе книгу, а Миша доказывал, что его, Васин, день начнется только завтра утром. Пришлось Марье ремнем унимать эту ссору.
«Ладно, куплю им завтра другой», – решил Степан.
А на другой день ребята успокоились сами собой, мирно сидели на печи, шелестели страницами, разглядывая картинки, и тихо разговаривали.
– Что, помирились?
– Не помирились, а разделили, – ответил Миша.
– Что разделили? – не понял Степан.
– Книжку пополам разделили. Петярка с Илькой нас научили. Вы, говорят, разорвите ее пополам, одна половина будет мне, другая Васе. Мы так и сделали, – с удовольствием рассказывал Миша.
В ясные солнечные дни Степан брал бумагу, карандаши и шел на Суру, садился где-нибудь в укромном месте на берегу и срисовывал кусты ивняка, плывущие по реке лодки или сидящих с удочками рыбаков. Он привык писать прямо красками, поэтому карандаш его не всегда бывал послушным. Он только сейчас понял по-настоящему, почему в художественной школе в Казани, как рассказывал Яшка, целыми днями рисовали руки, носы, кувшины и прочие, казалось бы, ненужные предметы. И теперь он жалел, что этому никогда не учился.
Как-то в один из таких дней от неумения запечатлеть карандашом на бумаге живое напряжение фигуры рыбака, его охватило самое настоящее отчаяние. Может быть, тому мешал и сам рыбак, не замечавший, что его рисуют, – уж очень он был азартен, подвижен, энергичен в движениях.
Это был молодой человек лет двадцати пяти, долговязый, длиннорукий, со светлыми усиками, в красивом картузе, из-под которого выбивался светлый чуб, в каком-то форменном синем пиджаке, уже употребляемом, видно, только на рыбалках, но еще ловком и ладно сидящем на хозяине.
Рыба клевала хорошо, и рыбак то и дело выхватывал удочкой красноперых окуней. Но вот поклевку как обрубило, и рыбак застыл в ожидании, глядя на поплавок.








