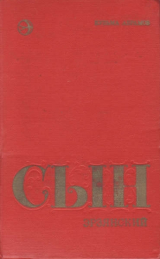
Текст книги "Сын эрзянский. Книга вторая"
Автор книги: Кузьма Абрамов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц)
– Ах, мой жена! – Колонин отпрянул и разразился истерическим смехом, который, правда, вскоре стал похож на плач. И в самом деле – глаза Колонина заблестели.
– Это одно и то же, это один дьявольский посев, – забормотал сквозь слезы Колонин.– Красота тела, красота ручки, ножки, красота шляпки, зонтика, красота лошади, красота жратвы, черт возьми! – вскричал он, точно переступил какой-то порог. – Это все тот же сладкий небесный яд, но уже изысканный, уже не для лакеев и лавочников, а для сытых, для всех этих солодовых, серебряковых, золотовых. Красота вся эта – их жертва, их добыча, они, как черви, сосут этот яд. Но плоть ненасытна, и белые руки в кольцах и каменьях тоже тянутся к небу: «Дай, господи!..» И он дает им тоже: «Нате!..» Да будь она проклята, эта красота!.. – Колонин замолчал, точно уже изнемог в какой-то нервной борьбе. Пошатываясь, он стоял перед «Параскевой», закрыв лицо руками.
Степан мало понимал из того, что говорил Колонин. Ему было жалко его самого, его лихорадочной ненависти к тому, – и Степан каким-то чутьем понимал это, – чему Колонин отдал свою жизнь, а вот теперь он сам это топчет, рвет в болезненной ненависти и еще больше страдает. Но мальчик, в котором уже властно жил художник, не мог сочувственно внять этой чужой боли, и он скавал:
– Но ты сам рисуешь красоту...
– Красоту, – как эхо, отозвался Колонин надсадным шепотом. – Потому что я ничтожный художник, такой же червяк, как и все, я поддался искушению, я попался на крючок... Ведь это кажется прекрасным и высоким: «Красота спасет мир!» Кто из нас не отдаст жизнь для спасения мира, который всякому гимназисту кажется таким ужасным!.. Господи, но как это все наивно. Как наивны все эти великие Христовы апостолы, эти красноречивые артисты, эти болтуны! Где они были в минуту великой казни? – они были уже на базаре, они торговали заповедями – ведь красивые слова, как и всякая красота, идут нарасхват, а у палачей на красоту особый нюх. Но мало этим базарным артистам оказалось слов Учителя, – ведь они, как это и пристало нерадивым ученикам, очень много спали, они сделали и Голгофу предметом торговли, они заставили распятого нежно улыбаться, они его так удобно и благородно повесили на своих серебряных распятиях!.. Вот с какой лжи началось это великое искусство, и потому оно процветает в этом большом болоте, которое называется миром. Как же оно может спасти его, если у него совсем другая задача?! Разве что-нибудь изменилось со времен божественного Рафаэля? Разве эта хлябь не стала еще ужасней? Разве не изощрились в жратве эти пресытившиеся черви? Разве уменьшается легион лакеев и лавочников, торгующих объедками и подержанной красотой оптом и в розницу? И все мало, мало, мало! Все больше жадных рук тянется к небу: «Господи, дай! Господи, не оставь!» И просящий да получает. И я, грешный, тоже получил... – едва слышно прошептал Колонин, и плечи у него задергались, весь он затрясся от душивших его рыданий, закашлялся, на бледном лбу заблестели капли пота. Шатаясь, он пошел куда-то в угол, задел плечом мольберт, тот с грохотом опрокинулся, «Параскева» вылетела и распростерлась на полу, а Колонин что-то стал искать среди банок и бутылок. Руки у него тряслись. Наконец он вытащил шкалик, но шкалик был пуст, и он швырнул его на пол, прямо в латунную ступку, и шкалик разлетелся в брызги.
– Ты долго будешь меня терзать, варвар? – крикнул Колонин с перекошенным злобой лицом.
– Больше не буду...
– А ну марш к Филиппову, мошенник, – захрипел Колонин. – Не принесешь – убью, выгоню-у!..
Степан выскользнул из угла и так, с пестиком в руке, бросился вон. Это было уже не впервые – бегать к Филиппову за водкой...
Иногда Колонин работал. Обычно это случалось после искреннего, как Степану казалось, покаяния его перед Еленой Николаевной. Она плакала, она говорила, чтобы он пожалел себя, что он губит свой талант, он позорит и ее на весь Алатырь, что ей уже отказали в одном доме (она давала уроки музыки купеческим детям, и только этим они и жили с Колониным), что это бы ладно, бог с ним, но так дальше жить невозможно, она не вынесет!.. И столько горя было в ее словах, что Степан, невольно все это слышащий из-за тонких перегородок во флигеле, готов был броситься на Колонина с кулаками. Но и Колонина самого, видно, трогали эти слова, он начинал каяться, падал перед ней на колени, плакал, называл Елену Николаевну ласково и нежно Еленушкой, Елей, а себя – недостойным мерзавцем, скотиной, но что теперь все, конец, он больше не будет, начнет работать! – и это тоже было так искренне, так убедительно, что Елена Николаевна начинала его утешать, ободрять, как малого ребенка.
– Если хочешь, давай уедем отсюда, – говорила она повеселевшим голосом.– Уедем в Нижний, в Казань; куда хочешь, начнем новую жизнь. Ты вспомни, вспомни, Алеша, как было все у нас чудесно, как ты работал, как ты счастлив был! Неужели ты все это забыл, Алеша? Ведь ничего еще не потеряно, Алеша, только наберись немножко мужества, ради себя, ради своего таланта, ради меня – я же всю жизнь свою тебе отдала, и неужели ты загубить все?
И Колонин, обнимая Елену Николаевну, уткнувшись головой в ее колени, плакал и бормотал покаянно:
– Правда, Еленушка, правда, давай уедем, начнем... начнем новую жизнь, ты поверь мне, Еля...
– Я тебе верю, Алеша, верю, ведь ты сильный, мужественный человек...
И вот после такого покаяния «сильный, мужественный» Колонин приходил на веранду – с непросохшими слезами в бороде, но с каким-то просветленным, добрым лицом, и весело говорил Степану:
– Ну, давай работать, живо! – и потирал, мял пальцы, чтобы унять дрожь. И сначала это ему удавалось, да и кисть словно бы придавала ему силы, и вот в один из таких моментов Колонин закончил голову «Параскевы». Но, видно, это стоило ему больших усилий – лоб покрывался испариной, лицо тускнело, кисть начинала дрожать, и сам он больше прислушивался к тому, что делает Елена Николаевна. Степан знал, что Колонин ждет, когда Елена Николаевна уйдет на свои уроки. И вот она уходила, заглянув на веранду, чтобы еще раз ободрить Колонина, радостно удивлялась, как хорошо получается, хотя ничего хорошего и не было еще. Как только шаги ее затихали, Колонин в изнеможении бросал кисть, падал на стул и сидел – бледный, жалкий, с темными, провалившимися глазами. Потом он поднимал виноватый взгляд на Степана и жалобно просил:
– Степа, сбегай к Филиппову, все у меня горит, я сейчас умру, не могу...
– Елена Николаевна не велела, – пытался возражать Степан.
– Ну, я немножко, самую чуточку, она не узнает! Сбегай, Степа!..
И если Степан упирался и дальше, Колонин вдруг взрывался, начинал грозить, что убьет, выгонит мошенника вон! Делать было нечего, надо было бежать к Филиппову, а Колонин утешал его вслед:
– Вот молодец, вот умница, придешь и порисуешь сам.
Выпив, Колонин делался добрее, разговорчивее, позволял Степану рисовать. Так под его наблюдением Степан закончил «Параскеву» – написал красный плащ, тонкую ее руку, поднятую для благословения.
– А что, – сказал уже изрядно захмелевший Колонин, – бла-го-родно, вьюнош, бла-городно, черт возьми, в тебе что-то есть, что-то есть, это я тебе говорю, я – Колонин! Понял, варвар? Но тебе надо учиться, иначе ни черта из тебя не будет, кроме богомаза.
Под такие нравоучения пьяного учителя Степан закончил еще несколько начатых Колониным икон, но здесь, на веранде, когда у него появилась маленькая возможность рисовать, он впервые почувствовал, что не во всякую минуту рисование доставляет ему удовольствие. Иногда просто хотелось постоять и посмотреть в заросший боярышником угол сада, просто так постоять и посмотреть. Да и рассуждения Колонина тоже не пропадали даром – они оставляли какой-то неясный, но долго саднящий след.
После обещаний, которые давал Колонин Елене Николаевне, шел, как обычно, особенно тяжелый запой, точно Колонин хотел вином залить остатки стыда, утопить в вине свои обещания, навсегда разрушить мост к спасению. И если его удерживали Елена Николаевна и Степан, он прикидывался совершенно невменяемым, кричал, закатывал глаза, рвал рубаху на груди, ломал и швырял все, что попадало под руку, и, добившись свободы таким путем, уходил, шатаясь и пьяно крича, из дому. И тогда Степан отправлялся вечером искать его. Это было ему унизительно, он остро переживал оскорбления, которые орал Колонин на всю улицу, и если бы не слезы Елены Николаевны, на которую Степан смотрел с восхищением и восторгом, которую про себя тоже называл Еленушкой, если бы не она, Степан ни за что не ходил бы искать по городу Колонина и таскать его, упившегося до беспамятства, домой. «Чтоб ты сдох!» – лезло ему в голову, когда он тащил его. И ему воображалось даже, как они с Еленой Николаевной будут жить во флигеле вдвоем, как он будет писать иконы, и ни чем не огорчит он прекрасную «Еленушку», и будет писать так много икон, заработает столько денег, что «Еленушке» не надо будет ходить по домам и учить купеческих дочек музыке – ведь Степан видит, как она устает, и слышит, какие эти «дочки» дуры, что у них совсем другое на уме. «Чтоб ты околел!» Ведь от Колонина только одно горе, только одна беда «Еленушке»!..
Однажды, уже под осень, поздно вечером Степан нашел Колонина в Конторском саду. Колонин шел в компании двух своих пьяных друзей, которых уже знал и Степан и которые знали Степана и всегда издевались и дразнили его: «Ну что, какой твой нужда?» Степан пошел за ними поодаль – Колонин еще довольно твердо держался на ногах, и теперь увести его домой не было, конечно, никакой возможности.
Ясное дело – они направились к Филиппову. День был будний, в трактире, в вонючем и грязном подвале, народу было мало, и Степан сел за соседний столик – он решил ждать. Тут его и заметил Колонин.
– Ты откуда взялся? Чего тебе надо? – спросил он, уставясь на Степана мутными пьяными глазами.
– Мне ничего не надо, – сказал Степан.– Я хочу отвести тебя домой. Там плачет Елена.
– Елена? Какая Елена?! – воскликнул он пьяным срывающимся голосом. – Елена премудрая, Елена прекрасная, Елена – жена Менелая? Вот сколько было Елен! Так которая ждет меня?
– Елена – твоя жена, – сказал Степан.
– Жена, – повторил он, растягивая слово. – Ну и пускай себе ждет. У жен такая участь – ожидать. Пенелопа своего мужа ждала двадцать лет. Но, впрочем, одна из Елен сбежала от мужа, сбежала с этим сопляком Парисом... Погоди-ка, ты, случаем, не Парис?
Степан не знал никакого Париса и никогда о нем не слышал. Он сказал:
– Пойдем домой.
– Смотри-ко, как разговорился твой щенок, – сказал один из друзей Колонина, тот самый, что был с гитарой.
Колонин насупился и крикнул:
– Отыди от меня, Парисово наваждение. Вон, мошенник!..
Половой принес и поставил перед ними на стол синий графин и стаканы.
– Выкинь этого щенка, – сказал ему друг Колонина. – Он портит порядочным людям настроение.
Половой повернулся к Степану.
– Чего изволите, молодой человек?
– Ничего.
– Ах, ничего! Но у нас праздным посетителям занимать столы не полагается. Извольте выйти.
Пришлось подняться и выйти на холод.
Он перешел улицу и направился в Конторский сад. Там сел на скамейку, не выпуская из вида двери трактира. Ожидать пришлось долго. Чтобы не замерзнуть, ходил по дорожке. Деревья почти облетели, дорожки были усыпаны листьями. Наконец уже не было сил ходить, и Степан сидел, коченея от холода.
Но вот из трактира выползли друзья Колонина. Степан их узнал сразу: на одном короткий пиджак, помятая фетровая шляпа, гитара на плече. Другой в длинном плате и без головного убора. Вслед за друзьями тот же половой, который выставил из трактира Степана, выволок Колонина. Колонин не мог стоять на ногах. Половой кое-как прислонил его к стене и оставил. Колонин почти сразу же сполз вниз и уселся на тротуаре. Его друзья пошли и не оглянулись.
– Ну, теперь, должно быть, ты дошел до точки, – проговорил Степан, подходя к Колонину.
Тот что-то бессмысленно бормотал. Он не переставал бормотать до самого дома. Степан почти нес его. Хорошо, что Колонин очень худой, вся тяжесть – в костях и одежде да в выпитом вине.
Дома они с Еленой раздели его и уложили в постель. Колонин не переставал бормотать и в постели, но ничего нельзя было понять. Это был пьяный бред.
– Спасибо тебе, Степа, – сказала Елена Николаевна. – Что бы я делала одна!.. – Глаза ее горько и устало глядели на Колонина. В доме было холодно, она кутала плечи в белую пушистую шаль.
– Как все это гадко, низко, – сказала она вдруг очень строго и отвернулась от Колонина. – Ты тоже весь замерз, пойдем пить чай.
Чай пили они в маленькой кухонке, но и тут было слышно прерывистое бормотание Колонина.
Степан вызвался поставить самовар, и пока возился с водой, углями, пока раздувал, Елена Николаевна сидела за столом перед высокой керосиновой лампой и задумчиво смотрела на пламя.
Степан тихонько присел напротив, глядел на руки Елены Николаевны, на тонкие ногти, прозрачные пальцы.
Тихо подвывало в самоварной трубе. Колонин не подавал звуков.
– Елена, скажи мне, кто такой Парис? – спросил Степан, прерывая затянувшееся молчание.
Елена не сразу поняла, о чем спрашивает Степан.
– Как ты сказал?
– Давеча Колонин пьяный все называл меня Парисом. Тебя же называл Еленой прекрасной, женой Менелая.
– Ах, вон оно что! – Елена Николаевна улыбнулась, улыбнулась первый раз за весь день. – Боюсь, что мы с тобой, Степан, вряд ли подойдем под эту старинную сказку. Для Париса ты еще слишком молод, а Елена уже изрядно постарела.
– И совсем ты не постарела! Ты моложе всякой любой девушки, – сказал Степан с воодушевлением, а лицо его залила краска.
Елена, смутившись, немного помолчала. Потом медленно и осторожно, чтобы не обидеть Степана, проговорила:
– Давай, Степан, договоримся вот о чем. Когда ты обращаешься к женщине, не говори ей «ты», говори – «вы». Того требует приличие, простое приличие. И вообще, если обращаешься к человеку старше себя, то тоже говори «вы». Я тебе говорю «ты», потому что ты моложе меня.
– Но у нас, у эрзян, не говорят никому «вы», всегда говорят «ты», – сказал Степан.
– Это у вас, а у русских не так. Ты живешь среди русских, поэтому и придерживайся их обычая, чтобы не казаться смешным и невоспитанным. Понял ты меня?
Степан ничего не ответил. Немного помолчав, он снова вернулся к своему вопросу.
– Все же, кто такой был Парис? Я ни разу о нем не слышал.
– Откуда тебе знать, ведь ты не учился в гимназии, – проговорила, опять запечалившись, Елена Николаевна. – В давние времена жили на земле люди, которых теперь называют древними греками. У этих греков было множество царей. Почти каждый город или отдельное племя имело своего царя. Так вот, у одного из таких царей была красивая жена, которую звали Ледой. Леда нравилась самому главному из богов – Зевсу. Когда она купалась в речке, Зевс прилетел к ней, превратившись в лебедя. После этого она родила дочь, ее прозвали Еленой.
Елена была красивейшей девушкой во всей Греции. Все цари стали сватать ее за своих сыновей. Наконец она досталась самому сильному из них – Менелаю. По всей земле шла слава о красоте Елены. Эта слава дошла и до Троянского царства. Сын царя Приата – тот самый Парис – решил украсть Елену. Он приехал в Спарту под видом купца, познакомился с Еленой, уговорил ее и увез в Трою. Тогда Менелай, обманутый и обиженный муж, призвал всех греческих царей заступиться за его поруганную честь. Цари откликнулись на его просьбу, собрали свои войска и двинулись на Трою. Десять лет шла эта война, пока троянцы не потернели поражение и Менелай вновь не получил свою жену. Вот кто был Парис. Тут и сказке конец...
Степан долго не знал, что сказать. Ему не верилось, что это всего лишь простая сказка. Все это, должно быть, было на самом деле. Ночная темень давила на окна.. Елена Николаевна глядела туда, и по щекам ее катились слезы. «Та греческая Елена, – думал Степан, – наверное, была похожа на нее...»
А ночью Степану приснился сон: он, подобно Парису, привез Елену Николаевну в Баевку. По Бездне плавают белые лебеди, а он бегает за ними с палкой и отгоняет от купающейся в реке Елены Николаевны...
Однажды, когда уже лежал снег (а снег в том году выпал рано – задолго до покрова), Степан напрасно проискал своего учителя Колонина до полуночи и должен был вернуться к Елене Николаевне один. Он надеялся, что Колонин уже дома, но дома его не было.
А утром его привели чужие люди: мокрого, грязного, почти замерзшего. И Колонин заболел. В середине дня пришел доктор, за которым бегал Степан, посмотрел, покачал головой и велел немедля везти в больницу.
Больничная лошадь прибыла только к вечеру, Степан с санитаром закутали бредящего Колонина в тулуп, положили в розвальни и повезли. За санями шла Елена Николаевна в беличьей шубке и уже не плакала, но как-то тупо и равнодушно смотрела под ноги. Она отстала от лошади, так что когда подошла к больнице, Степан ей сказал:
– Все, унесли в палату.
– Унесли... – спокойно повторила Елена Николаевна и вздохнула. – Что теперь?..
– Домой надо идти, – рассудительно сказал Степан. – Холодно.
И она как-то покорно согласилась, и они пошли обратно. Эта покорность Елены Николаевны смутила Степана и вселила в него какую-то мужскую уверенность. Он почувствовал на своих плечах радостную ответственность за эту бедную и несчастную женщину. И не об этом ли он мечтал?!
В доме было холодно, пусто и ужасно сиротливо. Елена Николаевна, не раздевшись, точно во сне, ходила по комнате, все так же тупо и сосредоточенно глядя под ноги, думала о чем-то своем, недоступном и неизвестном Степану, однако ему казалось, что она мучается одним: как ей жить, если Колонин умрет? Но, по его понятию, думать тут было совершенно нечего – ведь есть он, Степан! И он не маленький мальчик, ему уже идет шестнадцатый год, он все умеет: и дров наколет, и воды натаскает, и заказы может брать на иконы, он напишет их не хуже Тылюдина!.. О чем печалиться Елене Николаевне?! Стоит ей только сказать слово.
Но Елена Николаевна все так же ходила и молчала. Да и какое слово хотел бы от нее услышать Степан, он и сам не знал.
– Холодно, – сказал он, нарушив тяжелое молчание.
– Да, холодно, – ответила Елена Николаевна.
– Печку затоплю.
– Да, затопи, пожалуйста... – всё так же равнодушно и тупо отозвалась Елена Николаевна.
Когда самовар был готов, Степан пошел звать Елену Николаевну пить чай. Она лежала на кровати – прямо в шубке, в платке. Глаза ее были закрыты. Светлые волосы выбились из-под платка. Дышала она ровно и спокойно. Она спала.
Степан постоял, посмотрел на свою хозяйку, не решаясь ее будить, – ведь так он может смотреть на нее столько, сколько захочет. Он будет смотреть на нее всю ночь. Он будет беречь ее сон. Он только попьет чаю и снова вернется.
Степан тихонько ушел в кухню. Здесь было уже тепло, и он снял пиджак. Самовар тихонько пофыркивал, маленькое пламя торчком стояло за нечищеным пузатым стеклом лампы.
Степан сел на стул, куда обычно садился Колонин – к окошку, налил синенькую тонкую чашку с узором, из которой пила Елена Николаевна, поставил на ее место, а себе налил в большую белую и легкую – из нее пил чай Колонин. На чашке Колонина тоже оказался узор – раньше Степан его не замечал. Узор был и на блюдце – легкий тонкий орнамент по краю, очень красивый. Степан еще никогда не видел такого красивого блюдца. Белое как снег, оно было почти прозрачно.
Засмотревшись на золотистый узор, он и не заметил, как голова его склонилась к столу. И он уснул.
Утром Елена Николаевна уже не ходила взад-вперед по комнате, но как-то все беспокойно и тревожно спрашивала себя:
– Что же делать? Что делать?..
И то собиралась немедленно идти в больницу, то опять садилась к столу, ломала пальцы и говорила:
– Что делать? Что же делать?..
И тут Степан не выдержал. Набравшись решительности, от которой у самого перехватило дух и потемнело в глазах, он вдруг выпалил, что ей не о чем беспокоиться, что он все сделает: и дров наколет, а когда понадобится, привезет целый воз из деревни – у них там много в лесу дров, и что воду будет носить, и печку топить, и пол может вымыть во всем доме, и рисовать будет на заказы!..
У Елены Николаевны как-то сразу от удивления просветлели глаза. Она улыбнулась. Эта улыбка Степана ободрила. Он шагнул к ней и сказал:
– Ни о чем не будешь беспокоиться. Со мной твоя жизнь сразу полегчает!
Елена Николаевна опять улыбнулась той же тихой улыбкой.
– Эх ты, глупый мальчик, понимаешь ли сам, что ты говоришь? – произнесла она. – Ты настолько не знаешь жизни и наивен, что впору смеяться над тобой. – Она помолчала, поправила на затылке волосы. – Каждому человеку, Степан, в жизни дается нести крест. У одного этот крест легкий, и он его несет шутя, у другого – тяжелый, он идет с ним, подгибаясь к самой земле. Мне крест достался тяжелый. Я его должна нести до могилы, и никто другой мне эту тяжесть не облегчит. В твои годы, Степан, все кажется простым и легким, твой крест еще не тяжел, вот поживешь немного на свете и почувствуешь, как он с годами потяжелеет. – Она остановилась, вздохнула и с улыбкой добавила: – И не говори, пожалуйста, мне «ты», ладно? И не называй Еленой, хорошо? Для тебя я Елена Николаевна. Так и зови меня. А то шут знает, что ты можешь вообразить...
Степан вдруг почувствовал себя маленьким и беспомощным. Елена Николаевна неожиданно воздвигла между ним и собой непреодолимое препятствие. Это препятствие ему никогда не перешагнуть, он это почувствовал и понял сейчас особенно ясно. Он понуро опустил голову и молчал. Теперь ему никогда больше не взглянуть на нее открыто и смело.
– Я думаю, Степа, – продолжала Елена Николаевна, – пока Колонин в больнице, тебе лучше пойти домой. Рисуй у себя дома, я тебе дам все... Ну, а там будет видно.
Последние слова как-то не дошли до Степана. Он только понял, что ему нужно уходить. Он надел пиджак, снял с гвоздя около двери шапку.
– Не обижайся, что же делать, – мягко сказала Елена Николаевна.
Степан пошевелил плечами. Нет, он не обижается.
– Иди и бери все, чего тебе надо, – сказала Елена Николаевна. Она сама прошла вместе со Степаном на веранду. – Вот, бери все...
Степан робко выбрал несколько ополовиненных банок с красками, но Елена Николаевна вдруг с каким-то ожесточением и ненавистью стала сама бросать ему все подряд.
– Тут ничего не останется Колонину, чем же он будет писать? – возразил Степан, смущаясь, но в то же время сквозь стыд беспредельно радуясь такому щедрому подарку.
– Не беспокойся, он не скоро будет писать, – резко сказала Елена Николаевна.
Она проводила его до крыльца. Степан, завалив узел за спину, пошел и все оглядывался, но Елены Николаевны уже не было.
«Надо будет привезти ей дров», – подумал Степан.
Всю дорогу до Баевки эта удивительно добрая женщина не выходила у него из головы. И неожиданно как-то сравнилась с Дёлей. Дёля тоже, конечно, будет такой доброй и красивой. И Степан обязательно нарисует их портреты. Теперь ему есть чем рисовать. Повесит их у себя в избе, и пусть все любуются и видят, какие у него хорошие друзья. Будущей весной на ярмарке он опять покатает Дёлю на карусели. Вот бы покатать и Елену Николаевну, но разве она согласится сесть с ним рядом на виду у всех, ведь она любит своего мужа... А чего бы, казалось, любить такого пьяницу, который совсем не заботится о ней. Ну, ничего, он, Степан, позаботится – привезет ей хороший воз дров. Наберет сухих, чтобы горели хорошо. Сырые дрова ничего не стоят, в них больше дыму, чем огня и жару. Пока разгорятся, вдоволь наплачешься от едкой горечи. У Елены и без того хватает причин плакать. Он, Степан, никогда не заставит плакать Дёлю. Построит на берегу Бездны новый дом из сосновых бревен, и будут там жить вместе с Дёлей. Он будет писать иконы, а Дёля – вязать кружева. Прясть ни за что ее не заставит. Для чего Дёле прясть и ткать, ведь он ее оденет во все купленное в городских лавках. Она, конечно, будет одета по-русски, так, как ходит Елена Николаевна. С ней, по-русски одетой, можно и в город приехать, никто оглядываться не будет.
Встречных подвод на дороге попалось мало, а вдогонку ему не проехала ни одна порожняя, так что Степан всю дорогу прошел пешком.








