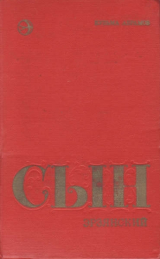
Текст книги "Сын эрзянский. Книга вторая"
Автор книги: Кузьма Абрамов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц)
Когла Степан со стороны глянул на свое художество, то первым желанием было убежать, скрыться, спрятаться. От кого? – он не знал, но желание было так сильно, что он ринулся сначала в огород, но навстречу ему шла Вера, устало потирая поясницу.
– Ты чего? – сказала она, заметив странное выражение на лице Степана, но мысль о меньшем сыне владела ею основательнее, и она спросила: – Не слышно, не орет там Васька?..
– Нет, вроде нет...– пробормотал Степан, повернулся и как-то боком, крадучись пошел обратно – к воротам.
– Как нет, отсюда слыхать,– сказала Вера недовольно.
Но тут вышел на крыльцо Иван и крикнул Вере:
– Васька кричит, где ты там? – И вперил изумленный взгляд в сундуки. Степану показалось, что земля у него уходит из-под ног, что крышки у сундуков до невозможности безобразны, что сейчас разгневанный брат прикажет их замазать. И хотя цветы были безобразны, но он чувствовал, что приказания замазать цветы он не выдержит, что нехорошо обзовет брата и убежит вон – куда угодно, хоть опять к Тылюдину краски тереть!.. И он стоял, опустив голову, ожидая суда над своим творением.
Иван, однако, сказал неожиданно спокойно:
– Чего это ты намалевал?
Степан не поднимал головы.
– Гляди, как разукрасил, – сказал Иван подошедшей Вере, и голос его был безнадежно тоскливым, точно гнев перегорел в его груди, не успев обрушиться на Степана. – Куда их теперь повезешь, засмеют люди... Придется перекрасить, – добавил он. – Краска-то хоть осталась?..
Однако Вера была другого мнения.
– Погоди, Иван... Она подошла к сундукам. – Маки, что ли?..
– С этими маками меня близко к ярманке не пустят...
– Да как это не пустят! – сказала Вера. – Да ты погляди, какая красота! Да эти сундуки по дороге на ярманку расхватают!..
Может быть, Вера смеется? Степан взглянул на сноху. Нет, лицо ее серьезно, восхищение самое искреннее. Может, не так уж и плохо, в самом деле?..
– Если только такие же дуры раскупят, как ты сама, – сказал Иван.
– Сам ты дурак, ничего не понимаешь в красоте! – решительно и твердо заявила Вера. – Экие красовитые сундуки я бы сама купила!..
Воспрянувший духом Степан поглядел на брата и сказал:
– Тебе, знать, не все равно, кто их купит – дуры или умные...
Иван обреченно махнул рукой и ушел в дом, а Степан готов был броситься Вере на шею. Однако взойдя на крыльцо и еще раз оглянувшись на сундуки, она вдруг сказала, как бы успокаивая саму себя:
– Ничего, может, и купят.
На Степана словно опрокинули ушат ледяной воды.
В продолжение трех дней, которые оставались до троицы, Степана кидало из глухого отчаянья в какую-то радостную уверенность, что сундуки непременно купят. Он ничего не мог делать, все падало из рук, хотя ни Иван, ни Вера и не вспоминали о сундуках, которые преспокойно сохли под навесом. Но он сам ни на один миг не забывал о них. Правда, Иван однажды все-таки вспомнил об этих злосчастных сундуках, и Степан едва не бросился на них с топором. И бросился бы, и изрубил бы, не случись это во время обеда. Вера за столом между делом заметила, что вот, Ваня, наш братик до сего времени ходит в лаптях, а завтра большой праздник...
Иван со Степаном переглянулись, вспомнив про прошлогодние сапоги. Иван тронул свой ус и сказал лукаво:
– Ну что ж, надо купить сапоги, это верно. Вот продадим сундуки...
Степан склонил голову. Уши у него горели, кулаки сжимались и наливались дикой, безотчетной силой. Однако Вера тут же переменила разговор, и Степан мало-помалу поостыл. А после обеда привязался Петярка: доделай да доделай ангела!.. И за этим занятием, к которому Степан уже охладел, прошло время до вечера.
Вечером накануне духова дня из Баевки приехали Дмитрий и Марья. Степан, как только услышал скрип телеги под окном, кинулся на улицу. Отец уже заводил во двор лошадь. Мать сидела на телеге, держа на руках какой-то сверток. Оказалось, что это его младший брат.
– Подержи-ка, я слезу, – сказала мать. Красное сморщенное личико сонно чмокало губами.
– Как зовут? – спросил Степан.
– Мишей назвали. Нравится?
Степан пожал плечами.
Мать порывисто обняла его, провела жесткой шершавой ладонью по голове и с прорвавшейся радостью сказала:
– А волосы все не стрижешь...
И у Степана вдруг сдавило в груди: он только сейчас понял, как сильно тосковал по матери, как он ее любит, как ему тяжело было всю зиму не видеть ни ее, ни отца!.. Слезы выступили у него на глазах.
9
Весенняя ярмарка в Алатыре устраивается не на Венце, а версты за две от города, в Духовой роще, на большой поляне возле церкви. Алатырские купцы ставят здесь свои дощатые временные ларьки, брезентовые полога, а крестьяне раскладывают свой товар прямо на земле, на свежей травке.
Так уж ведется, что на этой весенней ярмарке больше всего торгуют обувью, одеждой, разной хозяйственной утварью и игрушками. Из-за Суры возами привозят глиняные горшки, миски, кувшины. Но особое место на ярмарке занимают ряды с разной снедью. Вяленая и копченая рыба навалена кучами, соленая – в кадках, икра тоже продается из кадок. Калачи, крендели и пряники – это самый длинный ряд. Есть тут и что попить – брага, квас, сбитень, всякие наливки и настойки. Даже царев кабак выезжает сюда со своим «зеленым змием». Крестьяне из окрестных деревень и сел ночуют прямо в роще на телегах, так что веселье, гомон и шум здесь с утра до вечера. Молодежь особенно любит эту ярмарку. Точно маковые грядки краснеют головными платками группы эрзянских девушек и молодых женщин. А мордовки любят наряжаться особо: поверх вышитых белых рубах – красные рукава, передники у них сверкают всеми цветами радуги, пулаи звенят от множества блестящих серебряных монет, груди сверкают от снизок бус. Пестротой сарафанов и кофт от них не отстают и русские девушки. Кто побогаче – в шелках, победнее – в сатине, в ситце. На головах платки, в косах ленты. И каждая деревня, каждое село ходит отдельным табуном, а за ними ватагой ребята той же деревни – оберегают своих невест от непрошеных чужих женихов и от городских забияк, которые ходят по ярмарке, как коты.
Очень веселая и разноголосая эта весенняя ярмарка!
Вот сюда-то и поспешало рано по утру семейство Нефедовых – телега их, красуясь великолепными сундуками, прикатила в Духову рощу, когда ярмарка только оживала.
Выгрузив из телеги сундуки и столики, Дмитрий повел лошадь домой. С ним поехал и Петярка, чему Вера и Иван очень были рады. Иван купил стакан подсолнечных семечек и стал возле своего товара, а Степан, сделав несколько кругов вокруг сундуков, вскоре и забыл о них – веселая жизнь ярмарки манила его в самую гущу. Но где она, эта самая интересная середина? Ее нет, она – везде, и в рыбных рядах так же интересно, как и в горшечном. Вот здесь-то, рассматривая горшки и кувшины, он столкнулся с Тылюдиным. Тылюдин был навеселе, глаз его щурился больше обычного, а другой – больше обычного был добр и весел.
– Ты чего здесь бродишь, живописец? – сказал Тылюдин. – Хочешь учеником к гончару?
– Нет, так смотрю, – не сразу ответил Степан.
– Вот это верно, – обрадовался Тылюдин. – Это ты молодец, дело художника – смотреть! Смотри, сын мой, смотри! Вот на тебе за это на карусель! – И, порывшись в кармане, он подал Степану двугривенный. – Держи.
Степан не брал монету. Он даже отвел руки за спину.
– Это еще что такое? – весело заттумел Василий Артемьевич.– Дают – бери, бьют – беги!..
– Не надо мне, – стоял на своем Степан, хотя так было сильно искушение.
– Бери, дурья башка, это тебе за работу, ты хорошо краски тер, молодец.
Степан смутился и взял деньги.
– То-то у меня! Видал, эрзя – тронуть нельзя! – И засмеялся, потрепал Степана по плечу. – Молодец, люблю! Осенью приходи, будем иконы писать. Придешь?
– Ладно, приду, – сказал Степан, и глаза его радостно вспыхнули.
– Ну вот и хорошо. А теперь беги на карусель!..
И тут Степан вовсе забыл о своих сундуках. Иконы писать!.. Кроме того, у него еще никогда не бывало таких денег... Ведь можно купить сколько хочешь пряников: для матери, для Петярки, для Ильки, который остался в Баевке...
Карусель!.. Вот куда сначала он пойдет!
Возле каруселей народу – не пробиться. Визжат шарманки, ухают барабаны. Девушки и парни плотной толпой ждут очереди. Степан, зажав в кулаке монету, пробирается к самой веревке, оградившей карусельный круг. А он летит, летит бесконечной чередой деревянных коней, карет, кресел!.. Вдруг он чувствует, что кто-то дергает его за рубаху. Оглянулся – Дёля! Кудажина Дёля!..
– Кричала, кричала тебе, никак не слышишь... – сказала Дёля, очутившись рядом со Степаном.
– Тут разве услышишь – такой шум...
И больше не знали, о чем говорить, искоса поглядывали друг на друга и тотчас отводили глаза.
– Ты приехала... А хотелось спросить: «Ты вспоминала про меня?»
– Приехала... А хотелось сказать: «Я поехала, чтобы тебя увидеть, я знала, что тебя увижу».
– А еще кто из Баевки приехал?
– Не знаю...
И замолчали, глядя на вертящуюся карусель.
– Хочешь покататься? – спросил Степан.
– А то, думаешь, нет!..
– Ну, тогда пойдем покатаемся. – И он показал ей на ладони монетку. – Моя, сам заработал.
Но на очередной кон их не пустили – не хватило мест. Пришлось ждать, но им было все равно, они были счастливы и тем, что вот так стоят рядом.
– Где сядем – на коней или в зыбку?
– Вай, Степа, разве девушкам хорошо сидеть на коне?
Карусель остановилась, веселые, довольные девушки и ребята сбегали по лесенке вниз, освобождая места. Степан с Дёлей уселись в зыбку. Карусель тронулась, пошла, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, и вот уже карусельная шарманка испустила скрипучую, повизгивающую мелодию.
– Вай, Степа, хорошо-то как! – прошептала Дёля, хватаясь за руку Степана.
– Хорошо, да!..
А внизу бесконечно летела пестрая человеческая толпа, летели деревья, подернутые редким, зеленым туманом весны, шло кругом солнечное голубое небо, и в этом просторе летели вместе со звуками шарманки и человеческие надежды на счастье. И так было хорошо Степану, что сердце подкатило к самому горлу и билось со сладостной силой, готовое вырваться на волю. Ветер трепал волосы, рубаху, и казалось, что это блаженство, это сбывшееся счастье уже не кончится никогда.
– Вай, Степа, и на крещение ни разу так не каталась!..
Но вот карусель замедлила бег, шарманка захрипела и смолкла. Карусель остановилась. Степан словно очнулся, поглядел кругом и засмеялся.
Потом они ходили по ярмарке, ели пряники, которые Степан покупал, пока не кончились деньги. Иногда они лукаво и смущенно посматривали друг на друга – в эту минуту они вспоминали родниковый бочажок у Бездны в зарослях ивняка.
Солнце уже давно перевалило за полдень, но они не замечали этого. Они разговорились. Степан в самых мелких подробностях рассказывал ей о своей жизни у Тылюдина и в доме брата, и – странно – в теперешнем его пересказе эта жизнь получалась удивительно хороша и интересна. В ней не было печали, не было обид и укоров, Тылюдин не говорил «Пошел!», а сноха Вера не попрекала куском хлеба. Точно так же и в рассказе Дёли не было долгих зимних дней, проведенных за прялкой, не было ненавистной картошки, страшных метелей, уныло воющих в печной трубе, не было горьких, отчаянных дум, а все было точно один сплошной веселый праздник.
Но вот переливисто зазвонили колокола, и Дёля спохватилась – ведь ее потеряли, ее, должно быть, давно ищет по всей ярмарке отец.
– Теперь он меня будет ругать!..
Степан проводил ее до телеги.
Кудажины остановились на опушке рядом с дорогой. Тут между деревьями стояли телеги с поднятыми связанными оглоблями, а у коновязей лошади. Все это было похоже на огромный цыганский табор.
А Кудажины уже собрались ехать, и отец в самом деле где-то искал Дёлю. На телеге же сидели дед и мать Дёли.
– Заблудилась... – сказала она виновато, покраснев. – Вот Нефедов Степа привел меня...
– Коли ума недостает, так хоть не ври, – сердито сказал дед. – Откуда Нефедов Степа знает, где мы остановились? Вот сейчас отец придет, он тебе покажет, как заблудилась!..
Степану показалось, что старик Кудаж за этот год еще болыше постарел, оттого он такой и сердитый стал.
– Научился, что ли, делать иконы? – спросил его старик.
– По-настоящему еще нет, но скоро научусь. Вот поучусь еще зиму, – храбро ответил ему Степан.
– Когда как следует научишься, то сделай и нам икону. А эту врунью скоро выдадим замуж, – добавил старик.
– А я не пойду замуж! – заторопилась Дёля, еще больше краснея и чуть не плача.
Степану почему-то вспомнилась сестра Ефимия. Она тоже всегда так отвечала, когда ей говорили о замужестве. Сердце у него заныло. Он посмотрел на Дёлю и подумал: «Знамо, выйдет и она. Замуж выходят все девушки...» Он опустил голову. День как-то сразу померк. Степан простился и побрел прочь. Перед ним неотступно стояло лицо Дёли, и сердце сжималось, хотелось плакать, хотелось даже побежать обратно – может быть, старик пошутил?..
Он подошел к дому брата. Отцовской телеги во дворе не было – уехали. Сердце заныло еще больнее.
– Посмотри, какие сапоги купили тебе с отцом, – сказал Иван. – Померь, не малы будут?
Петярка вытащил сапоги из-под кровати и подал Степану. Тот нехотя сел на порог разуваться. Из предпечья вышла Вера, на голове у нее красовался новый платок. Все улыбались, у всех было хорошее настроение.
– А наша правда, братик, сундуки в одночасье растащили! – сказала Вера. Какие сундуки? Ах, те самые...
10
У брата Степан жил до глубокой осени. С первыми холодами он собрал свой узелок и отправился к Тылюдину «писать иконы». На этот раз ни брат, ни сноха не возражали, что он взялся за новый пиджак. Промолчали и о сапогах. В узелке у него добра не густо – смена белья, полотенце и две истершиеся кисти. День он себе назначил сам – после Ивана Богослова, после братовых именин. Как раз выпал первый снег.
За все лето Степану ни разу не приходилось бывать на другом конце города, где жил Тылюдин, и он не знал, что там делается. А делались там большие дела! Конечно, Степан слышал, что через город Алатырь пройдет на Казань железная дорога, что дорога пройдет по окраине города, что сносят дома, которые мешают, но Степан никак не ожидал, что именно таким домом и будет дом Тылюдина. Он спустился с горы но привычной тропинке, по которой зимой бегал за калачом, и, к своему удивлению, увидел лишь земляные бугорки и ямы, где раньше стояли дома. Здесь теперь проходила ровная насыпь, приготовленная под укладку железнодорожного полотна. От дома Тылюдина не было и помину. Степан постоял немного у насыпи и медленно побрел обратно в гору. А вот дом калашника, его не тронули, он не помешал. И Степану пришла мысль зайти к нему и спросить, куда перенес свой дом Тылюдин. Степан поднялся на крыльцо и постучал, ожидая услышать басовитый голос: «А, пришел эрзя – тронуть нельзя». Но вместо калашника дверь отворила толстая женщина с широким, как белый калабан, лицом, оглядела Степана сонными глазками. Когда Степан объяснил, что ему надо, она таким же сонным ленивым голосом проворчала:
– Отсюда все свои дома ставят на Нижегородской. Может, и он там ставит. – И закрыла дверь.
Должно быть, это и есть жена калашника, думал Степан, бредя на Нижегородскую улицу. Странно, – ему было жалко отчего-то; что теперь по утрам он уже не будет бегать сюда за калачами, не услышит никогда басовитого, доброго, хлебного голоса. Но подобные первые потери в человеческой жизни не осознаются еще так остро, им не придается значения в надежде, что дальше все будет лучше, интересней, что это еще и вернется: ранние морозные утра, первый уголек зари, хруст снега под быстрыми молодыми ногами...
Крайние дома Нижегородской улицы тоже были под самой горой, но стояли редко, и новые поселенцы застраивали эти пустыри между домами. Дом Тылюдина стоял еще без крыши, но работа кипела, стучали топоры, звенели пилы, и сам Тылюдин вертелся среди плотников, придирчиво наблюдая за их работой. Степана он встретил с улыбкой.
– Помогать пришел? Это хорошо, молодец. А рисовать, брат, будем зимой, не раньше рождества. Хорошо, если до рождества войдем в дом... – И убежал, крича: – Мох ровней, ровней клади!..
Степан постоял, поглядел на груду зеленого железа, которое когда-то было крышей, и побрел прочь. Никто не окликнул его, не остановил.
День был хмурый. Небо застилали густые низкие тучи. В воздухе носился снег, ветер жестко шумел в голых тополях. Скоро опять зима. Какая длинная и тоскливая она кажется по сравнению с летом. Вот бы уехать куда-нибудь и не приезжать до самой весны, – ведь есть такие страны, где никогда не бывает холодной зимы, люди не знают, что такое снег. Счастливые люди! Когда Степан вырастет большой и научится хорошо рисовать, обязательно поедет в те чудесные страны. В теплой стране и дед Охон бы не замерз, жил бы до сего времени... Степан медленно шагал по длинной городской улице, размышляя о жизни в теплых странах. Он и не заметил, как оказался у моста через Суру. По холодной черной реке медленно плыла баржа, ее несло течением. Сейчас она доплывет до моста, который уже раздвинут. А на той стороне реки две подводы ждут... У брата, конечно, опять придется тесать, строгать, пилить. Иногда приходится мыть полы и топить печь, ведь Вера теперь нашла себе работу у попа – моет полы, стирает белье... Но Степану не по душе мыть пол, топить печь, нянчиться с маленьким Васькой...
Мысль отправиться сейчас же домой в Баевку пришла как-то внезапно, однако она оказалась как ясный солнечный луч, прорвавшийся сквозь эти плотные облака. Скорее бы только сводили мост!..
В Баевку Степан пришел в сумерках, в окошках домиков, которые показались особенно низки, уже желтели огоньки.
Дома его, конечно, не ждали. Марья всплеснула руками:
– Вай, Степа, бог с тобой, с чем явился? С добром или худом?
– Ни с тем, ни с другим, только самого себя притащил, – ответил Степан. Он очень устал. Он едва стоял на ногах.
Братишка Илька за год успел хорошо подняться, но за это время успел и отвыкнуть от Степана. Он сразу спрятался за мать. Дмитрий, как обычно, сидел на своем месте на конце стола, положив локти на стол. Он не удивился.
Он кивнул головой и тихо сказал:
– В баню собираемся, пойдем с нами, смой с себя городскую грязь...
Илька между тем осмелел, вышел из-за матери и стоял перед Степаном. Степан только сейчас догадался, что он ничего не принес с собой, никакого гостинца для братишки. Он достал с коника свой мешок, развязал его и вынул оттуда деревянного ангелочка. Илька с радостью схватил и сразу же хотел откусить, но это было дерево.
– Деревяшка... – проговорил он огорченно.
– Это тебе игрушка, а пряник принесу в другой раз, потерпи маленько.
Но Илька уточнил:
– До рождества? – Ему не хотелось долго ждать.
– Ну, может и так...
Марья спрашивала, как живет Иван, как ребята, здоровы ли. Степан отвечал на эти вопросы односложно и утвердительно: все хорошо, все ладом. С большим бы удовольствием он сейчас залез на полати, на свое старое место под потолком.
– Много тебе еще осталось учиться? – спросил отец.
– Много...
Помолчали. Степан чувствовал, что ответ такой не обрадовал ни оца, ни мать. Им бы но душе пришлось, если бы он сказал, что учение закончено. Но ученье ведь еще и не начиналось.
– Ну ладно, пойдем в баню, – сказал отец.
11
Нынешнюю осень отец работал в лесу. Впрочем, в лесу работали все баевские мужики, в том числе и Михал Назаров: кто валил деревья, кто возил сосновые кряжи к Алтышеву, кто пилил и тесал из этих кряжей шпалы – ведь железная дорога пройдет и здесь. И с ней, с этой чугункой, всем хватило работы. Да если бы не чугунка, неизвестно как и жили – ведь опять был неурожай, опять все в полях выгорело, хлеба нет, картошки в обрез, да и та мелкая, как горох...
Стал работать в лесу и Степан. Пока не установился зимний путь, ходили пешими в делянки валить лес и кряжевать, и поначалу Степана охватил азарт этой новой работы. Ранние поспешные вставания, густой утренний сумрак, нетронутая мягкая пороша по твердой застывшей дороге, дремучая тишина черного леса, когда из-за каждого дерева так и ждешь какого-нибудь лесного чуда!.. – все это будоражило отвыкшего от леса и от деревни Степана.
Но вот приходили в делянку. Небо было уже светло и высоко, великанскими свечками стояли золотые сосны, вздымая прибеленные снежком вершины, и будь его воля, Степан бы сел на свежий пенек и смотрел бы, смотрел на эту лесную красоту.
– Ну, с богом, – говорил отец, быстро крестясь, и брался за топор. И после того как он делал глубокую зарубку в комле, они начинали пилить, и длинная поперечная пила звонким пением оглашала притихший лес.
Но какая это была тяжкая работа! Без отдыха Степан мог пилить только первое дерево, а потом уже сил не хватало, пила вырывалась из рук, застревала, и отец начинал сердиться. И страшно было подумать, что впереди еще целый день, целый день!.. Он уже не видел ничего – ни леса, ни снега, ни неба, ни отца, а только эти острые зубья пилы, таскающиеся взад-вперед и выбрасывающие на лапти желтые опилки...
И как в такие минуты он завидовал Петярке Назарову, который, как он узнал, работал в кузнице в Алатыре! Как он завидовал и неутомимому Михалу Назарову, который и из лесу после целого дня работы топал легко, весело разговаривал с мужиками!.. Однажды они мылись с Михалом в бане. Жар придавил Степана к самому полу, а Михал на полке только крякал и хлестал себя веником, да еще просил плеснуть на каменку. Степан уже успел одеться в предбаннике, когда только Михал слез с полка и вышел отдышаться. От всего кирпично-красного Михала шел густой пар, шея толстая, багровая в свете масляной горелки, спина шире банной двери. Это был настоящий мужик, и трудно поверить, что Михал только на год старше Степана. И Степан даже оробел и, хоть бы что-то сказать, прогнать эту неприятную робость перед торжествующей мощью Михала, пробормотал первое, что пришло на ум:
– А ты, знать, не собираешься в город?..
– Чего потерял там? Мне и здесь хорошю, – пробасил Михал. – Женюсь вот, отделюсь от отца, чего еще надо, буду жить. Это уж вы с Петяркой болтайтесь, а мне что...
Может быть, эти твердые слова Михала придавили Степана еще больше, чем работа в лесу? – они не шли у него из головы, и зависть к Михаловой мощи вдруг перемешалась с ненавистью и к нему самому, и к этой однообразной, каторжной работе в лесу.
Но вот установился санный путь, и отец определил Степану работу полегче – возить лес на лошади из делянки к Алтышеву. Ехать надо было верст пять туда, да пять – обратно, и поскольку лошадь не хуже возчика знала дорогу, в эти праздные часы Степану стало думаться о том, почему он не такой, как Михал?! Но эти мысли скоро сменялись другими. Думалось, что Тылюдин уже поставил дом, что опять вознеслась зеленая крыша, что печки сложены, что Василий Артемьевич уже пишет иконы и время от времени поглядывает, сощурясь, в окошко – не идет ли Степан? И от этих фантазий сделается так одиноко, так горько, что слезы навертываются на глаза.
Однажды лошадь привезла его в делянку лежащим плашмя на дровнях. Отец бросил топор, побежал прямо по снегу – уж не замерз ли сын? Он рывком перевернул его на спину и увидел побледневшее лицо с закушенной губой, а из под крепко зажмурившихся век выдавилась слеза. У Дмитрия отлегло от сердца. Он все понял. Он не стал ни расспрашивать, ни утешать его. Он только сказал:
– Потерпи до рождества, уже неделя осталась, а там вместе поедем – я сам тебя отвезу в город...
Но к Тылюдину Степан все-таки опоздал. Дом уже и в самом деле стоял под зеленой крышей, и дым шел из трубы, и Евпраксия Яковлевна встретила его ласково, даже чаем хотела напоить, но что теперь Степану чай, если Василия Артемьевича нет дома?..
– Совсем немного ты его не захватил, – сокрушалась Евпраксия Яковлевна, видя, как расстроился, растерялся и огорчился мальчик. – Только неделя, как он уехал в Ардатовский уезд новую церковь расписывать!..
– Я туда пойду...
– Да и не знаю, как тебе быть. Он ведь взял себе помощника...
Степан стоял у порога. Снег потихоньку таял на лаптях, свертываясь капельками воды.
– А вспоминал Василий Артемьевич про тебя, вспоминал. Жалко, говорит, Степана нет...
Но лучше бы она не говорила про это!..
– Ну ничего, не печалься, к пасхе Василий Артемьевич приедет, тогда и приходи.
Он сказал едва слышно:
– Ладно, приду, – и толкнул дверь.
Степан бесцельно бродил по улицам города. Ему не хотелось возвращаться в дом брата. И не в Баевку же опять идти... Ноги принесли его на Венец. Ему вспомнилось, как он рассыпал тут землю...
День был будний, площадь была пуста, лавки затворены на железные засовы. Вот ларек Тылюдина, но он тоже на замке, хоть там ничего и нет. А это ларьки других иконописцев. Был бы день базарный, они бы тут все стояли, и Степан бы к кому-нибудь попросился в ученики. А теперь никого нет. Но ведь они где-то живут, у них есть дома, как и у Василия Артемьевича. Надо кого-нибудь спросить. Эта догадка ободрила Степана, а ободрившись, он вспомнил и о церковном одноруком стороже. Вот кто знает всех иконописцев! Ведь сказал же он, что самый лучший – Тылюдин, значит, знает и других. Пусть к кому-нибудь проводит, Степану теперь все равно. Решив так, Степан смело направился в сторожку. Над трубой сторожки вился дымок. Должно быть, старик варит картофельную похлебку.
Старик узнал Степана. Кажется, он и ничуть не удивился гостю.
– Опять сбежал от брата? – спросил он.
– Нет, не сбежал, – ответ Степан. – Чего мне бегать от него?
– Правда, на этот раз не убег, вижу, одет, обут, как полагается. Ну садись, отдохни с дороги, расскажи, куда путь держишь, какое счастье ищешь, от какой беды бегаешь!...
Степан рассказал старику про свою беду.
– Хе! – засмеялся старик. – Есть из-за чего убиваться. Тылюдин такой мастер в Алатыре не единственный. Пойди хоть к Иванцову. Человек он хороший, возьмет тебя в ученики. А то и вместе пойдем, я тебя похвалю.
– Правда, дедушка, пойдем, вдвоем лучше, – обрадовался Степан.
– Что ж, пойдем! – сказал старик.– Только сначала поедим, что бог послал, а там и пойдем.
Художник Иванцов жил на Цыганской улице в обыкновенном деревянном доме, который со всех сторон охватывал высокий плотный забор. За этим забором стоял такой гусиный гогот и кудахтанье, что Степан подумал, что старик ошибся.
– Любит птичек Ираклий Андронович, – сказал тихонько старик и потащил Степана в калитку. Во дворе, среди стада гусей и кур стоял человек в короткой татарской шубейке, в больших подшитых валенках, в рыжей шапке на одно ухо. Человек раскидывал горстями из железной миски мятую картошку прямо на гусей и кур. Стоял такой гогот, что старику пришлось кричать.
Иванцов окинул глазами Степана, почесал за ухом, отчего шапка сдвинулась еще больше, и сказал, тоже почти крича:
– Где он будет мне помогать? За столом или еще где?
Гуси уже собрали с утоптанного грязного снега картошку и успокаивались. Стало потише.
Старик стал объяснять, что «паренек может помогать в живописном деле», что прошлую зиму он был в учениках у Тылюдина... А Иванцов, казалось, и не слушал, он глядел на гусей и улыбался. При имени Тылюдина он подозрительно посмотрел на Степана.
– Не знаю, чему он у него мог научиться...
– Дак ведь што, Ираклий Андронович, парнишка по неведению попал к нему, знамо дело, попади в твои руки, куда бы лучше!..
– Ну, чего ты делать умеешь? – перебил старика Иванцов. – Левкасить умеешь?
Степан потупился. Правда, он видел, как это делал Тылюдин, но самому не приходилось. И он был уверен, что сумеет и сам левкасить, да язык не повернулся соврать.
– Видел, – пробормотал он. – Может, сумею.
– Я, парень, за свой век видел, как отливают колокола, но заставь меня, ничего не сделаю, – назидательно и важно сказал Иванцов. – Ты скажи мне, чего ты умеешь делать сам?
– Краску могу тереть, – живо ответил Степан.
– Ну, и то дело, – сказал Иванцов и опять стал смотреть на гусей, которые уже, поджимая красные лапы, тянулись в сарай.
– Признаться, помощник мне нужен, – проговорил Иванцов, кивая на гусей. И, помолчав, добавил: – Ну, а если в красках что-нибудь кумекаешь, сможешь отличить красную от белой, то пожалуй, бы мог тебя взять...
– Возьми, возьми, не покаешься! – живо подхватил старик.
– А отчего ты ушел от Тылюдина? – внезапно и строго спросил Иванцов.
Степан не успел открыть рот, как заговорил старик:
– Ираклий Андронович, посуди сам, какой художник Тылюдин? Разве ему с тобой сравниться?..
Иванцов утвердительно кивнул и важно насупился. Даже его рябое лицо разгладилось. Должно быть, таких лестных слов о себе он никогда не слышал, но теперь был уверен, что таково мнение всего города. Он был доволен.
– Как ты хочешь учиться – за деньги?
Степан не понял, посмотрел на старика.
– Я спрашиваю, есть у тебя деньги платить за учебу?
– Нету у меня денег, – сказал Степан, немало испугавшись.
– А, да ты кто будешь – чуваш? – быстро спросил Иванцов.
– Нету, я – эрзя, – сказал Степан.
– Ну, эрзя так эрзя, бог с тобой. Денег, значит, у тебя нет?
– Нету, нету.
– А как же ты думаешь учиться? За учение деньги платят учителю. Тылюдину-то платил?
– Нету, не платил. Я вода носил, дрова колол, чего хозяйка просил, все делал.
Иванцов усмехнулся.
– Ну, если хочешь, на этих условиях я могу тебя взять.
– Возьми, возьми, Ираклий Андронович, – вмешался старик, – смышленый парнишка, сам видишь!..
Иванцов махнул рукой, и старик замолчал. Он был доволен, что пристроил парнишку. Сорвал с головы шапку, поклонился Иванцову, а потом Степану сказал:
– Ну, оставайся с богом, – и пошел со двора.
12
Степан спит в кухне на топчане, возле печки, и каждое утро его будит Иванцова теща, женщина вредная и вечно злая. А по утрам она зла особенно, потому что любит выпить украдкой, и по утрам у нее болит голова. Спит она на печи, так что когда слезает или залезает туда, перебирается через Степанову постель и всякий раз норовит толкнуть его. Иногда по ночам, когда все спят, она слезает с печки и бродит по кухне, как ведьма, злобно чего-то бормочет, гремит посудой в шкафу, чего-то ищет.
А чуть начнет брезжить в замерзшем окошке, она уже пинает Степана:
– Будет дрыхнуть, не за то тебя поят и кормят, чтобы ты дрых день и ночь.
Степан слезает с топчана, шатаясь, идет к окну, садится на лавку, роняет голову на стол. Но и здесь теща настигает его, толкает в бок:
– У, ленивый пень, опять спит!..
Иной раз Степан огрызнется:
– Да чего мне делать в темной избе?!
Конечно, лучше молчать. Потому что на каждое слово Степана теща разражается такой руганью, что хоть беги из избы. Но куда побежишь?
Наконец в запечье начинают повизгивать поросята. Надо затапливать печь, идти с тяжелыми ведрами за водой на колодец. За водой он старается ходить как можно дольше. И хотя за это опять теща будет ругаться, но зато не заставит ворочать чугуны, мыть картошку, наставлять самовар. Да и поросята противно визжат. Кормить гусей куда приятнее, хотя радости тоже мало. Правда, гусей за зиму изрядно убавилось, остались только важные гусыни да племенные гуси, но зато они так и норовят долбануть в ногу.








