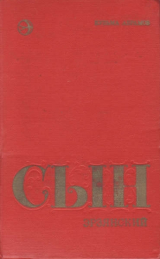
Текст книги "Сын эрзянский. Книга вторая"
Автор книги: Кузьма Абрамов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 19 страниц)
Степану казалось, что он совсем не спал, только ткнулся головой в подушку, как мать уже дергает его за ногу:
– Отец уже запряг лошадь, вставай скорее!
Марья отрезала от каравая ломоть, круто посолила и положила на край стола. Степан на ходу сунул его в карман зипуна.
Уже у телеги Марья обняла сына. Не выдержала, расплакалась в голос. Второго сына провожает из дома. У всех сыновья растут, остаются с отцом-матерью, а вот ей приходится расставаться с ними...
Степан стоит, уткнувшись лицом в грудь матери, костяная круглая пуговица больно давит ему в лоб.
Наконец мать разжимает руки.
– Ну, готов? – спрашивает отец из темноты, из-за телеги.
– Готов! – кричит Степан, а сам вдруг срывается и бежит обратно во двор, —вспомнил, что, когда уезжали из Баева, мать взяла со двора горсть земли, ведь без родной земли новое место может не принять. А Степан тоже уезжает из дома, может быть, навсегда, кто знает... Но где сохранить землю? В кармане у него хлеб. Ага, за пазуху! И Степан горстями пихает за пазуху влажную холодную землю. Чем больше земли, тем вернее счастье на новом месте...
Пока земля за пазухой не нагрелась, он все время чувствовал знобкий холодок во всем теле.
К Алатырю подъезжали уже при свете дня. Пока ехали широкой сурской поймой, моросил частый дождик, все кругом заволокло мутной пеленой, но сквозь эту пелену неотвратимо и чудно поднимался город. Он словно выходил навстречу Степану, а завидев его, остановился всей своей громадой белых церквей на высокой горе. Казалось, он ждет нового маленького странника.
Но что же отец не понукает лошадь? Почему они остановились?
– Куда ж тут ехать, гляди, какой табор собрался!..
В самом деле, впереди, справа и слева стоят подводы. Целое море подвод: мокрые понурые лошади, мокрые люди на возах.
– А чего все не едут в город? Нельзя, что ли?..
Но отец успокаивает. Он объясняет, что впереди река, надо ехать через мост, а мост узкий, сделан по старым баржам, а их еще и разводят, когда надо пропускать плоты или баржи с грузом. Вот сейчас протянут последнюю баржу и сведут мост. Тогда и поедем.
– Гляди, вон она плывет!
Степан встает на возу. И в самом деле, по реке медленно плывет нечто, похожее на дом.
– Вниз она плывет своим ходом, – объясняет Дмитрий, – а вверх ее тянут бечевой на лошадях. – Отец разговорился – надо все объяснить Степану, ведь в городе столько всяких причуд.
Наконец мост свели, подводы впереди зашевелились, колеса заскрипели, а у въезда на мост поднялся крик, ругань – все торопятся поскорее на ту сторону, на ярмарку, на базарную площадь, чтобы занять место получше. Чего только не везут крестьяне, но Дмитрия интересует, много ли кудели. И он уже приметил, что чуть ли не на каждом третьем возу тюки с шерстью. Да хоть бы наторговать Степану на пиджак...
– Тятя, трогай, трогай!..
Дмитрий поднял голову, пошевелил вожжами. Лошадь опасливо ступила на дощатый настил, ошипованные колеса застучали. За мостом началась булыжная дорога – это был уже город Алатырь.
Улица, на которой жил Иван, была на отшибе, и больше походила на деревенскую – жухлая трава, лопухи, крапива, телята на привязи, да и дома такие же, как у них в Баевке или в Алтышеве. Одна только разница – высокие глухие заборы.
Иван жил в маленьком доме с тремя окнами на улицу. Тесовая крыша местами зеленела мхом.
Не успели они слезть с телеги, как ворота распахнулись, и вышел Иван. В первую минуту Степан не узнал брата – голое краснощекое улыбающееся лицо, под носом тонкие усики, загнутые вверх, точно перья на хвосте у селезня. Но это был он – брат Иван.
Они поздоровались с отцом за руки. Потом он потрепал по плечу Степана.
– И ты приехал!.. – а сам скосил глаза на телегу – что-то немного привезли товару на ярмарку. Отец поймал его взгляд. – Вот обделанной кудели привезли продать... – И, закинув тюк на плечо, понес во двор. Иван распахнул пошире ворота и завел лошадь.
– Степану на пиджак, – добавил Дмитрий, кивая на кудель. – Больше продавать нечего, хлеба нынче уродилось немного...
– Зачем Степану пиджак? – насмешливо бросил Иван. – Ему и так ладно, в зипуне.
– К тебе привез пока... – хмуро сказал наконец Дмитрий. – Пускай зиму поживет...
– А, вон как, – неопределенно протянул Иван.
Гостей посадили за стол. Вера, жена Ивана, поставила большую миску с ливерным супом. Вкусный мясной дух пошел по избе.
– Что внука Петярки не видно? – спросил Дмитрий.
– Спит еще, – ответила сноха.
Вера, подобно свекрови, ходит с большим животом. Скоро, видно, рожать. Она одета по-русски – в синий сарафан и белую кофту. Волосы собраны в две косы и уложены короной, но эта корона под платком больше похожа на коровьи рога, Степану вспоминается черная толстая коса Дёли.
Когда в глубоком молчании выхлебали суп, Дмитрий опять проговорил:
– Бабушка послала Петярке гостинец, чай, не побились в кармане... – Он кивнул на висящий у двери зипун.
Иван пошел и принес гостинец. Это были яички. Конечно, они побились, помялись. Иван положил их на стол.
– Проснется, сам отдашь ему, обрадуется бабушкиным гостинцам.
Он опять сел к столу.
– Бороду для чего сбрил? – заметил Дмитрий.
– В городе многие бреют, и я сбрил, – ответил Иван.
– Сколько ни говорила – не сбривай бороду, не послушался, – подхватила Вера. – Теперь стал как казанский татарин.
Она стояла, прислонившись спиной к печи. Иван ухмыльнулся, подкрутил усики.
– Ничего, привыкнешь.
– Тьфу тебя!..
Помолчали.
– Надо идти на ярманку, – сказал Дмитрий и стал одеваться. Потянулся за своим зипуном и Степан.
– А тебе чего под дождем мокнуть, сиди дома.
Но разве в Алатырь он приехал для того, чтобы сидеть дома? Он еще ни разу не бывал на ярмарке. На ярмарку каждый раз отец с матерью брали Фиму, а его, Степана, оставляли дома. Правда, как-то раз маленьким брали, но он мало что помнит. Помнит лишь много подвод, людей и гвалт. Отец тогда купил ему три пряника, и он все сидел в телеге и ел эти пряники...
– Ну что ж, пойду и я с вами прогуляюсь, – сказал Иван.
5
Город Алатырь, как уверяют летописи, основан в тысяча пятьсот пятьдесят втором году, когда русский царь Иоан Грозный шел покорять Казань. Правда, окрестная мордва знает Алатырь еще и под названием Ратор. ош. Возможно, и до похода царя на Казань, на высоком берегу Суры, было какое-то мордовское селение, оттуда оно и идет – Ратор ош, это второе имя города. Но как бы там ни было, к тому времени, когда в Алатыре появился четырнадцатилетний Нефедов Степан, в сем городе насчитывалось больше двадцати тысяч жителей, в основном мещане и вчерашние крестьяне, как Иван Нефедов. В городе было девять церквей и два собора, и один из них – Воздвиженский – помнил Иоана Грозного. К этому-то собору, стоящему на самом верху холма, и сбегались все многочисленные улицы города, образуя базарную площадь, которая называлась Венцом.
В будние дни эта огромная площадь бывает почти пустынной, но во время ярмарок и базаров она наполняется людским морем и тогда кажется тесной и маленькой. По краям площади стоят кирпичные лавки, длинные угрюмые лабазы, дощатые ларьки, прилавки под навесами и под открытым небом. Однако во время ярмарок главная торговля идет по всей площади. Нехитрый крестьянский товар раскладывается длинными рядами прямо на земле. Продавцы стоят тут же, над своим товаром, и кто как умеет, так и зазывает покупателей. Сотни голосов, крики, визг поросят, сунутых в мешки, гогот гусей, высовывающих длинные шеи из корзин, ржание лошадей – все это оглушило Степана, и если бы Иван не держал его за руку, он бы уже потерялся в этой шевелящейся, движущейся толпе. Наконец добрались до кудельного ряда. Здесь потише, поспокойней, мужики стоят все деревенские, – в зипунах, в лаптях, в новых белых онучах по случаю праздника. Охапки кудели лежат на подстилочке из соломы.
Пристроились и Нефедовы в конце ряда.
– Придется простоять. Вишь, сколько натащили...
– Давай я постою, – предлагает Иван. – Сам иди пройдись по ярмарке, купи, что надо.
– Наши покупки в кудели. – Дмитрий помолчал. – Хорошо бы Степану пиджак, в зипуне ходить в городе неладно будет...
– Не мешало бы и сапоги купить. В лаптях, что ли, щеголять? – усмехаясь, сказал Иван. Сам он в смазанных сапогах со скрипом, в ловкой суконной борчатке, в картузе.
– Сапоги пусть сам купит, когда заработает денег.
Степан между тем никак не мог понять, почему у него так зудит под рубахой. Может, пояс крепко затянул? Он сунул под зипун руку и тут вспомнил про землю. Вот оно что, а не пояс. Но куда бы теперь деть землю? А где он будет жить, где будет его новое место?..
Голос Ивана отвлек его.
– Пойдем, братец, пройдемся по ярмарке, на людей поглядим, себя покажем. Пошли!
И они отправились – в самую гущу людскую, в самый крик и суету. Долго таскался Степан за братом, мало что видел. Наконец остановились у ларька, где в широком окошке висели парами сапоги, а между сапог, между блестящих голенищ красовалось краснощекое бритое лицо с усиками – как у Ивана. И небрежно бросает старший брат Степану:
– Ну, которые на тебя глядят?
Однако Степан почему-то не особенно и рад. Может быть, он еще и не верит, что Иван хочет купить ему сапоги? А Иван уже ощупывает, осматривает сапоги, растягивает голяшки, костяшками пальцев стучит по подметке, чертит подметку ногтем. И говорит важно:
– Вон те покажь.
Продавец-парень с капризной усмешкой кидает на прилавок другую пару.
– Сапоги покупать – это тебе не лапти покупать, – назидательно говорит Иван. – В них будешь ходить не одну неделю, а до самой женитьбы! – И видно, как он горд, важен, как счастлив при людях говорить такие веские, умные слова.
Наконец он выбрал самые, на его взгляд, лучшие и велел Степану разуть одну ногу. Степан отошел в угол, опустился на пол и принялся разуваться.
– Не эту разувай, правую, – командует Иван.
– Не все ли равно какую? – удивился Степан.
– Стало быть, не все равно. Правая немного полнее левой, по ней и надо мерить.
Мерить тут особенно и нечего – сапог свободно болтался на ноге. Однако как хорошо! После сапога Степану никак не хочется надевать лапоть. Может, он в сапогах и пойдет?
Но Иван решительно отбирает их и, перекинув себе на плечо, торжественно и долго отсчитывает деньги. А Степана одолевает страх: вдруг денег не хватит и сапоги отберут!
– Вот так-то вот! – Но, щедрая, праздничная душа, он хочет поделиться радостью и со Степаном:
– На, неси. – И вешает их Степану на плечо. – Когда будет много денег, отдашь.
– А если у меня их никогда не будет?
– Что за человек будешь, если у тебя не будет денег! – и добавляет: – Тогда сидел бы в деревне на печи, а не ездил по городам!
Степан еще никогда не думал о деньгах. В город он приехал не из-за них. Он приехал в Алатырь научиться рисовать иконы.
Степан опять вспомнил про землю за пазухой. Как бы отделаться от нее? Ведь он не знает, где будет жить, где его дом. Ясно одно – он будет жить здесь, в городе, а ярмарка – самое главное место города... И он потихоньку распускает поясок на рубахе.
– Как теленка вожу, того и гляди отстанешь, – говорит брат с досадой. – Дай руку.
Степан послушно шагает за ним, поглядывая ему в спину. Он слышит, как сухая земля течет из-под рубахи. Все. Теперь люди затопчут ее в землю Алатырского Венца, и она останется тут лежать навеки. Степан почувствовал легкость во всем теле и поспешил за братом. Они прошли хлебный ряд, потом – скотный. Эти ряды были самыми большими. Людей тут было особенно густо, не протиснуться.
Вот наконец-то и опять кудельный ряд. Вдруг Иван хватает брата за плечо:
– Сапоги где?! – Кажется, глаза у него готовы выскочить от испуга.
Степан смотрит себе на грудь. Ведь сапог только что тут болтался. Он озирается. Он готов броситься обратно и искать сапоги.
– Эх ты, раззява! – И замахивается кулаком, а у самого на глазах закипают гневные слезы. – Ходи теперь в лаптях, коли потерял. В сапогах будет ходить за тебя кто-нибудь другой.
– Пойдем поищем, – бубнит Степан. Ему тоже до слез жалко сапог.
– Нашли, если бы все люди были такими же раззявами, как ты.
Отец все еще стоял возле своей кудели. Он совсем замерз, съежился в мокром тяжелом зипуне. Губы посинели. В бороде блестели капли дождя, словно роса в траве. Когда подошли сыновья, он оживился, подергал плечами.
– Где походили? – спросил он, еле ворочая языком.
– Так... прошлись, – нехотя ответил Иван.
Степан угрюмо молчал. Он со страхом ждал, что сейчас Иван скажет про сапоги. Отец, конечно, рассердится и заявит, что раз Степан такая раззява, ему нечего делать в городе. И увезет его обратно в Баевку. Но Иван пока молчал.
Сеял и сеял мелкий дождичек, обволакивая сыростью белую большую церковь, дома, людей, копился в кудели светлыми каплями. Однако люди словно и не замечали дождя – они так же деловито шныряли по рядам, зорко оглядывая товар, спрашивали цену и отходили прочь, даже не торгуясь.
Отец сказал Ивану:
– Шел бы ты домой, чего тут мокнуть. У тебя, чай, свои дела есть.
– Пожалуй, – согласился Иван.
– Иди, правда. А мы постоим еще. Может, продадим, купим ему пиджак...
Иван ушел, бросив на брата значительный и строгий взгляд. У Степана отлегло на душе: не сказал! Все же какой хороший человек – Иван, старший брат. И жить у него будет хорошо... И Вера, жена брата, тоже добрая – какой вкусный суп варит... Так думалось Степану, пока он стоял, прижавшись к отцу и глядя поверх людских голов на белую церковь с тусклыми золотыми куполами, на высокую колокольню, где по карнизу сидели мокрые голуби...
Покупатель наконец-то нашелся – знакомый мужик из Баева. Они разговорились с отцом. Дмитрий спросил, как там живут.
– Ай забыл, как жили? – хмуро сказал баевский мужик и показал на кудель. – У тебя вот лишняя – продаешь, у меня не хватает – покупаю. Прялки у баб не шумят, прясть им нечего. – Он был такой же мокрый, как и отец, усы повисли, губы синие от холода.
– И я продаю не лишнее, – сказал Дмитрий. И голоса у них были похожи – какой-то угрюмой и привычной жалобой.
Однако, получив за кудель деньги, отец заметно взбодрился. И пока искали лавку с одеждой, он купил фунт калача, разломил и половину протянул Степану.
– А это гостинец для Ильки, – сказал он, пряча другую половину за пазуху.
В одежной лавке, пока Степан жевал калач, Дмитрий выбирал пиджак. Выбирал долго и придирчиво, как Иван – сапоги. Щупал, мял, разглядывал подкладку, пуговицы. Но вот велит снять зипун и примерить пиджак. В сухом и мягком пиджаке Степану сразу сделалось тепло.
– Тятя, я его не сниму, – сказал Степан.
– Ладно, походи пока.
Опять пошли по ярмарке. Но теперь Степан не замечал дождя. Ему было тепло и сухо. И еще ему казалось, что все люди только на него и смотрят. Да и как не смотреть?! Такой пиджак есть не у каждого. Сукно толстое, темно-синее. По бокам два кармана. Пуговицы в два ряда черные, блестят. Сам пиджак Степану ниже колен. В таком пиджаке не замерзнешь в любой мороз!..
6
Утром на другой день братья проводили отца. У въезда на мост через Суру Дмитрий остановил лошадь, все слезли с телеги. Степан, которому не терпелось начать новую городскую жизнь, вдруг испугался этой самой желанной жизни и стоял, крепко ухватившись за грядку телеги. В новом пиджаке было тепло, не чувствовался знобкий ветер, и как бы хорошо теперь было ехать вместе с отцом на телеге! Ехать домой, в Баевку. Михал и Петярка Назаровы умерли бы от зависти... Вчерашний день на ярмарке его оглушил, смял всякие мысли о красках, об иконах. Все говорили только о хлебе, о конопле, о картошке, о деньгах; какие уж тут краски, какое художество!.. Страшно об этом и думать, а не то что сказать вслух. Да и рисовать уже не хотелось. Степан косо глядел на город, облепивший гору. Странно, сегодня он не возносился вверх, а точно готовился обвалиться на Степана, подмять, задавить, а Воздвиженский собор так, кажется, и покачнулся...
Отец встряхнул его за плечо.
– Ну давай, Степа, прощай пока. – Ему, видать, тоже не по себе оставлять сына в городе – голос его был необычно глух. – Слушайся Ивана... – И боком залез на телегу. – Ну, поехал я... – И тронул лошадь.
Степан стоял понурив голову. Он даже не посмотрел вслед уезжающему домой отцу, чтобы не побежать за ним, а когда услышал, как телега загремела по мосту, он почувствовал вдруг себя таким одиноким и несчастным, что у него перехватило дыхание.
Иван обнял брата за плечи, и так они постояли молча. И от этой близости родного человека, от этого объятия у Степана мало-помалу отлегло на сердце. Он поднял голову. Тяжелая, темная вода Суры маслянистым валом скатывалась под баржи, шумела глухим недовольным рокотом между ними, а потом выплескивалась пенными, злыми и желтыми потоками и, точно уставшая от борьбы и довольная победой, стихала, разливаясь по широкому и спокойному плесу. Река внезапно показалась Степану живым и не знающим преград существом. Она ничего не боится, она может все одолеть на своем пути. Она готова сорвать баржи и разбить их о берег или унести, куда захочет. Какая тугая волна качается перед тупыми черными носами барж и какие они убогие, жалкие перед этой живой волной...
– А весной тут целое море, все заливает, – говорит Иван. – Вон до того леса – все вода. Красиво, – добавляет он, помолчав. – Особенно я люблю, когда самый разлив на пасху приходится – солнышко играет, колокола поют – широко по воде несет!.. А народу на берегу, народу! Все веселые, все сытые после поста, – ну прямо не жизнь, а радость одна. Да что, сам увидишь – зима скоро пройдет, – весело заключает Иван. – Главное – до рождества дотянуть, а там уже и весна-красна, там уж к ярманке сундуки готовь!..
И как-то незаметно и легко отлетает печаль от Степана. Вместо блеклой бурой поймы, вместо низких серых облаков ему видится этот весенний разлив, о котором так хорошо говорит Иван, слышится малиновый звон колоколов, а среди веселых и беззаботных людей он видит и себя в новом пиджаке, в новых сапогах со скрипом... «Красота», – повторяет он это слово, и ему кажется, что он слышит его впервые.
– Ну, пойдем деньги собирать, – говорит Иван.
– Где?
– А с должников. У меня их много.
Эта новость тоже занимает Степана и наполняет его гордостью за брата. Вот он какой, брат! Добрый, хороший, как он любит его, Степана. Красота... Словно прорвался начальный тонкий ручеек в тугом затворе мельничной плотины, и вот уже целый водопад восхищения братом омывает чуткую и отзывчивую душу мальчика. Все идет в этот радостный счет, каждая мелочь, каждое движение, каждое слово, не говоря уже о истории с сапогами. Как благодарен Степан за одно только это! И он клянется сам себе, что отплатит брату за этот щедрый подарок, а больше за то, что не выдал тайны отцу, ни словом, ни намеком не напоминает и Степану – как отрубил.
И как он хорошо сказал о весне. Красота!.. Степану уже было что ждать в этом городе, ради чего жить здесь.
Иван, конечно, и не ведал, что творится в душе младшего брата – он жил сам по себе: про сапоги он не сказал только ради отца, да чтобы и себе зря не травить душу, про весну вспомнил только потому, что сам любил это время, любил весенний праздник. Но Степану все это обернулось спасением на долгие дни, хотя и Степан не знал, не ведал, что только надеждой и можно выжить человеку в этом убогом мире – восторгаясь и проклиная, проклиная и восторгаясь. И хотя никто из должников не отдал в этот день своих долгов Ивану, он не особенно огорчался, – у обоих братьев впервые, может быть, пробудилось и вспыхнуло нежное родственное чувство друг к другу, и огорчения таяли в нем, как свечи. Братья не торопились домой к верстаку, к доскам, к беременной капризной Вере, которая все время сидела и лузгала семечки. Они молча ходили из улицы в улицу, переглядывались, улыбаясь друг другу. А когда Иван заходил в дом какого-нибудь своего должника («этому я делал зимнюю раму»), Степан ждал его у ворот на лавочке. Иногда ждать приходилось очень долго, но это не огорчало Степана. Вот наконец выходил брат, улыбался смущенной виноватой улыбкой.
– Не отдали? – спрашивал Степан.
– Нет, чтоб их черти драли! – беззлобно ругался Иван.
– А ты не делай без денег, – советовал Степан.
– Эх ты, дурачок, – говорил Иван, опять обнимая брата за плечи. – Когда сделаешь, так хоть есть что спрашивать. Потому люди ко мне идут, просят, и как откажешь? «Не делай», – передразнивал он необидно Степана. – Эх ты, дурачок, ничего не знаешь еще...
Это правда, что к Ивану шли люди – Степан скоро увидел их сам. Но заказчики были все мелкие, больше похожие на бедных просителей, чем на щедрых городских покупателей, которых Степан надеялся увидеть. Просили сделать то раму, то лавку, то табуретку и редко что-нибудь покрупнее – стол, шкап, наплавную дверь. Они долго и напористо торговались из-за копейки, грозя уйти к другому столяру, и Иван почти всегда уступал. Потом Степан увидел и другое – не особенно радивый был мастер его брат Иван. Может быть, он поэтому и уступал? А может быть, уступив, он не особенно и старался? Но это Иваново нерадение к своему делу как-то уронило его в глазах Степана. Конечно, он еще и сам ничего не умел, не мог как следует отстругать заготовку, не умел делать и сотой доли того, что умел Иван, но, наблюдая за работой брата, он с какой-то досадой видел небрежность, грубость, суету в его движениях. Да и в самой мастерской, которая помещалась в передней избе, было вечно неприбрано – стружки ворохом лежали у стены, кругом валялись заготовки, обрезки досок, никогда нельзя было найти сразу нужный инструмент. Но Степан мало-помалу с молчаливым упорством осваивал столярное дело. Может быть, он хотел помочь брату, помня его доброту в первые дни и еще храня в глубине души память о том прекрасном осеннем дне? Может быть, он не хотел есть даром хлеб брата и замечать косых взглядов его жены Веры? Может быть, и сама работа увлекала его? Особенно нравилось Степану работать тяжелым яблоневым фуганком. Из-под широкого острого лезвия вилась прозрачной полосой тонкая, как бумага, стружка, обнажая удивительный рисунок, который таила в глубине своей обыкновенная шершавая сосновая доска. А если еще раз пройти, это тихое пламя в дереве вдруг как бы оживет по всей доске темными бегучими краями. Никто не учил Степана выявлять фуганком рисунок в дереве, но когда Иван собрал столешницу из приготовленных Степаном досок, что-то так удивило его, что он долго оглаживал ее, потом отступил в сторону и пробормотал, кося на столешницу:
– Хороший попал матерьял...
Степан научился работать стамесками, долотом, и с этим обретенным умением пришла к Степану и хозяйская власть над деревом, – вид грубой толстой доски уже не пугал его, как пугал еще совсем недавно. Из-под насупленных бровей глянет он на доску или тесину, определяя, что из нее может выйти, куда задир от продольного распила, где лучше обрезать, чтобы оранжево-темные разводы сука пришлись к месту. Все это доставляло ему настоящее наслаждение. Постигнув первоначальный секрет сосновой доски, он сделал и еще одно приятное открытие – дерево любит острый инструмент, оно словно бы радуется ему. Иван обычно как-то лениво занимался точкой и правкой инструмента, и инструмент тихо и упорно мстил ему за это – рубанок то и дело забивался, шершотка то влезала в задир, то прыгала по доске, точно по льду, а стамески мнут, рвут и крошат; уродуя паз, мучая дерево, но мастеру кажется, что так оно и должно быть. Когда однажды Степан робко сказал брату об этом, тот накричал на него. Степан, строгавший филенку к дверце посудного шкафа, вдруг побледнел, точно его ударили, швырнул рубанок в стружки и выбежал вон. Это случилось поздней осенью, когда на дворе уже лежал снег. Степан убежал в дровяной сарай. И, сидя на изрубленной дровосечной чурке, горя обидой на брата, он вдруг вспомнил, что ведь приехал в Алатырь не доски строгать, а учиться рисовать иконы. Он поклялся, что не возьмет в руки рубанок, – пусть брат отведет его к иконописцу, сегодня же.
Однако вечерний холод остудил его. Надо было возвращаться в дом. Степан, насупясь, вошел в избу. Вера сидела на лавке и лузгала семечки. Четырехлетний племянник Петярка складывал посреди пола из чурочек и досок клетки.
– Ты чего? – лениво спросила Вера.
– Ничего, – буркнул Степан и залез на печку.
Вере стало интересно, и она отправилась к Ивану.
Петярке тоже стало интересно, и он полез на печь к Степану. Но сердитый дядя турнул племянника, тот упал, стукнулся головой о трубу и заревел. На весь день повисла в доме угрюмая, мрачная тишина. Степан не слез и к ужину. Впрочем, его не особенно и звали. Он слышал, как Вера ворчливо сказала: «Баба с воза, кобыле легче». Это, конечно, она сказала про него. Степан лежал на печи, забившись в угол. Обида бушевала в нем. Разве он даром ел ихний хлеб? Разве он не помогал Ивану? Мало он ему строгал, пилил, долбил? А кто воду таскал из колодца – не он разве? А кто дрова колол? Он все это делал без всякого понукания, не то что дома. Дома его никто не попрекал куском хлеба. Нет, хватит, пусть Иван отведет его к иконописцу, как при отце было условлено, а не то он уйдет домой, в Баевку.
Ему вообразилась Баевка – белые от снега крыши, белая дорога с первым санным следом, с лошадиными дымящимися яблоками между блестящих полосок... Черная Бездна, уже прихваченная по берегам ледком, а берега белы, пухлы от снега. Снег налип полосами и по черным стволам дубов... Дёля идет по воду – легко несет два пустых ведра на коромысле, собачка прыгает вокруг Дёли, скачет ей на грудь, норовя лизнуть в лицо... Михал и Петярка Назаровы бросают снежки по толстой иве – весь дуплистый ствол уже испятнан снежными лепешками... Вдруг они оставляют свою забаву и смотрят на дорогу – кто-то идет по белой дороге в деревню. Кто-то незнакомый, в городском длинном пиджаке... Но зоркий Петярка узнает и кричит во все горло:
– Глядите, глядите, наш иконописец явился!.. – А толстый, как бочка, Михал мнет снежок и бросает навстречу Степану, – снежок взбивает порошу под самыми ногами...
Так все это ясно увиделось, так ясно услышался насмешливый крик Петярки, что Степан съежился на печи и еще крепче зажмурил глаза. Нет, он не пойдет в Баевку ни за что. Пусть Иван отведет его к иконописцу, как было договорено с отцом.
– Эй, – окликает Иван, подходя к печке. – Где ты там? Слезай, пока картошка не простыла, мы уже поели.
– Отведи меня к иконописцу, – бормочет Степан.
Иван озадаченно молчит. Потом:
– Ладно, никуда не денутся твои иконы, иди ешь...
– Не пойду, отведи.
– Что ты заталдычил – отведи да отведи! – срывается вдруг на окрик Иван.– Ты думаешь, это так просто – отвести? Кто еще тебя возьмет!..
Степана душат слезы обиды и недоумения. До него вдруг с неотразимой ясностью доходит, что это и в самом деле не так просто – уйти учеником к художнику. Кому он нужен? Кто его ждет? Ведь если в доме родного брата на него смотрят как на дарового работника, укоряют куском хлеба, что будет в чужих людях?..
Кто-то лезет на печку к нему, пыхтит. А, это Петярка.
– Не плачь, – шепчет Петярка. – Я тебе хлеба принес, мамка не видела...– Он сует Степану хлеб и сам ложится рядом. – Ты мне лошадку сделаешь?..
– Сделаю, – шепчет Степан.
Уже совсем темно. Степан слышит, как Иван с Верой укладываются спать.
– А собачку сделаешь?
– Сделаю, – шепчет Степан.
Обнадеженный и счастливый Петярка угомонился, уснул. У Степана высохли слезы. Он потихоньку съел ломоть хлеба. Обида утишилась. Рядом лежал маленький, добрый, ласковый человек. Завтра Степан вырежет ему из доски лошадку...
Степана разбудили тихие голоса. Вера и Иван о чем-то говорили, лежа в кровати. Было еще темно – серый свет раннего утра едва проступил в окошке.
– До рождества бы пожил, – сказала Вера.
Степан насторожился. Вроде как о нем говорят.
– А я что, гоню его, что ли, – ответил Иван. – Слышала сама, как приступил – отведи да отведи.
Помолчали. Потом Вера сказала с обидой:
– Тебе, конечно, дела нет, как я одна со всем справлюсь, а скоро еще родится...
— Дак не привязывать мне его, все равно уйдет, я его знаю.
Степан поднял голову.
Вера сказала:
– Ты же старший брат, не можешь, что ли, приказать...
Опять помолчали. Сердце у Степана бешено колотилось. Он понимал, что решается его участь.
Иван внизу, в темноте, сказал:
– Ладно, поговорю...
Вера подхватила:
– «Поговорю»! Да какие тут еще разговоры говорить? Не велика птица, сказал – да и все тут! Ну, пообещай сапоги на пасху, – добавила Вера, помолчав.
– Ладно, тише, – сказал Иван. – Разбудишь.
Степана обдало жаром. Ну нет, батраком он не будет. Не бывать этому! Он приехал в Алатырь не для того, чтобы доски для брата строгать, а снохе таскать воду и дрова. Он сегодня же заставит отвести себя к иконописцу. Если брат попробует отговаривать, он уйдет сам. И не нужны ему никакие сапоги. Он найдет иконописца и упадет ему в ноги, упросит взять в ученики. Да отчего бы его не взять‚ ведь ему, Степану, только показать, как надо по-настоящему пользоваться красками, а остальное он будет делать у сам. Он же умеет рисовать углем, а уж красками как-нибудь нарисует. Ведь нарисовал же в алтышевской церкви Саваофа!..
Светало помаленьку, не торопилось.
Но вот брат со снохой поднялись. Слышно, как под их ногами проскрипели половицы. Кто-то вышел во двор, должно быть, Иван. Вера прошла в предпечье, вскоре там засветился огонь. Еще рано, подожду, думал Степан, поглядывая на окно. Теперь, решив уходить, он был спокоен.
Наконец Вера за ненадобностью задула керосиновую лампу, и свет в окошке как-то сразу прибавился. Теперь пора, решил Степан. Он потихоньку слез с печи, тихо обулся у порога, нашарил пиджак. Тут дверь отворилась, и вошел Иван. Он с удивлением поглядел на брата.
– Ты куда нарядился? – спросил он, и в голосе его и тени нет вчерашнего раздражения.
– Сейчас отведешь меня к иконописцу, – сказал Степан и решительно добавил: – А не отведешь, сам пойду.
Иван и Вера с удивлением переглянулись.
– Зачем так спешить, еще рано, – заговорила Вера. – Никуда не денется твой иконописец. Их в Алатыре много, не к одному, так к другому пойдете. Надо сначала поесть.
– Нет, сейчас пойдем, – угрюмо твердил Степан, глядя в пол.
Вера хотела еще что-то сказать, но Иван остановил ее взмахом руки.
– Все равно сначала надо позавтракать. Торопиться некуда. Надоест тебе еще и у иконописца, – сказал он.
– Не надоест! – сказал Степан, но против воли своей попал в спокойный тон брата: – Сам говорил, что отведешь, когда сделаем сундуки. Сундуки давно сделали, и шкаф сделали, теперь делаем стол, а ты все не отводишь...
– Стол тоже надо сделать. Разве у тебя нет желания научиться делать столы?








