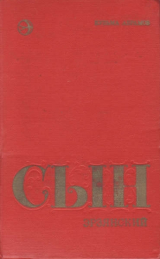
Текст книги "Сын эрзянский. Книга вторая"
Автор книги: Кузьма Абрамов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц)

В центре внимания второй книги романа мордовcкого писателя Кузьмы Абрамова «Сын эрзянский» – судьба всемирно прославленного скульптора Степана Дмитриевича Нефедова, более известного под именем Эрзя.
Сын эрзянский
Книга вторая

Часть первая
Алатырь
1
По краю старой поруби в высокой траве темнеют неохватные замшелые пни – следы былой жизни, следы былого лесного величия. Когда-то эти сосны достигали до самых облаков, и глухой неспешный ропот вознесенных в вышину крон был похож на вечерний разговор древних стариков. И тогда деревья спилили...
Конечно, деревья – не люди, но они кажутся Степану тоже живыми. Вот сосновый сук – он желтый и твердый, как кость, и ножик не берет его.
Краем поруби вьется между пней едва заметная тележная колея. Но как звонко распелись птицы в молодом веселом березняке, густо затянувшем всю порубь! Наверное, они величают своей вечерней песней светлый день лета и этот молодой лес, в котором живут, и его, Степана, этого простоволосого мальчика, бредущего куда-то своей дорогой...
Целый день он ходил бесцельно по лесу, и далеко ли теперь до деревни, Степан не знает. Можно пойти вот по этой дороге, она куда-нибудь приведет. И Степан, опустив складной ножик в карман портков, идет по колесному следу, приминая босыми ногами траву. Птичий гомон и шум березняка под легким ветерком провожают его. Скоро над этими старыми пнями вырастут новые высокие деревья...
На опушке, где уже пошли знакомые места и тропы были истоптаны скотиной, Степан увидел Дёлю. Наверное, она пришла за теленком, который пасется здесь на привязи. Но вот и Дёля заметила Степана, и в черных глазах ее робость перед лесом заплеснулась радостью.
– Вай, это ты!.. Чего ты здесь ходишь один?
– Так просто, – ответил Степан и опять достал ножик и стал строгать веточку.
– Знать, не боишься один по лесу ходить?
Степан пожал плечами. Кого ему бояться в лесу? Он вообще нигде ничего не боится.
– Да, как же! А если заблудишься?
Степан строгал веточку. Голосок Дёли звенел так сладко!
– Помнишь, как прошлым летом Назаров Михал проплутал в лесу целых два дня!..
– Михал заблудился, а я не заблужусь.
– Вай, какой смелый!
Наверное, Дёля совсем забыла, зачем пришла сюда, но тут теленок сам напомнил о себе.
Потом они шли по тропинке вдоль Кудажиного огорода, и теленок здесь еще то и дело хватал траву, так что его приходилось тащить на длинной веревке. Над деревней широко и ясно светилось закатное небо.
Уже Дёле надо было поворачивать к своему дому, когда она вдруг сказала:
– Степа, сделал бы ты мне икону... – Голосок ее дрожал. – Всю бы жизнь тебя вспоминала...
– Для чего тебе икона?
– Молиться, – прошептала Дёля, опуская порозовевшее вмиг лицо.
– Разве у вас в доме нет икон?
– Есть, да почернели, ликов не видно. – Она помолчала. – А когда стану выходить замуж, той иконой меня благословят, – быстро добавила она, взглянув на Степана.
Степан насупился и молчал.
Теленок тащил Дёлю, и она не могла удержать его на веревке. Степан поглядел ей вслед. Длинная синяя холщовая рубаха на Дёле была перехвачена тонким пояском с бисерными кисточками. Мелькали темные пятки, взбивая тяжелый подол рубахи...
Рядом с усадьбой Кудажей была усадьба Назаровых. Здесь Петярка и Михал сгребали в кучи высохшее за день сено, а их отец сидел на пороге сарая и сматывал в клубки лыко.
– Эй! – крикнул Петярка, завидев Степана. – Иди-ко помоги сено таскать! – И скалит в улыбке длинные зубы, отчего все его худое вытянутое лицо еще больше делается похожим на овечью морду. Наверное, он устал и теперь рад постоять и подразнить Степана. Петярка всегда липнет к людям со своей пустой болтовней, как репейник к собачьему хвосту.
– У нас тоже сено есть, – отвечает Степан.
– У вас мать стаскает! – не унимается Петярка, и они оба с Михалом смеются.
Марья и в самом деле сгребала сено. Она увидела Степана, бросила грабли и закричала:
– Ты где опять пропадал целый день?
– В лесу, – отвечал Степан.
– Вот надаю тебе граблями как следует, забудешь про свой лес! Знать, дома нечего делать, коли весь день шляешься?..
Степан хотел было взять грабли, но мать приказала таскать сено в сарай.
– Ох, беда мне с тобой, – горестно добавила она, оправляя сбившийся платок. – Да вилы возьми, много ли охапкой унесешь! – опять крикнула она.
Степан пошел в сарай за вилами.
Солнце, меднисто оплавив края сизой тучки, ложилось на далекие синие леса. Теперь оно было большое и огненное, на него было можно глядеть, не жмуря глаза, и Степан видит ясно, как от огненного большого шара исходит золотое сияние, а все небо пронзают светлые белые лучи – точно катится по краю земли чудное колесо... И если бы сейчас у него было немножко красок и большая гладкая доска, он бы нарисовал это солнце, уже коснувшееся земли...
– Степан! – раздается сердитый голос матери. – Ты чего опять стоишь разиня рот?!
Степан, поддев на вилы полкучи, тащит тяжелую сыпучую ношу сена в сарай. А под ноги так и норовит попасть трехлетний брат Илька, – ведь ему все нипочем, он под надежной защитой матери. Правда, Степан не сердится и на мать. Вот она опять ходит с животом, опять по лицу темные буроватые пятна, а глаза потемнели еще больше... От солнца уже осталась одна алая краюшка...
– Вот и отец ваш идет, – сказала устало Марья.
Илька – в порточках, с прорезью на промежности – шустро вылез из кучи сена, завертел белой головой по сторонам.
– Да вон, вон! Встречай татку своего...
С радостным воплем Илька бросился навстречу отцу.
Как бы хотел сейчас и Степан побежать к отцу, взлететь над землей в его сильных руках!.. Хоть бы на один краткий миг сделаться таким же маленьким, как Илька, чтобы вот так же сидеть у отца на руках!..
– Хорошо высохло, надо все перетаскать в сарай, – говорит отец, опуская Ильку на землю.
Марья тяжело вздыхает.
– Вот сам и таскай, я еле на ногах стою, целый день с ним вожусь, сил моих нет...
– А что Степан? – роняет Дмитрий, глядя, как Степан вяло ворочает вилами. Впрочем, можно было бы и не спрашивать...
– Степан! Твой Степан только домой явился, целый ‚ день шатался бог знает где.
Дмитрий молчит. Он берет из рук жены вилы и вздымает над собой всю кучу. Отца почти не видно под ношей – одни ноги в разбитых лаптях.
– Чего опять глазеешь, – ворчит мать на Степана. – Загребай одонья...
Уже затемно отец перетаскал в сарай сено и затворил широкую лубяную дверь. С минуту он как-то странно смотрел на Степана, стоящего тут же, но только вздохнул тяжело и обронил слово:
– Пойдем поедим...
Конечно, отец что-то другое хотел сказать, какие-то другие слова. Только, наверно, он их еще не придумал. Он вообще говорит мало, все время думает. Но хоть он и не говорит ничего, редко даже Степана и по имени называет, а нет у Степана лучшего друга, чем отец. Да и кого здесь в Баевке назовешь другом? Петярка и Михал Назаровы? Степан хоть и ровесник с ними, да почему-то они задаются, считают себя взрослыми парнями, да и на языке у них одни только насмешки... Есть у Кудажиных ребята, да старшие уже на работу ходят, а меньшие, которые после Дёли, совсем малыши, они только и знают, что играть в козны. Степан не любит играть в козны. Чего хорошего в этой игре...
Тухнет закатное полымя, потемнели липы за Бездной, ткется туман над тихими плесами. Скоро он разольется по всей пойме, подступит к самым домам... Сердце у Степана вдруг сжимается от какой-то непонятной тоски. Хочется ему куда-то уйти далеко, а куда – он не знает. Днем как-то забывается, что земля большая, а Баевка – маленькая. Днем не вспоминается даже, что есть еще и Алтышево, и город Алатырь... А вот вечером, как погаснет заря, думается Степану, что в большой-пребольшой стране России, где живут эрзяне и русские люди, есть еще много-много деревень и городов... А ведь есть на свете еще и другие страны, где живут уже не эрзяне и русские, а совсем другие народы... И как хочется Степану посмотреть все эти города и людей!..
– Ты, знать, ожидаешь, когда съедим всю картошку? – с усталой ворчливостью говорит мать из сеней. – Чего уселся, как барин?
Едят, не вздувая огня. Степан лезет на свое обычное место за столом и невольно задевает Ильку. Тот, кажется, только и ждал повода заорать. У матери, ясное дело, виноват Степан. Отец молчит, не вмешивается, круто солит облупленную картошку. Опять эта картошка. Сколько он помнит себя, с картошки день начинается и картошкой кончается. Мать варит ее чищеной и в кожуре, целой и резаной, тертой и мятой. Как надоела Степану эта картошка!
– Совсем от рук отбился, – жалуется плаксивым голосом Марья на сына, – поговорил бы хоть ты с ним, отец, ведь все на мне одной лежит... – Она и в самом деле готова разреветься. Сейчас Фиму начнет вспоминать, думает Степан, хотя ему тоже до слез жалко мать.
– Все на мне одной... совсем замучилась... Как хорошо, когда Фима-то дома была, как хорошо, а этот... ничем не поможет...
Отец покашлял.
– Чай, прясть и ткать парня не заставишь.
– Да ведь и без этого дел-то много, чего ты тоже говоришь!
– Надо подумать...
– Да чего еще думать! – срывается Марья на крик. – Да возьми хоть с собой, пускай помогает!..
– Там уж нечего помогать, скоро кончаем.
Но мать не сдается. Она начинает вспоминать Ивана, какой он был работящий да умелый, и по дому все делал, и пахал один, и сеял, а этот лоботряс все стены углем исчертил.
– Рисовать – тоже дело, – ворчит отец. – Я всю жизнь пахал да топором махал, а добра не нажил.
– Да ведь и перед людьми-то стыдно за него! Даже Назаровы ребята над ним смеются!..
Отец молчит. Это веский довод. Надо подумать. Степан ждет решения отца, затаив дыхание.
– Ладно, – говорит он наконец, – осенью отвезем к Ивану, пускай научит столярничать. – И поднялся, крестясь в темный угол на иконы.
Мать довольна и таким решением отца. Она живо убирает со стола и стелет постели. Голос у нее уже мягкий и ласковый.
Степан залезает на полати. Здесь никто не увидит его счастливой улыбки, никто не помешает воображать город Алатырь и то, как он будет жить в этом городе. Воображается, правда, что-то неопределенное, будто бы он, Степан, все чего-то ходит и ходит среди праздного народа, все кого-то разыскивает, и хотя не может никак найти того, кого ищет, но знает, что найдет, и потому счастлив!.. Слабо, как из-под земли, он слышит голос матери:
– От топора, чай, и руки у тебя отвалились?..
Нет, это не ему, это она с отцом говорит, и от этого еще лучше, еще слаще делается Степану. Он уже смело заглядывает в счастливые, смеющиеся лица, а их бесконечное множество, и все они красивы и приветливы и говорят друг другу какие-то приятные, ласковые слова. Какие же? Степан напрягает слух.
– Алатырь!..
– Алатырь!.. – шепчет и он сам, улыбаясь во сне.
2
Степан лежит в траве на берегу Бездны, вокруг стрекочут кузнечики, жужжат шмели. Сквозь рубаху он чувствует влагу смятой травы. Вверху по синему небу плывут белые пухлые облака. О чем-то говорит Дёля, сидящая неподалеку со своим рукоделием. Он не слышит, не понимает слов девочки, они не доходят до его сознания. Но тогда о чем он думает, чем занят? Ничем. Он просто смотрит в обычное летнее небо. Ведь глаза его никогда не устают смотреть. Устают ноги, если много ходишь, устают руки, если много работаешь, а вот глаза у него никогда не устают, хоть сколько смотри. И когда смотришь в эту светлую бездну неба мимо кудрявых облаков, тихо куда-то плывущих, то обо всем забываешь, даже о самом себе, о том, что у тебя есть руки и ноги и язык, чтобы отвечать на вопросы. Ничего нет, одни глаза. И ничего им не мешает смотреть и видеть... Видеть – чего? Этого Степан не знает и сказать не может. И пусть Дёля говорит свои слова. Ему приятен один звук ее близкого голоса. И он улыбается.
Чему он улыбается? Откуда он знает, ведь он даже не знает, что улыбается.
– Лежит улыбается, а корова в рожь залезла. Я, что ли, буду выгонять твою корову?!
Какая корова? Он не знает никакой коровы...
Дёля заливается смехом. Разве Степан тут не для того, чтобы присматривать за коровой? Разве мать его не для этого послала?!
Нет, он здесь для того, чтобы присматривать за небом. Но разве оно куда-нибудь уйдет? Ведь оно всегда вверху, когда ни взглянешь. Вай, какой же он сметной, этот Степка!.. Но если так, если он так долго смотрит в свое небо, то не видит ли он там бога?!
Дёля пугается своего внезапного вопроса и с изумлением и страхом смотрит на Степана, точно от него одного зависит божья кара за праздное суесловие. Дёля даже подвигается ближе к Степану, еще ближе, еще. И теперь, когда до Степановой головы можно достать рукой, она забывает о своем страхе. А может, его и не было вовсе? Может быть, она нарочно испугалась, чтобы подвинуться ближе к Степану? И от какого-то сладкого трепета вспыхивает ее лицо и дрожат руки. Она поскорей наклоняется над вышивкой. Мало-помалу она успокаивается, ведь Степан лежит как лежал, он близко, хотя и не видит ее. Но она неспроста спросила о боге. Конечно, Степан его видел – иначе как бы он нарисовал бога в алтышевской церкви? Если бы не видел, не нарисовал бы. Ведь того, чего Дёля не видела, она не может и представить, а не то что нарисовать. Значит, Степан видел, но только об этом нельзя говорить, об этом можно только думать. И Дёля, совсем успокоившись, оглядывается на коров. А корова Нефедовых и в самом деле бродит уже во ржи.
– Заснул, не слышишь? – говорит она, впадая опять в прежнее веселое настроение, опять начиная ту игру, где можно за будничным поведением скрыть какие-то другие слова. – Иди, говорят тебе, отгони свою корову!..
– Сходи и отгони.
– Корова-то ваша!
– А какая разница, чья корова потравит рожь?
– Вай, ленивый! Лежишь, как кузов...
Но разве в нарочито-сердитом ее голоске не слышится иное? Да если бы Степан поднялся, она бы огорчилась до тайных слез. Нет, пусть лежит он, как кузов, она сама выгонит корову из ржи и вернется на прежнее место, чтобы опять спокойно вышивать крестики, а краем глаза видеть эти светло-рыжеватые волосы, это тихое улыбающееся лицо и глаза, устремленные куда-то вверх, – ведь только он один и может нарисовать Дёле икону. А чтобы нарисовать бога, его надо увидеть. Пускай смотрит...
Может быть, эта робкая фантазия Дёли передалась и Степану? Или наоборот – она была всего лишь светлой тенью блаженства, в котором плавала мальчишеская душа Степана, согретая близостью Дёли? Вспомнил ли он своего алтышевского Саваофа? Но то же самое необъяснимое и невесть откуда взявшееся в нем счастье, которое впервые обожгло его сердце там, перед Саваофом, когда грозный бог по воле маленького создателя обрел душу деда Охона, то же самое счастье опаляло его и теперь. Что это такое? Откуда оно? Предвестник какой муки? Может быть, он поймет этот охватывающий его трепет потом, спустя годы, как поймет и свою любовь к Дёле, – теперь же он не знал и не понимал, что любит, что и сам любим. Все это было теперь само собой и так просто, как проста была и сама жизнь вокруг, как просто и чудно было голубое небо с плывущими облаками. Ведь это будет всегда с ним, это будет с ним вечно. Но странно – легкие руки как-то сладко дрожали, перебирая травинки. Он сел, оглянулся. Дёля куда-то бежала. Длинный просторный подол синей рубахи взбивался над быстро мелькавшими узкими ступнями. Толстая длинная коса билась на спине, как живая, Степан поглядел на брошенную в траве вышивку – по натянутому в пяльцах холсту точно пробежала птичка, оставив красные крестики следов. Легкая рука у Дёли. Да и сама она хорошая... Степан поднимается на ноги. Река солнечно блестит под обрывистым берегом, маленькие веселые волны заплескивают и омывают запекшуюся на солнце бурую глину. Может быть, слепить для Дёли лошадку, такую же, какую он слепил Ильке? Степан прыгает вниз. Нет, лошадка Дёле ни к чему... Куклу? Правда, лучше куклу. Он торопливо месит ком глины. Пусть будет кукла похожа на саму Дёлю. Самая настоящая Дёля, только маленькая... В долгой рубахе, босиком, с толстой косой на спине... Но какая противная глина. Разве это Дёля? Разве она толстая, как бочка? Это скорей похоже на Михала Назарова, ведь он растет не в вышину, а в ширину. Степан разбивает Михала и опять месит ком. Но опять не получается маленькая Дёля. Ага, мало глины, надо добавить... Печет солнце, полдневный зной накалил обрывистый берег, и от него несет жаром, как от печки. Пот градом катится по лицу, застилая глаза. Степан трудится уже с ожесточением, а Дёля никак не хочет получиться из глины. Вот уже, кажется, похожа и долгая рубаха, и босые ноги выглядывают из-под рубахи, и коса, и поясок, а лицо вовсе не Дёлино. Разве такое лицо у Дёли! Скорей это лицо Петярки Назарова... Степан в отчаянии опускает руки. Его сражает разница между тем, что перед ним и что в нем. Потом вдруг с закипевшими на глазах слезами бъет кулаком по своему творению, топчет ногами, пинает комки, и они с плеском падают в воду Бездны... В изнеможении он вылезает наверх. Где Дёля? Не видно Дёли. Наверное, ушла домой – тесовые сизые крыши домов дрожат в знойном мареве... Степан ничком падает в траву, и тягучее, холодное горе, точно обвал, давит его к земле.
3
Медленно тянутся летние длинные дни, они похожи один на другой, похожи, правда, потому, что дни эти – всего лишь ожидание осени, того дня, когда Степан отправится в Алатырь. Это нетерпение то глохнет и забывается в каком-нибудь новом увлечении (тайно от матери, например, мастерил крылья, обуянный жаждой полетать над землей – ведь ястреб же летает, даже не взмахивая крыльями, отчего не полетать и ему?), то эта радостная мысль об Алатыре вдруг перебивается щемящей тоской – а как же Дёля? – то разгорается с новой силой, точно костер, в который брошена охапка сухого хвороста. И тогда воображение захлестывают картины будущей жизни: полный сундук красок, иконы, которые он нарисует. А в роли учителя ему воображается некто, похожий почему-то на алтышевского попа, как он стоит у Степана за спиной, когда тот рисует, и хвалит его работу. А как иначе? Учитель-художник – это не непонятливая мать, которая все время ворчит даже на то, что он изрисовал углем все стены, все доски, все крышки для горшков и крынок. «Куда ни сунься, везде лики!..» А чтобы уязвить Степана еще больше, заявляет, что черных людей не бывает. Само собой, людей не бывает ни черных как сажа, ни белых как мел. Это Степан и сам знает. Но чем еще рисовать? Однажды на берегу Бездны среди камешков он нашел кусочек жесткой охры, но этого кусочка хватило только на Николу-угодника, – Степан начертил его на стене конюшни возле костылей, где висит сбруя. Все у Николы получилось красное – и лицо, и волосы. Долго держался Никола на этом месте – до весенних дождей, так что всякий раз, когда Дмитрий запрягал и распрягал лошадь, с каким-то смущением взглядывал на красное лицо Николы и удовлетворенно покачивал головой – ну прямо как с иконы списано, хоть молись на него. Может быть, оттого у отца и не хватает духу корить Степана за безделие, как велит ему мать? Она всегда жалуется отцу на него. Да отец, правда, только вздыхает и молчит. Даже если Степан допоздна прошляется где-нибудь на берегу Бездны, то и тогда отец не всякий раз ругает. А бывает и так: вроде вот-вот скажет чего-то, да только поведет своей большой ладонью по Степановой голове – и нет для Степана ласки желанней.
– Подстричь бы твои космы, зарос...
Но почему так тяжело вздыхает отец? Может быть, ему жалко отпускать Степана в Алатырь, на чужую сторону? Но так ли это, об этом не знает, наверное, и мать. Дмитрий не любит рассказывать, какая печальная дума лежит на душе. Да и трудная дума у него. Она о том, что рисовать, а особенно иконы, – это не каждый сумеет, умение это – божий дар, божья воля, и ей нельзя, просто невозможно перечить. Каким-то чутьем он, загрубевший в нужде и тяжелой работе, понимает, что этот таинственный дар коснулся его сына. И, бросив взгляд в темный угол, где висят старые родительские иконы, он крестится и говорит про себя: «Помоги ты ему, царица небесная...» Конечно, в крестьянском деле умение рисовать и чертить вроде бы и без особой надобности, но мысль, что все то, что от бога – свято и не подлежит суду человеческому, наполняет душу Дмитрия благоговейным смирением, которое невозможно выразить словом. Вот он и вздыхает, когда Марья начинает жаловаться на сына. Да, хорошо бы послать Степана не к Ивану в подмастерья и на побегушки, а на учебу, да что делать. Как ни рассчитывай свой скудный достаток, ничего не выходит. Придется отдать Степана в чужие руки. Может, живя у людей, чему-нибудь научится, да и себя заодно прокормит...
И в таких думах отец не меньше самого Степана ждет осени, кануна воздвиженья, когда можно будет везти коноплю на ярмарку в Алатырь...
Но если тихо и согласно примирился Дмитрий с необходимостью отъезда Степана, с уходом его из родного дома, из семьи, то в покорной и робкой душе маленькой Дёли впервые не было согласия с тем, что должно было совершиться.
О том, что Степан уедет из Баевки, она услышала за вечерней едой – старшие Кудажи перебирали деревенские новости. Дёля не вникала в эти разговоры, к тому же младший братишка болтал под столом ногами, норовя привлечь к себе внимание сестры. И вдруг у Дёли как-то странно сжимается в груди: Нефедовы снаряжают Степана в Алатырь!.. Она замерла в надежде, что ослышалась. Но слова матери звучат как приговор:
– Там ему и место, бездельнику. Чужая сторонка научит работать...
«Степа не бездельник, не лодырь!» – хочется крикнуть Дёле, но она закусывает дрожащие губы. Спасительная темнота вечерней избы скрывает и от родителей, и от востроглазых братьев смертную бледность на ее смуглом загорелом лице.
Старшие Кудажи обменялись свежей деревенской новостью да и забыли, и никто на свете не знал, что с этого самого вечера началась для Дёли другая жизнь, потому что другой стала и сама Дёля – детского сердца ее коснулась святая мука первой любви, начался печальный праздник, который осветит и всю ее будущую жизнь, жизнь крестьянской жены, матери, хозяйки дома, в котором всемогущая скудость так скора и легка на расправу со всем, что не имеет к ней отношения.
Но пока было только начало праздника, тихого, сокровенного, и если внешне жизнь Дёли состояла из обычной череды забот по дому, которые возлагала на нее мать (в основном Дёля пасла корову и теленка), то детская наивная душа жила в необычайном нервном напряжении – она то парила в счастливом забвении, то по самому пустяковому поводу рушилась наземь, погружаясь в глубины самого лютого и безысходного горя. Особенно изводили Дёлю насмешки Петярки и Михала Назаровых – с невероятной изобретательностью они находили повод позубоскалить над Степаном. Они придумали ему кличку – Стриженый. Они были свидетелями его неудачного полета на крыльях, которые Степан смастерил из обручей от кадушки и материного сарафана. Они умирали со смеху, тыча пальцами в красного Николу. И если все это самого Степана словно бы и не касалось, то Дёля страдала вдвойне. Она готова была броситься на долговязого Петярку, выцарапать его овечьи глаза, однако на долю ей доставалось одно – придумывать для Петярки и Михала кары: как их сгрызут волки, когда они пойдут в лес драть лыки, как водяной утянет их в омут Бездны, когда они будут купаться. И она молилась по ночам, чтобы так оно и было. Однако стоило Степану в какой-нибудь день не прийти на луг караулить корову – хотя после того как убрали рожь, особой нужды смотреть за коровами не было, – Дёля сердилась, а дома раздражалась по малейшему поводу, давала подзатыльники младшим братьям, перечила матери, плакала, забившись на полати, не слезала даже к столу ужинать. Но на другой день, когда Степан наконец-то появлялся на выгоне, старалась показать свою обиду, не отвечала на Степановы вопросы, хотя держать себя строго ей удавалось с великим усилием, да и то только в первую минуту встречи, так что Степан и не замечал ее сердитого вида, ее зареванного лица.
Однажды Степана ужалила оса. Он бродил по ивняковым зарослям около речки и вдруг увидел гнездо – на ветке висел кверху дном серый горшок. Степан знал, что это осиное гнездо, но любопытство оказалось сильнее чувства страха – он решил рассмотреть этот удивительный дом вблизи. Он даже успел потрогать его, но в то же мгновение оса пулей шлепнула ему под глаз, а другая добавила в лоб. Когда он выскочил из ивняка на выгон, глаз неотвратимо заплывал. Но не об этой ли минуте мечтала Дёля, о блаженной минуте, когда она может прийти Степану на помощь? Бог услышал почему-то только эти молитвы, а наказывать Петярку и Михала не торопился. Ну что ж, они еще получат свое, а сейчас надо было спасать Степана – она решительно отвела его руку. От глаза осталась лишь одна щелочка.
– Ничего не видишь? – спросила она с гримасой такого явного сострадания, что Степан опешил и завыл от боли.
– Маленько вижу... – Язык у него заплетался. Но когда Дёля вела его за рукав к бочажку родниковой воды, он уже пошутил:
– Вот буду как дядя Охрем...
И очень хорошо, не поехал бы тогда в Алатырь, мелькнуло в голове у Дёли.
У бочажка она велела стать ему на колени и мочить волдырь в горстях холодной воды. Дёля повелевала – как будто тайное страдание за Степана давало ей такое право, а Степан был теперь на удивление безропотен и покорен. Но вот Дёле кажется, что Степан не так мочит глаз, как надо. И она сама берет воду пригоршней. Степан наклоняет лицо в дрожащую горсточку воды. Ее руки нежно касаются его лица. Он совсем уже не чувствует боли, но он готов стоять так сколько угодно, пусть даже вода давно вытекла из Дёлиных ладоней.
– Болит? – шепотом спрашивает она.
– Болит... – шепчет он.
И Дёля дрожащими руками черпает новую пригоршню воды. Но вода почти тут же стекает между пальчиков, так что к лицу прикладываются только мокрые холодные ладошки.
– Болит?..
– Болит...
Но вдруг Степан тычется в эти мокрые ладошки губами.
– Вай! – И Дёля отдергивает руки, краска заливает ее лицо, щеки горят.
– Пить хочу, – шепчет смущенно Степан. Ему в самом деле хочется пить, он ложится на землю и тянется ртом к зеркальцу воды. А в этом зеркальце – Дёлино лицо. И Степан тянется губами к этому лицу. И пьет. Может быть, Дёля ничего не заметила?
– Вкусная какая вода...
– Вкусная? Я тоже хочу попить...
И Дёля тоже ложится на землю и тоже тянется губами к воде, а в воде – его лицо. Наверное, Степан. ничего не заметил?..
– Правда, вкусная вода?
– Правда...
– Я еще хочу попить...
Но тут тяжелая коса Дёли соскальзывает с плеча и плюхается в воду, с брызгами ломая зеркальце.
Степан хохочет. Заливается смехом Дёля. Хохочут их лица в воде.
– Гляди, мое лицо надулось, как бычий пузырь!
И вдруг, оборвав смех, прерывистым, задыхающимся голосом:
– Ты уезжаешь в Алатырь?..
– Я... – Ему хочется сказать, что нет, теперь он не поедет в Алатырь, он останется в Баевке! Но кто-то другой в нем, откуда-то из груди твердо вдруг выдыхает: – Поеду, да...
Дёля поднялась. Поднялся с земли и Степан. Они растерянно и быстро взглянули друг на друга и отвернулись поспешно. Пока Степан срезал ветку для свистульки, Дёля убежала. За целый день они не подошли друг к другу и близко. Оба думали: «Завтра!..» Завтра они опять будут пить из бочажка, ведь бочажок никуда не денется. Но завтра – шел дождь, и Дёля сидела дома – надо было ткать половище для продажи на ярмарке. А потом подоспело время убирать картошку. Так «завтра» и не пришло, хотя заветный бочажок никуда не делся.
А вот подошло и воздвиженье. Она не спала всю ночь, карауля утро, чтобы проводить отца и в последний раз увидеть Степана, а может быть, он прибежит к их дому – в темноте его не увидят. Тогда они простятся. Тогда он ее поцелует взаправду. И Дёля сладко улыбалась, сжимая в кулачке прощальный подарок – платочек с вышитой буквой С. Вот уже пропели петухи. Посинело окошко. Сейчас зашевелится мать, встанет отец. Сейчас!.. Она улыбнулась, закрыла глаза и... уснула.
А когда проснулась, был уже самый настоящий день. Братья тихо сидели за столом и ели горячие картофельные шаньги. И хитро улыбались, точно заговорщики.
В одном сарафане она выбежала на дорогу. День был серый, моросило, дали обложило низкими дождливыми тучами. Голые черные липы жестко махали корявыми ветками. По дороге вились блестящие следы от колес.
Она проглотила слезный комок. Безжалостная взрослая мысль о том, что на чужой стороне Степану придется горько, как-то легко и просто утешила ее, – тем скорее он вернется сюда, в Баевку.
И Дёля вздохнула свободно, облегченно. Она тихо улыбнулась. Светло и преданно, как женщина. Она приготовилась к долгому ожиданию.
4
Вечером Дмитрий приготовил телегу. Степан помогал отцу мазать дегтем оси, из сарая принес две охапки сена, чтобы и самим было на чем сидеть и лошади было бы что есть.
Марья наблюдает за сыном: как он вдруг оживился, как бойко забегал! Она кивает мужу:
– Посмотри-ко, не узнать! Радуется, что уезжает. А того, глупый, не знает, что у людей не сладко придется.
– Поживет – поймет, – ответил Дмитрий.
Поужинали в сумерках. После ужина все сразу легли спать. Степан лег обутый, чтобы утром не терять зря время. Лежит, а сна нет и нет. Закроет глаза, а они открываются. Да еще Илька во сне сопит, дрыгает ногами. Нет, никакой сон не идет. Устав наконец лежать, он осторожно слезает с полатей, нашаривает в темноте свой зипун. На воле ветер, небо темное от плотных низких туч. Слышно, как за Бездной гулко шумят старые дубы и липы. Во дворе у Назаровых беспрестанно лает собачка. Чего. она, глупая, лает? Степану припоминается Волкодав. Умная была собака, без дела ни разу не тявкнет. Когда он теперь будет жить в Алатыре, обязательно заведет собаку и кличку ей даст ту же – Волкодав. С собакой куда лучше, по дому не соскучишься. Ведь он еще не жил в Алатыре и не знает, как там живется. Он знает одно, что там все люди разговаривают по-русски – и взрослые и маленькие. Это не пугает Степана: по-русски он умеет говорить. А вообще-то его ничего не пугает в Алатыре, его даже тянет туда, и он с нетерпением ждал этот день и вот дождался. Пройдет эта ночь, и Степан распростится с Бездной, с лесом и лугами... А за выгоном есть бочажок с родниковой водой... Степану сделалось грустно, когда он вспомнил про Дёлю. Хорошо бы, если бы и она поехала в Алатырь...
Степан спустился с крылечка и зашагал по еле заметной в темноте тропинке. Собачка во дворе Назаровых зааяла сильнее. Огня не видно ни у Назаровых, ни у Кудажей. Избы других трех поселенцев стоят немного поодаль, их окон не видно. Да и там давно уже спят. Степан подошел к избе Кудажей. Постоял. Конечно, Дёля спит. Он повернул к берегу Бездны и пошел тропой вдоль реки. В кустах тоскливо завывает ветер. Вода в реке черная, как деготь. Степан постоял немного под ветлой, которая росла у самой реки, и отправился спать.








