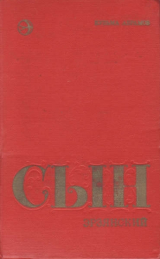
Текст книги "Сын эрзянский. Книга вторая"
Автор книги: Кузьма Абрамов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
На ночь барак изнутри не замыкали. Не боялись, что кто-то войдет и что-нибудь украдет – красть было нечего, богатство каждого помещалось в мешке под головой. Кухарка рано утром входила, никого не беспокоя. Она затопляла плиту и принималась варить завтрак, который бессменно состоял из одного и того же блюда – картофельного супа с пшенной крупой, заправленного жареным луком на постном масле. Артель просыпалась от острого запаха жареного лука. Вставали поспешно и, еще не проснувшись окончательно, усаживались за длинный стол. Кухарка разливала суп в три большие деревянные чашки. Ели торопливо, обжигались.
Иногда кто-нибудь ворчал:
– Сегодня гандер чегой-то жидковат.
– Дайте денег побольше, погуще будет! – отвечала кухарка.
На этом утренние разговоры прекращались. Да и надо торопиться на работу. Мастер у них очень сердит, приходит раньше всех и следит, кто опоздал, чтобы потом, при раздаче получки, оштрафовать. С мастером лучше не связываться, он – вроде урядника, на него никак не угодишь. У него не только глаза острые, но и уши. Каждому кажется, что мастер все время за спиной, подслушивает. В мастерской ничуть не теплее, чем в бараке, хотя стоят четыре железные печи и все время топятся. Тепло лишь вблизи них. Но по углам – белый иней, с потолков капает вода. В дощатых стенах большие щели, и ветер в них свистит. Все мужики работают одетыми кто во что – в пиджаки, зипуны, полушубки. Пилят, строгают, обтесывают. В другом сарае – рядом – делают мебель для станционных и вокзальных надобностей, а Степан со своими товарищами готовит доски для ремонта товарных вагонов. Их работа считается тяжелой и грубой. И Степан сначала думал попроситься туда, в столяры, в «мебельный цех», но потом решил: «Ладно, как-нибудь потерплю до весны...»
К весне сапоги Степана окончательно развалились. Он уже перестал их чинить, обмотал головки проволокой и так ходил. Утром по морозцу добежит до мастерской и ног не промочит, но вечером, когда возвращается в барак, ноги всякий раз сырые. Но вот наступило время, когда и заморозки стали реже. Теперь ноги промокают с утра. Приходит он в мастерскую, разувается и развешивает свои мокрые портянки у железной печки. Просохнут немного, он снова обувается. Раз его портянки увидел мастер, подцепил их на рейку и выбросил за дверь. Степану пришлось за ними выйти босиком.
Товарищи, хотя и сами ходят не в лучшей обувке, подсмеиваются над его сапогами:
– Они у тебя, Степан, рты разинули, есть хотят, дай им немного гандеру.
– Ничего, ему скоро куфарка новые купит!..
Степан помалкивал. Он прекрасно знает, что тех денег, которые он каждую субботу отдает кухарке, на новые сапоги не хватит. Она ему купила две рубашки, двое подштанников. Кроме того, купила полотенце и лицевое мыло. А до сапог еще очередь не дошла...
4
К пасхальной неделе барак опустел. Все алатырцы уехали праздновать пасху домой. Разъехались и другие. Со Степаном в бараке остались двое пермяков и один чуваш из-под Чебоксар. После завтрака пермяки и чуваш отправились в баню, а кухарка возилась у плиты, варя им на троих обед, – сейчас она сварит и тоже уйдет на целую неделю. И это было отчего-то так горько Степану, будто кухарка была ему родной матерью.
– А ты чего не пошел в баню? – спросила кухарка. – Такой большой праздник нельзя встречать грязным.
– Мне не в чем идти, – ответил Степан.
– Как не в чем? А на работу ходить было в чем?
– Ходил, а теперь сапоги совсем развалились...
Кухарка с красным от жара плиты лицом подошла к нарам, на которых лежал Степан. Она поглядела на него и покачала головой: такой он был худой и бледный. И так он ласково смотрел на нее...
Она достала из-под нар сапоги.
– Чего же ты, бестолковый, не сказал мне раньше? – вдруг напустилась она на Степана. – Куда они теперь годятся? Да их теперь никакой сапожник чинить не возьмется!..
– Я тоже так думаю... – сказал Степан спокойно, как будто речь шла не о его обувке.
– Мне кажется, парень, что ты вряд ли умеешь думать. Если бы ты хоть маленько что-нибудь соображал, в таких сапогах не стал бы ходить – лучше ходить босиком... – И, подумав минуту, она вдруг решительно заявила: – Ладно, заберу их с собой, покажу мужу, может, что-нибудь сделает из них, а тебе, парень, придется всю пасху проваляться здесь.
Чему Степан удивился больше, он и сам не знал: решению ли забрать у него на всю неделю сапоги или тому, что у кухарки есть муж?..
– А где он у тебя, муж-то?.. – спросил он, приподнимаясь на нарах.
– Знамо где – дома, – ответила она. – Где же ему быть?
От нее не ускользнуло удивление Степана, но она ни чуть не осерчала.
– А ты думал, пустая башка, у меня нет мужа? – проворчала она совсем так, как, бывало, ворчала на него и мать. – У каждой здоровой женщины есть муж и дети, – рассудительно сказала она, и видно было, что она довольна своими словами. – А уж этим меня бог не обидел, слава ему. Хватает нам с мужем моего здоровья. Ну ладно, – оборвала она себя, – лежи, стало быть, сапоги я возьму твои...
Кухарка не приходила всю пасхальную неделю. Да и не было Степану нужды в сапогах – всю неделю он чувствовал себя больным: тихо и постоянно болела голова, ломило ноги, и он то забывался и видел во сне Баевку, отца и мать, то вдруг ясно раздавался голос Колонина. А очнувшись, опять слышал пьяное бормотанье пермяка.
Так прошла неделя, и вот уже все мужики опять собрались в барак, а в понедельник пошли на работу. Кухарка же все еще не несла сапоги. Но не это беспокоило и огорчало Степана – ведь ему велено было приходить к иконописцу после пасхи!..
Наконец кухарка явилась. Она бросила сапоги прямо Степану на нары и с досадой сказала:
– В грех ввел ты моего мужика, всю пасху работал. Теперь молись за него, чтобы бог простил ему этот грех!..
Сапоги, конечно, было не узнать. Одни голенища напоминали только недавнюю Степанову обувку.
Он боялся поднять глаза на довольную произведенным впечатлением кухарку.
Надо благодарить, надо сказать спасибо, а Степан даже не знает имени этой женщины...
Он пробормотал:
– Хватит ли моего заработка, чтобы расплатиться с твоим мужем?..
– Работаешь, не бездельничаешь, понемногу заплатишь, – ответила кухарка.
Степан, не долго мешкая, стал собираться в город. Он надел чистую рубашку, причесал волосы. Но за всем этим делом у него не шло из головы, что он плохо поблагодарил кухарку, что не знает ее имени и вот она может осердиться. Наконец он не выдержал и спросил, как ее звать.
Они были в бараке одни. Весело трещали дрова в печи, бурлила вода в чугуне... Кухарка улыбнулась широким раскрасневшимся лицом.
– Зачем тебе мое имя?.. Все меня называют кухаркой, так называй и ты. – И вдруг опять напустилась на него. – Почему не пошел на работу? Куда это ты вырядился?..
Степан молчал. Он с каким-то безотчетным восторгом глядел на квадратную и коренастую фигуру кухарки, на ее широкое лицо с косым разрезом глаз... И удивлялся, как это он не видел раньше, как она прекрасна!..
– Чего пялишь глаза? – басовито сказала она.
– Так... – Степан быстро отвернулся.
– Коли у тебя нету дела, иди-ко принеси воды.
Степан принес два ведра воды, поставил их на скамью у двери.
Солнце уже взошло. Золотистые лучи наполнили большую комнату, рассеяв сумрак и озолотив убогие нары с соломенными тюфяками. Солнце сверкающим потоком облило с ног до головы и фигуру кухарки. И вдруг так ясно, так отчетливо она увиделась Степану нарисованной на полотне!..
– Чего, говорю, не пошел на работу? – опять спросила она, уловив на себе его пристальный взгляд.
– Я больше не буду ходить на работу в депо, – сказал Степан. – Сейчас пойду в город поступать иконописцем.
– Ой, какой же из тебя иконописец?! – удивилась кухарка.
– Самый настоящий! – ответил он и добавил: – Один хозяин обещал меня взять, пойду к нему.
– Рядом с нами тоже живет иконописец. Чай, не к нему идешь? Прозвание его Ковалинский, звать Петр Андреич. Я к ним хожу стирать...
– На какой улице проживает этот Ковалинский? – спросил Степан.
– Говорю же тебе, что на нашей, почти рядом.
– Откуда я знаю, где вы живете.
– Ой, правда ведь, ты не знаешь, – засмеялась кухарка. – На Покровской живем. Знаешь эту улицу?..
– Это не тот, – сказал Степан.
Он подождал еще немного, чтобы было не так рано, и отправился. Но ему опять не повезло. Хозяину небольшой иконописной мастерской требовалось двое учеников, и он вчера их взял. Почему же Степан не пришел вчера?.
– Явился бы ты в понедельник, малый, и взял бы, – сказал он. – А теперь уж извиняй!.. – И Степану показалось, что старичок иконописец с завистью покосился на его сапоги. Это его несколько утешило, и он по пути в барак сделал крюк на Покровскую, где, как говорила кухарка, проживает иконописец. И правда – «Иконописная мастерская П. А. Ковалинского» – красовалось на козырьке широкого крыльца. И дом был большой, в два этажа, с большими светлыми окнами. Нет, Степан еще не живал в таких домах, и, пройдя раз-другой мимо, он таки не посмел взойти на крыльцо. Лучше будет, если он явится сюда вместе с кухаркой, коли та их знает... И, решив так, он с легким сердцем вернулся в барак.
Утром кухарка спросила, правда ли, что Степан умеет писать иконы?
– А то приведу тебя, а ты, может, не знаешь с какого конца взяться за мазилку.
– Да не мазилка, – сказал Степан, улыбаясь, вспомнив, что он и сам так называл. – Кисть!
– Все одно, как ни называй.
– Не беспокойся, не обманываю, – проговорил Степан.
Он выбрал из кучи приготовленных обрезков гладкую дощечку, достал из поддувала мягкий уголек и принялся чертить, время от времени поглядывая на кухарку. Он нарисовал лицо, широкий нос, узкие глаза, сбившийся на сторону платок. Вокруг ее головы начертил нимб, какие делаются на иконах.
– Вот, – сказал он, – новая святая.
– Ой, Степан, удивил ты меня! – воскликнула со смущением кухарка. – Не знаю, похожа или нет, но на икону, ей-богу, похоже.
– Ты разве себя никогда не видела в зеркале?
– В зеркало мне смотреться некогда. В зеркало смотрятся красивые женщины, – проговорила кухарка. – Ну, так помоги мне, скорее управимся и пойдем к Ковалинскому. Сегодня я у них как раз стираю.
Степан сел чистить картошку. Кухарка поставила на плиту закопченный котел, налила в него воды и затопила плиту. И к десяти часам они успели сварить обед и ужин для артели. Чтобы приварок не остыл, кухарка накрыла котел сверху чьим-то пиджаком. Потом она подмела в бараке, вымыла стол, и они отправились.
Пока шли по улицам и проулкам, кухарка разговорилась и рассказала Степану, какая у нее семья и как тяжело дается кусок хлеба. Оказывается, у нее было четверо детей. Вот ей и приходится везде искать работу: стирать, мыть полы, убирать.
– Не знаю, когда и сплю, – призналась она с тяжелым вздохом.
– А муж тебе разве не помогает? – спросил Степан.
Кухарка махнула рукой:
– От него толку мало... Он у меня запойный... – И замолчала.
Так дошли до Покровской улицы. Кухарка сказала:
– Тебе, парень, придется на время зайти к нам. К Ковалинским сначала я пойду одна, поговорю о тебе, а после позову.
– Ты так и не сказала мне, как тебя зовут. Не хочу я называть тебя кухаркой.
– Эка, далось тебе мое имя! Никто меня не называет по имени, один ты нашелся, требуешь имя. Ну, называй меня тетя Груня...
5
Тетя Груня со своим мужем и четырьмя детьми жила в небольшой комнате полуподвального этажа. Комната освещалась двумя квадратными окнами, нижние половины которых смотрели в ямы. Стекла окон со стороны улицы были забрызганы грязью. У одного из окон за низеньким сапожным столом сидел мужчина лет сорока пяти, с короткой курчавой бородкой. На столе и кругом на полу были навалены поношенные сапоги, штиблеты, женские коты. Двое мальчиков-погодков свивали дратву, привязав один конец к дверной ручке. Девочка лет восьми в длинном сарафане до пят хозяйничала у печки – тыкала кривым шилом в чугун варившейся картошки. Самый маленький сидел в деревянной кроватке, играя сапожными колодками. Завидя мать, потянулся грязными ручонками ей навстречу.
Братья, сучившие дратву, оставили свое дело и с любопытством оглядывали незнакомого парня. Голос отца снова вернул их к делу:
– Чего рты разинули, не видите, дратва у вас запуталась?
Мальчики принялись распутывать ее.
Тетя Груня, взяв на руки малыша, прошла вперед и ногой подтолкнула Степану табуретку.
– Вот ему ты сделал сапоги, – сказала она мужу.
– Вижу, на ногах они у него.
– Хочет наняться к Ковалинским писать иконы.
– Ну что ж, хорошее дело.
– Пойду схожу, поговорю с ним.
Когда она выходила в дверь, дратва снова запуталась. Мальчики повздорили между собой, обвиняя в этом друг друга.
– А ну тише вы там! – прикрикнул на них отец. – Я вот вам обоим накостыляю, тогда скорее кончите и освободите дверь.
Степан лишь сейчас заметил, что под столом у сапожника всего одна нога. А рядом к стене прислонены костыли.
Хозяин оторвал на цигарку клочок бумажки.
– Сверни и ты, – сказал он Степану.
– Я не курю, – ответил Степан.
– Когда к богатому человеку приходит гость, он ставит перед ним графин вина. А наш брат всегда угощает только табачком... Табак все же дешевле водки, его может купить каждый. – Он крикнул девочке: – Анка, неси уголек!
Девочка, путаясь в длинном сарафане, принесла в обгоревшей железной ложке горящий уголь. Пока отец прикуривал цигарку, взяв из ее рук ложку, она исподлобья украдкой наблюдала за Степаном. Сарафан и не по плечам просторная кофта (чей-то, должно быть, подарок) делали ее взрослее своих лет – она походила на маленькую женщину. В ушных мочках тускло поблескивали красноватые колечки, согнутые из тонкой медной проволоки.
– Знать, не нравится тебе работать на железной дороге? – спросил сапожник. – Мало платят?
– И много платили бы, все равно не остался бы там.
– Тяжелая работа?
– Нет, – сказал Степан. – Я рисовать хочу.
Муж тети Груни выпустил из густой бороды струю дыма.
– Рисовать – это хорошо. – И он усмехнулся. – Легкая работенка...
Степан насупился и замолчал. Сапожник бросил цигарку к печке и, сердито сдвинув брови, принялся за свою работу. «Чего он осердился?» – подумал Степан. Но тут пришла тетя Груня.
– Давай, говорит, посмотрим на твоего живописца, может, мне и понравится, – рассказывала она дорогой. – Хорошо мы угадали с тобой – добрый нынче хозяин. Да он и вообще добрый...
У Степана от волнения на ходу заплетались ноги. Он шел как во сне. Все ближе и ближе была красивая надпись над крыльцом «Иконописная мастерская...» Она плыла на Степана неотвратимо и грозно. «Посмотрим!..» Сейчас случится то, ради чего он и живет. А если Ковалинский скажет «нет», тогда жизнь кончится...
С бешено колотящимся сердцем шел куда-то Степан за тетей Груней. Какая-то лестница, какие-то двери... Вдруг резко и сладко запахло скипидаром, краской, маслом. У Степана закружилась голова.
– Вот он, – говорит кому-то тетя Груня.
Степан поднимает голову. Посреди комнаты стоит, скрестив на груди руки, высокий мужчина в темной тройке, с аккуратной бородкой. Он молча смотрит на Степана, и у Степана останавливается сердце. Сейчас он рухнет на пол.
– Чего писал? – раздается вдруг приятный голос. Голос, в котором нет ни злости, ни гнева, ни усталости.
– И... иконы... Голос Степана дрожал, как струна, готовая лопнуть.
Человек улыбался.
– И много писал икон?
– Не знаю.
– Как работал, один или у какого-нибудь мастера? У мастера?..
Степан растерялся. Правда, где он писал иконы? – он как-то все забыл в один миг. А у Тылюдина и Иванцова он разве писал иконы? Вот если только помогал Колонину...
Но Ковалинский ждал ответа, и Степан, опустив голову, пробормотал:
– Один...
Он сразу понял, что этим ответом испортил все. По бледноватому лицу Ковалинского пробежала еле заметная тень разочарования. Его тонкие губы сложились в недоверчивую улыбку.
– Как я понимаю, ты ищешь место ученика у живописца? Так ведь?
– Так... – прошептал Степан.
Ковалинский, наклонив голову, заходил взад-вперед по мастерской. Казалось, он разочарован и сейчас скажет, что Степан ему не нужен. И дрожащим голосом Степан сказал:
– Я могу рисовать...
Ковалинский даже не посмотрел на него. Походив, он вдруг взял с длинного стола доску для иконы и сказал:
– Ну хорошо. Вот тебе доска, как ты начнешь писать?
– Сначала надо сделать левкас, потом уж писать, – с неожиданной смелостью ответил Степан.
– Левкасить умеешь?
– Умею!
Тонкие губы Ковалинского сложились в еле заметную улыбку. Он поставил доску на место и сказал:
– У меня уже живет один паренек твоих примерно лет. Двух учеников держать я не могу, и со временем мне придется сделать выбор. Так что пока я тебя беру, но обещать многого не могу. – И Ковалинский в первый раз улыбнулся по-настоящему. – Спать будешь здесь, в мастерской, есть – на кухне, – сказал он. – А звать меня – Петр Андреевич.
– Я уже знаю! – нетерпеливо проговорил Степан. Внутри у него все кипело от нахлынувшей радости, и было такое ощущение, словно он парит в воздухе.
– А, Груня! Она тебя так расхваливала и так просила за тебя, что я не мог устоять.
Дверь за спиной Степана скрипнула, и Петр Андреевич сказал:
– А вот тебе и товарищ!
Степан оглянулся.
В мастерскую вошел невысокий, тонкий и чернявый, как цыган, парень в красной рубахе, в начищенных сапогах. В его повадке, в его пренебрежительном взгляде, которым он окинул Степана, чувствовался хозяин.
– Ну вот, знакомьтесь, – сказал весело Петр Андреевич. – А чтобы не скучали ваши руки, сделайте левкас. – И выбрал из груды заготовок две доски. – Это тебе, Яков, а это тебе, Степан.
Ковалинский ушел.
– А, черт! – заругался вдруг Яшка и бросил свою доску. – Я хотело смотаться в город, а тут теперь возись!.. – И так он долго ругался с какой-то нарочитой храбростью – должно быть, просто форсил перед новым учеником своим положением. Но Степан не обращал внимания на Яшкины хитрости. Он осмотрел доску. Доска была выстругана грубо. Он бы сам выстругал лучше. Теперь придется рябинки сгладить при левкасе.
– Чего смотришь? Не нравится? – напустился вдруг Яшка на Степана. – Или не знаешь, с какого конца начинать?
– Знаю, – спокойно сказал Степан. – Плохо выстругана доска, вот и смотрю.
– Ну вот еще, плохо! Прекрасно выстругана!
Степан не стал спорить. Он спросил, где мел и где сито, чтобы просеять мел.
– Для чего просеивать мел, он и без того просеян... – поворчал Яшка, однако подал сито, а потом все посматривал, как и что делает Степан.
Клей топили в кухне на плите в двух жестяных банках. Здесь же рядом кухарка Фрося варила обед, и Яшка то и дело цапал Фросю за толстый бок. Фрося молча и блаженно улыбалась. Было видно, что ей не впервые Яшкины приставания.
Клей в Яшкиной банке закипел и вылился через край на раскаленную плиту. В кухне поднялся невообразимый чад. В это время зашла хозяйка – Варвара Степановна.
– Что у вас тут происходит?! – звонко вскрикнула она. – Фрося, сейчас же открой окна и двери!
Фрося, видно, не привыкла быть поспешной. Ходила она лениво, вразвалку, переваливаясь, как утка. Яшка, конечно, сделал вид, что он тут ни при чем, и сосредоточенно мешал в банке клей палочкой, хотя клей уже давно пора было снимать. Но Степан молчал – откуда он знает, как у этого Ковалинского заведено готовить массу для левкаса... Он почувствовал на себе пристальный взгляд хозяйки, но в это время клей в банке стал подниматься и пузыриться, и Степан не взглянул на хозяйку. Потом уж, когда он пошел с банкой в мастерскую, он увидел ее: лицо чистое, белое, большие серые глаза, волосы зачесаны гладко и собраны на затылке в большой узел. Она показалась Степану настоящей барыней – таких женщин он вблизи не видал.
В мастерской Степан и Яшка молча занимались своим делом. Яшка, видно, был сердит на Степана и ждал момента, чтобы поймать новенького на ошибке, однако Степан быстро сделал левкас и поставил доску сушиться подальше от окна, чтобы солнце не падало и не испортило. У Яшки левкасная масса и правда подгорела и была коричневатой.
Степан вышел на крыльцо. День был ясный и теплый, и солнце тысячами зеленых блесток сверкало в прозрачных тополях – почки уже лопнули, листочки тронулись в рост. А трава возле тротуаров уже густо зеленела, и кое-где у заборов сверкали первые желтые цветочки. Весна!.. А Степан и не чаял в эту трудную зиму дождаться весны, тепла, солнца... И вот теперь и зима, и барак, и мастерские, в которых негде было спрятаться от сквозняков и холода, – теперь все это показалось жутким, страшным сном. Как-то у него пойдет дальше жизнь?.. Впрочем, об этом подумалось легко, беспечально – словно только в ответ на вчерашнее отчаяние, которое сегодня вызывало улыбку. Теперь все будет зависеть от него одного, а в Яшке он не чувствовал серьезного соперника...
Яшка оказался легкий на помин – он вышел на крыльцо, сел рядом со Степаном и, далеко сплюнув сквозь редкие зубы, спросил:
– Издалека тебя прибило в Казань? Не вздумай врать, я сразу догадался, что ты парень нездешний. Ты кто – чуваш?
– Я – эрзянин! – сказал Степан.
– Эрзянин? Подох бы сегодня утром и никогда не узнал бы, что на свете живут какие-то эрзяне. А где ихняя земля?
– По реке Суре. Слышал такую реку?
– Ей богу, никогда не слышал. Знаю русских, татар, чувашей. И про цыган знаю. Про эрзян не знаю.
– Ну вот, будешь знать, – сказал Степан.– А ты сам, случаем, не цыган?
Яшка расхохотался.
– Кто знает, может, и из цыган. Мать у меня русская, а отца не знаю, не помню, никогда его не видел. Да мне все едино! – И Яшка опять ловко цыкнул сквозь зубы и тряхнул черной кудрявой головой. Под плоским и широким носом у него уже обозначились темные усы, а губы были толстые и красные, как у девушки.
– Ты не печалься, я тебя всему научу, – сказал Яшка. – Я вижу, что впервые у хозяина, у тебя еще нет ни к чему догадки, а я уж знаешь сколько их прошел?! Со мной, брат, не пропадешь...
Степан молчал, сдерживая улыбку.
Но не мог молчать Яшка.
– Пойдем после обеда на Волгу! Она, говорят, разлилась до самого города.
– А чего там увидим? Вода – она везде вода.
– Весь город ходит смотреть разлив, а ты – везде вода! – И Яшка презрительно сплюнул.
– Ну и пусть ходят, кому нечего делать...
Признаться, Степан в эту минуту ни о чем другом не думал, как только о рисовании. Вот просохнет заготовка, и он попросит хозяина самостоятельно написать что-нибудь. Ведь разрешил же он сделать левкас... Как Степан соскучился по рисованию!.. Целую зиму не пришлось ни разу взять в руки кисть. Рисовал он только мысленно да во сне. И вот наконец он снова может взять кисти! Скорей бы ушел Яшка смотреть эти разливы!..
С верхнего этажа по лестнице вприпрыжку сбежала девочка лет пятнадцати. Она, видно, не ожидала увидеть на крыльце парней и остановилась на минутку, с любопытством поглядела на Степана, на его длинные немытые космы. А Яшка вскочил, заулыбался. Девочка, однако, фыркнула, сбежала с крыльца и быстро, перекинув косу за спину, зашагала по деревянному тротуару. Наверное, она чувствовала, что ребята наблюдают за ней.
Яшка сплюнул и сказал:
– Анюся, хозяйская дочь! Хороша?
Степан пожал плечами.
– А ноги-то, а? Видал? Толстые, не хуже маминых.
– У Фроси куда толще, – сказал Степан с досадой на Яшку, на его беспрестанное цыканье.
– Фрося – другой фрукт. Она бестолковая. – Яшка опять сплюнул и заговорил, посмеиваясь: – Откровенно говоря, глупая куда покладистее, чем умная...
Степан промолчал, потом поднялся и пошел в мастерскую. Покрытые левкасом доски понемногу подсыхали. Яшкина была почти уже сухая. Он, видимо, мало положил масла, а клея больше, чем надо...
Степан принялся рассматривать кисти. Их было очень много, и самых разных. Столько кистей не было даже у Колонина, не говоря уже о Тылюдине и Иванцове.
Теперь он был один в мастерской и мог все подробно рассмотреть: кисти, палитру, сохнущие по стенам иконы... Он подошел к мольберту: чистый, приготовленный для работы, загрунтованный холст. И отчего-то вдруг у Степана перебилось дыхание – он стоял и не мог оторвать глаз от чистого полотна.
Стукнула дверь, послышались быстрые шаги. Это был Петр Андреевич.
– А, ты здесь! – сказал он, точно не ожидал увидеть в мастерской Степана.
Степан, сам не зная почему, смутился и отошел от мольберта. «Сейчас спрошу – можно ли порисовать», – подумалось ему, однако Петр Андреевич, поискав что-то на широком подоконнике в стопке бумаг и журналов, так же быстро ушел из мастерской, и Степан опять остался один.
Теперь он внимательней рассмотрел иконы, висевшие на стенах и стоявшие на полу возле стен – все это были одни почти казанские святые, которых рисовали и прежние учителя Степана, но тут письмо было потоньше, в тонах было больше мягкости, в выражениях ликов проглядывало что-то живое, и все это еще больше взволновало Степана, рисовать уже тянуло так нестерпимо, что он не мог противиться. На палитре были островки свежей зеленой краски – должно быть, Петр Андреевич собирался писать, потому что на столе возле окна лежала начатая икона архангела с намеченными контурами всей фигуры, крыльев, плаща, с рукой, держащей на плече тонкий прутик разящей нечистую силу шпаги. В теплом коричневом тоне были написаны крылья, золотисто желтел нимб, переходя в живой телесный цвет лица, и почему Степан решил, что плащ должен быть светло-зеленый, он и сам не знал, но только когда тронул его зеленой краской, которая уже была на палитре, цвет не разбил всего намеченного единства, которое Степан ощущал всем своим существом. И это придало смелость руке, а все страхи и опасения вмиг отлетели, и Степан писал, забыв обо всем на свете.
Внезапный испуганный крик Яшки:
– Чего ты делаешь?! – вернул его к действительности. В самом деле, что это он наделал?! Теперь хозяин выгонит его на улицу и придется опять плестись в барак, с которым он так поспешил проститься в душе своей...
– Ты не говори, Яша, – пробормотал Степан.
– А чего не говорить, сам увидит! Как войдет, сразу увидит. – Яшка торжествовал. Он опять почувствовал себя хозяином положения.
Что было делать? Степан чуть не плакал от горя. А Яшка допекал его рассказами, как бывает строг Петр Андреевич, когда что-нибудь посмеют сделать без его ведома.
Тут послышались быстрые шаги хозяина. Яшка прошептал:
– Теперь держись! – И принялся перекладывать на полу доски.
Вошел Ковалинский. Он удивленно взглянул на Степана, однако быстро прошел по мастерской и остановился перед поставленными сушиться налевкасенными заготовками. Он пальцем потрогал ту и другую доску.
– Яков, – сказал он, – это твоя работа?
– Моя, Петр Андреевич! – весело сказал Яшка. – Как же вы узнали?
Улыбнулся и Ковалинский.
– По делам рук твоих.
Он подозвал к себе Степана и спросил:
– Скажи, почему Яшкин левкас получился темный и уже успел просохнуть?
– Много положено клея. К тому же клей подгорел, – сказал Степан.
– Слыхал, Яшка, что говорит твой товарищ?
Ковалинский взглянул в лицо Степана, затем скользнул глазами по столу, где лежала икона архангела в зеленом плаще, и вышел из мастерской. Он, должно быть, откуда-то пришел и теперь торопился к обеду. Вскоре в коридоре послышался голос Варвары Сергеевны: «Фрося, неси обед!»
Яшка понуро молчал. «Видел Петр Андреевич или не видел?» – думал Степан.
В кухне, когда сели за обеденный стол, Яшка сказал, что он не ожидал такого подвоха от Степана.
– Какого подвоха? – не понял Степан.
– А чего ты молчал насчет подгоревшего клея, когда мы левкасили?
– Откуда я знал, как ты делаешь, – сказал Степан. – Я думал, может, так надо...
– «Думал», – передразнил Яшка. – Другой раз поменьше думай!
После обеда Яшка, как и говорил, отправился смотреть на разлив Волги, и Степан опять остался один в мастерской. «Видел Петр Андреевич или не видел?» – мучился Степан вопросом, опять разглядывая архангела. Но зеленый плащ не выделялся ни по письму, ни по веселой палитре, так что хозяин мог и не заметить. Решив так, Степан дописал и плащ, и ноги и тонкой кисточкой вывел шпагу на плече. Незаметно прошло время до вечера, а поскольку Яшки все не было, он лег на его постель, которая была устроена на широком сундуке, и уснул – легко, мгновенно, будто провалился в яму.
6
Во дворе были протянуты веревки, и Фрося развешивала на досушку снятое на ночь белье. Белые огромные простыни лениво надувались легким утренним ветерком, и Степану они казались парусами, под которыми тихо и плавно скользит корабль, на котором он плывет, и тетя Груня, и Фрося, и Варвара Сергеевна... Отчего он других обитателей дома не зачислил в команду этого корабля, Степан и сам не знал – он не подумал ни о Петре Андреевиче, ни о их дочери Анюсе, ни о Яшке, который, только что проснувшись, рассказывал про вчерашний вечер, про толпы народа, про то, как он встретил знакомого – приказчика из москательной лавки купца Столярова.
Но Степану это было неинтересно, и он смотрел, как Фрося все прибавляет и прибавляет огромных парусов, и они вздуваются пузырями под ветром...
– ...А жизнь у этих иконописцев нудная, – рассуждал на сундуке Яшка. – Подохнешь от тоски. За целый день, если никуда не пошлют, живого лица человеческого не увидишь – одни эти пучеглазые лики. Чего в них хорошего?.. А этот вонючий скипидар – я насквозь провонял, до самых костей...
Фрося развесила по веревкам белье, взяла корзину и пошла в дом,– скоро шаги ее послышатся в кухне. Степан оторвал взгляд от огромных белоснежных простынь на веревке и продолжал скребком чистить палитру – краски насохло на ней в несколько слоев.
– Наняться бы к купцу, черт подери, – сказал Яшка, – вот у кого жизнь веселая!.. Приказчик всегда при деньге, всегда на людях, эх!..
– Чего же не наймешься, – сказал Степан, – иди и наймись.
– Наймись! Легко сказать – наймись. В купцу надо с рекомендацией идти, чтобы о тебе слово замолвили, у него, брат, не это дерьмо, что тут, у него – товар, деньги!..
Степан улыбнулся.
– Ну, чего лыбишься? Разве не дело я говорю? Я, брат, свет повидал, знаю.
Степан пожал плечами. Конечно, свет большой, и всего в нем есть, однако Степану ничего не надо, кроме возможности возиться с живописными принадлежностями, чтобы приготовить их к работе, к рисованию. Но он ничего не сказал Яшке.
– Вот увезет тебя хозяин на все лето куда-нибудь в деревню, тогда узнаешь!
– Зачем? – испугался Степан. Неужели у Ковалинского есть крестьянское хозяйство и он повезет их с Яшкой на работу? Степан даже переменился в лице.
– «Зачем»! – по обыкновению передразнил Яшка. – Да церкви расписывать, вот зачем!
У Степана отлегло с души. Он улыбнулся.
– Ну, это хорошо.
– Да чего хорошего? Дурачок ты, вот что я тебе, братец, скажу.
Степан промолчал. Он не обижался на Яшку. Да и зачем обижаться, если Яшка не хочет быть художником? Нет, он не обижается – бог с ним. Степан маленькой лопаточкой стал выскребать из баночек краску на палитру.








