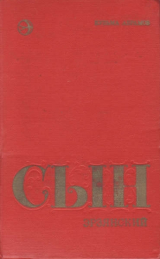
Текст книги "Сын эрзянский. Книга вторая"
Автор книги: Кузьма Абрамов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц)
Потом Степана кормят самого. Теща наливает в тарелку вчерашних щей и отрезает тонкий ломоть хлеба. И так бы все ничего было, да уж больно много она ворчит.
– Только и знаешь, что жрешь, а пользы никакой, за водой по часу ходишь.
Но Степан вроде бы и не слышит.
После завтрака, если его не посылают за чем-нибудь в лавку, Степан поскорей идет в заднюю комнату, где у хозяина мастерская. Здесь, правда, запах красок и масла перебивает запах птичьего помета, потому что везде – и по стенам, и на подоконниках – клетки с птичками. И стоит какой-нибудь хрипло засвистеть, как Иванцов тотчас бросает кисть, подходит к клетке, стоит, слушает, и блаженная улыбка все шире расходится по его рябому лицу. Он почесывает за ухом у себя и шепчет:
– Ах ты, демон, раздуй тебя горой!..
Рисует он мало, да и все одно и то же: Николу и Казанскую Богоматерь с младенцем Иисусом. У Казанской выпученные глаза, толстые щеки, и такое выражение, будто она что-то жует украдкой, а младенец, как-то странно прилепившийся к ней с боку, с толстым, как у Михала Назарова, лицом, как будто собирается плюнуть. Но удивительно Степану то, что не успеет еще икона просохнуть, как за ней приезжают заказчики. В основном это крестьяне из дальних деревень. И расплачиваются они с Иванцовым картошкой, зерном, шерстью. Степана разбирает смех, когда он видит, с каким благоговением принимают ражие, могучие мужики Казанскую, косятся на ее сердитый лик, как осторожно заворачивают в женин теплый платок, – чтобы, видно, не озябла в дороге. Впрочем, Степан знает, что в той избе, куда она приедет, вскоре закоптится, почернеет, толстые щеки потускнеют, сравняются в фоном, и будут видны только выпученные глаза с большими белками, отчего взгляд их сделается еще грознее...
В хорошем настроении Иванцов любит поговорить об алатырских иконописцах.
– Возьмем к примеру твоего Тылюдина, – начинает он, расхаживая в больших подшитых валенках возле клеток с птицами. – Ну какой он художник! Он и пишет-то одним глазом, и все у него святые выходят кривые. Ну, разве бывают святые кривыми? Ну скажи, ты видел кривых святых?
Сначала Степан думал, что это он у него спрашивает, и отрицательно мотал головой, но оказалось, что он спрашивает у какого-нибудь нахохлившегося в клетке щегла. И если щегол прохрипит в ответ, Иванцов смеется и говорит:
– Твоя правда, раздуй тебя горой!
– А возьмем господина Вижайкина, – начинает он, переходя к другой клетке. – Чтобы быть живописцем, мало разукрасить свои ворота да написать «Живописец г. Вижайкин». Надо им быть! Да, надо им быть! – восклицает он с пафосом и даже слегка подпрыгивает в своих подшитых валенках.
И так перебирает он всех, обходя клетки, пока вдруг не натыкается на Степана.
– Так-с, – говорит он, снова чем-то озадаченный, – а ты что тут делаешь? – как будто не видит, что Степан левкасит доску. – Угу, левкасишь? Левкас, доложу я тебе, дело весьма ответственное! – И тут он уже впадал в роль важного учителя и говорил, тыча пальцем в потолок: – Надобно хорошо чувствовать, сколько мела, сколько клея взять. Все дело в про-пор-ции!
– В чувстве про-пор-ции! – повторял он, значительно повышая голос. – А это дело от бога, да-с, от бога. Или чувство есть, или его нет, третьего не дано. Так-то-с, уважаемый!..
Правда, приступы красноречия часто перебивались пронзительным криком, летящим из горницы:
– Ираклий, пора гусей кормить!..
– Иду, иду! – отзывался он, но тотчас спохватившись, строго, с сердитым выражением лица говорил Степану:
– Иди-ко, парень, накорми гусей. – И уже с остатками учительского пыла: – Гусь – птица прожорливая, его надобно кормить в день не менее пяти раз, запомни!
Пронзительный командирский голос принадлежал молодой жене Иванцова, женщине красивой, властной и постоянно сердитой. Степан ее видел редко, а она так его и вовсе не замечала. Кроме жены и тещи, у Иванцова было еще две дочери пяти и семи лет. И вот когда семейство отправлялось в церковь или в гости, Степана оставляли с ними вместо няньки. Обычно девочки сидят в передней горнице, замкнув дверь на крючок со своей стороны, а Степан должен быть постоянно в кухне и караулить эту запертую дверь. Степан очень рад такому поручению – он идет в мастерскую, берет кисточку и при свете лампы начинает рисовать. Он уже знает, как надо рисовать. Надо тонко отточенным угольным карандашом сделать контур, прорисовать линию глаз, лица, а потом начинать писать краской. Но керосиновая лампа светит плохо, краски теряются, коричневая делается очень похожа на синюю, синяя – на красную, а тон сделать вообще нет возможности, поэтому лик Николы получается каким-то угрюмым, тяжелым и вовсе не похож ни на какую икону. Так что не жалко доску расколоть и бросить подальше в печку – завтра сгорит. Однажды, перед пасхой уже, за один такой раз Степан успел перерисовать на тонкую фанерку картину из журнала. Эту картину художника Маковского он давно приглядел в журнале, который валялся в мастерской. Там была нарисована ночь, и все было как настоящее, как живое: низкая луна, заросший травой пруд, едва видная темная даль широкого поля... От картины веяло тишиной, покоем, и Степану как-то не верилось, что перед ним обыкновенный листок бумаги. Он перевернул страницу, но там была чистая глянцевая бумага. Вот эту картину он и стал переносить на фанерку. И так увлекся, что не сразу услышал, как барабанят изо всей силы в дверь. Он бросил фанерку в печку и побежал отворить. Но, конечно, Иванцов догадался.
– Ты опять тут лазишь, мордовское охвостье! – закричал он и затопал ногами. – Выгоню-у!..
Но, побушевав досыта, он отмяк, а на другой день уже и не вспоминал. Должно быть, он был добрый человек, и если бы его не шпыняла молодая жена, Иванцов целыми бы днями слушал распевшихся к весне птичек и говорил с ними о том, какие все мерзавцы художники в Алатыре.
– Ах, Алатырь, Алатырь! – воскликнул он однажды так грустно, что Степан от изумления поднял голову. – Чем ты прогневил господа, если у тебя такие изуграфы? Одна светлая голова завелась среди этих мерзавцев, да и та погибает!..
Степан подумал, что это он про себя так сказал, но Иванцов подошел к клетке с чижом и нежно пропел, вытягивая губы:
– Ну что, дурачок, и тебе жалко Колонина?.. То-то, демон, раздуй тебя горой. Ну, тю-тю-тю! Чего молчишь?..
– А почему он погибает? – спросил Степан.
– Что погибает? Кто погибает? – вскинулся Иванцов, точно очнувшись от бреда.
– А вот ты сказал – Колонин.
– А, этот... Ну так туда ему и дорога! Такой же, впрочем, маляр, как и все они.
Но с этой минуты имя Колонина не шло у Степана из мыслей. «Светлая голова... Погибает...» Была в этих словах какая-то тайна, которую не мог постичь Степан, но которая и манила его, как огонек среди ночи...
Отзвенела светлая пасхальная неделя стройным перезвоном колоколов всех девяти алатырских церквей. Дни стояли ясные, теплые, быстро поднималась изумрудная травка, затягивая дворы и дороги мелким ковром. В высоких березах уже ткался зеленый туман, и птицы несмолкаемо пели с зари до зари. Сура и река Алатырь разлились, точно море, заполнив водой всю низину под городом, и городская возвышенность, вся белая от цветущих садов, подобно полуострову вдавалась в это море.
Степан надеялся, что весна освободит его от многих хозяйственных обязанностей – гуси выйдут на волю, поросята переберутся во двор и не будут визжать по утрам над самым ухом. Прибавится и времени для рисования. Однако он ошибся. Весна принесла с собой забот еще больше. Иванцов совсем перестал заходить в мастерскую. Сначала всей семьей копались на огороде, делали грядки, садили, сеяли. Кроме этого, Степану надо было следить за гусями: пять гусынь сидели на яйцах, и теперь по двору ползало множество гусят. А тут еще добавились цыплята. И за ними смотри. Степан совсем замучился вытаскивать их из каждой щели. О рисовании тут и думать нечего. Хозяин говорит, что рисовать будут зимой, а сейчас надо жить, наслаждаться праздником. И в честь этого наступившего праздника он всех своих птиц выпустил на волю, а Степана заставил почистить клетки, вымыть и просушить на солнце. Пусть, говорит, их продует свежий ветер, скоро наловим новых певчих птиц. Это «скоро» ожидать долго не пришлось. Как только на деревьях зашумели молодые клейкие листочки, Иванцов достал с чердака свои птицеловные снасти и сказал Степану:
– Завтра встанем пораньше и пойдем в Духову рощу.
Но это «пораныше» оказалось еще до света. Иванцов нагрузил на Степана все снасти, и они пошли. Город еще спал. Ни дворника с метлой, ни прохожего, ни городового. Небо за Сурой на восходе подернулось желто-зеленой радугой. Иванцов шагал быстро, торопливо, и Степан с сетками, обручами и клетками едва за ним поспевал.
Наконец-то и Духова роща.
– Все? – спрашивает Степан, собираясь сбросить ненавистную ношу.
– Пойдем дальше, здесь птица напугана.
Прошли ярмарочную поляну, церковь. Уже сквозь деревья блеснула Сура. Иванцов остановился.
– Здесь, – сдавленным шепотом сказал он, озираясь.
Степан сбросил поклажу.
– Экий ты медведь! – шепотом заругался Иванцов и начал быстро, ловко разбирать снасти. Потом побежал к кустам ставить силки, и опять все у него так и кипело в руках. Установил Иванцов и большой обруч с натянутой сеткой, протянул длинную бечевку к кусту, за которым и лег на траву.
– Иди сюда! – позвал он Степана. – Ложись здесь и лежи смирно.
Степан лег. Трава была холодная, влажная от росы.
– Для чего их ловить? – произнес Степан немного погодя.
– Птиц? – переспросил Иванцов. – Для забавы. Кто чем забавляется. Кто – рыбалкой, охотой, кто – вином, женщинами, хе-хе, а я вот – птичками.
– Тебе забава, а им клетка.
– Ну, клетка – не беда. Зато птичкам не надо заботиться ни о еде, ни о гнезде. Сиди да пой.
Стали ожидать. Время тянулось медленно. Роща понемногу просыпалась. Выглянуло и розовое солнце, брызнуло по стволам и листьям красноватым светом.
– Теперь замри!
Щебет птиц стал громче и разнообразнее. Птицы запорхали между кустов, перелетали с ветки на ветку, выглядывая на листьях гусениц. Однако лукавый корм возле силков и сеток, который приготовил для них Иванцов, они словно не замечали.
– Сейчас слетятся, – шептал он, и бечевка в его руке дрожала.
Он с удовольствием прислушивался к птичьим голосам, время от времени почесывал голову и тихо, блаженно улыбался.
Степан задремал, а когда солнышко пригрело, его сморил сон.
Но и сквозь сон он слышал, как поют птицы, как что-то молитвенно шепчет и вздыхает Иванцов. Наконец он толкнул Степана в бок.
– Чего, попало?
Иванцов сидел на траве, вытянув длинные ноги в сапогах, и чесал за ухом. Вид у него был вполне счастливый.
– Эх, ты, – сказал он, – такие песни продрых! Не будет, видно, из тебя ничего путного!..
– Почему?
– Да раз эка божья благодать на тебя нагоняет сон, чего ждать!.. Гляди и слушай, как мир-то ликует! А, чу! – И, подняв палец, склонил голову набок. – Видал, славочка-то как, а! Раздуй тебя горой!..
– А в силки не попалось, что ли?
– Ничего, завтра попадет. Давай, однако, домой собираться.
Опять Степан нагрузился сетками и клетками, опять шли через весь город, а по улицам уже сновал народ, гремели телеги по булыжным мостовым, по-летнему пекло солнце, а Иванцов торопил – ведь надо было уже гнать гусей к реке.
«Надо уходить от него, – думал Степан, едва поспешая за долговязым хозяином. – Сейчас приду, брошу все, соберу свои вещи и уйду... Сапоги не забыть...»
Но вот пришли на устланный перьями и гусиным пометом двор, и как-то не хватило духу ослушаться – погнал гогочущее стадо к реке. «Вечером уйду...» Но вечером так хотелось есть и спать, что отложил на завтра. Утром же опять тащил сетки и клетки в Духову рощу, шатаясь спросонок и засыпая на ходу...
И каждый день повторялось одно и то же, и желание уйти уже стало притупляться, глохнуть, а только хотелось спать, спать, спать. Но вот однажды вечером, когда пригнал стадо, вытащил вдруг из-под топчана своего сапоги, начал обуваться.
– Ты куда это? – спросила теща. – Садись ешь, налила вот тебе.
– Пойду, – сказал вяло Степан.
– Куда еще – пойду? Никуда не надо ходить. Садись, жри, пока дают.
– Не надо мне, совсем пойду.
– Как – совсем? Кто тебя отпускает?!
– В пастухи я к вам не нанимался.
– Ираклий! Ираклий! – завопила теща, словно ее собирались резать.
Появился в дверях хозяин.
– Гляди, уходит! – не переставала визжать она. – Вот тебе благодарность! Ты поил, кормил, делу учил, и вот как он тебя благодарит!..
– Уходишь? – тихо, угрюмо спросил Иванцов.
– Ухожу.
– К Тылюдину? Ну давай, иди, он тебя научит крыши красить.
Степан промолчал, связывая в узелок свое скудное имущество.
Иванцов отступил с порога. Губы его дергались, лицо как-то странно кривилось – не то от злости, не то от огорчения. Теша опять завопила, что вот какое мордовское охвостье, даже и спасибо не скажет!..
Степан только улыбнулся – это уже его не касалось, пусть себе говорит, что хочет.
– Замолчите, мамаша! – крикнул Иванцов надсадно. – Замолчите! – И затопал ногами, хотя теща испуганно таращилась на него и молчала. – Господи, как вы все ничтожны! – Плюнул себе под ноги и убежал в мастерскую, к новым чижам и дроздам, которые уже прыгали по клеткам.
Степан забрал узелок и пошел прочь.
13
– Ну что, Степан, куда путь держишь? – спросил старик. Он сидел на пороге своей сторожки, и закатное солнце блестело на стеклах очков, сползших на самый кончик носа.
– Ушел от Иванцова, ну его к черту, – сказал в сердцах Степан.
– Совсем ушел?
– Совсем. Пускай сам своих гусей пасет.
– А рисовать-то маленько хоть научил?
Степан пожал плечами. Старик подвинулся на пороге.
– Садись, посиди.
Степан сел, развязал узелок и подал старику картонку, где была нарисована с журнальной репродукции лунная ночь.
Старик откинул голову и долго смотрел на картонку сквозь очки.
– Это чего же, сам нарисовал?
– Сам.
– Ага... Это не наше ли болото?
– Нет, это с настоящей картины срисовано.
– А иконы писал?
– Нет, не давал он иконы писать, ну его к черту.
– Чего это ты расчертыхался? Нехорошо.
– Не везет мне в жизни, дедушка, чего делать...
– А ты господу помолись, скорей повезет.
– Я молился, а все равно толку нет.
– Какой ты скорый. Ты хочешь, чтобы тебе сразу после молитвы боженька и счастье дал?
– А сколько ждать надо?
– Про это Он знает, – сказал старик и поднял палец вверх. – Он, понял?
Вверху, в лучах заходящего солнца ярко и грозно блистали золотые купола собора. Черными стрелками высоко в небе скользили ласточки.
– А вот говорят, – сказал Степан, – на бога надейся, а сам не плошай. Это что значит?
– А это значит, что молись, да и дело не забывай, от дела не бегай, терпи, где прижимает, не ропчи, бога не гневи. А ты вот – убежал!.. Убежал – не сплошал, – добавил вдруг старик и улыбнулся. – Ну, куда мне теперь вести тебя, горе луковое?
– А вот есть такой Колонин, к нему отведи.
– Колонин? Чего-то не слыхал я про такого... А к Вижайкину не хочешь? Наш батюшка Симеон его почитает...
– Нету, не хочу. – Степан повесил голову. Можел быть, он забыл, как назвал этого художника Иванцов?..
– Не хочешь... А Колонина, правда, я чего-то среди наших богомазов не знаю, не слышал. Может, из новых какой...
Наверное, забыл. Но не идти же к Иванцову, да он и не скажет. Видно, одна дорога – к брату Ивану...
– А вот скажи, дедушка, как может человек пропадать?
– Пропадать человек, Степа, может от чего хошь. Много всяких незадач в жизни бывает, вот человек и заботится душой, и все у него из рук падает, и все-то ему не мило. Ну, в ту самую минуту черти-то его и укарауливают и искушают слабого человека, нашептывают на ухо всякие-то соблазны. Человек-то и поддается, как наш праотец Адам, слабый, прости господи, человек...
– Нет, дедушка, как у нас в Алатыре люди пропадают?
– А вот также и пропадают, через бесов. – Старик истово перекрестился на купола, уже потухшие, потемневшие.
– А чего они делают?
– Кто?
– Да бесы-то!
– А чего им делать, ясно чего – в кабаки слабых людей за руки водят, вот чего, а там рядом сидят да хихикают – им ведь любо глядеть, как люди душу свою пропивают, бога забывают.
– Может, и он так?..
– Кто?
– А Колонин... Иванцов сказал, что пропадает, а голова, говорит, светлая.
– Погодь, погодь, парень!.. Чего-то намедни городовой Митрофанов сказывал... Колонин, говоришь?.. Художник?
– Художник... – Степан не сводил горящих глаз со старика.
– Ну, ну, вроде так, так...
– А где его найти, дедушка, я к нему хочу.
– Да найти-то его, если такое дело, не трудно, да только чему ты у него научишься? Шел бы ты лучше в ученики к Михайле Алексеичу – первый у нас в Алатыре сапожник и знакомец мой хороший. Через год-другой и сам бы ты человеком стал у такого-то мастера. А то вздумал куда идти! Какому тебя делу пьяница научить может?
– Если плохо будет, я уйду! – стоял на своем Степан. Старик внимательно поглядел на него, удивляясь странной его настойчивости и какому-то болезненно-упрямому, злому блеску глаз мальчика. Он с осуждением покачал головой.
– А вот про бесов-то я тебе говорил, – сказал он холодно и отодвинулся от Степана, – не боишься бесов-то?
– В черту их!.. – воскликнул Степан. – Пойдем, дедушка, найдем Колонина!..
Но старик еще дальше отодвинулся от Степана.
– Вот что, парень, если хочешь, поди его и ищи по кабакам, а меня в это дело не путай. – И стал быстро креститься, невнятно шепча молитву.
– А где я его найду, скажи?
И, прервав молитву, старик быстро, чуждо сказал:
– А внизу на Симбирской, в кабаке Филиппова, где ему еще быть!..
Улица Симбирская в Алатыре считается главной. Здесь много хороших магазинов, трактиров, откуда сейчас слышится музыка, песни, смех, веселый говор сытых, довольных, богатых людей. Здесь то и дело проезжают коляски на резиновом ходу, а на козлах сидят толстые кучера.
Но чем дальше вниз, тем реже фонари, ниже дома, меньше праздного гуляющего люда. А трактир Филиппова – тот вообще в самом конце улицы, в полуподвале, с забранными решеткой грязными низкими окнами, с визжащей на блоке дверью.
Народу, как разглядел Степан сквозь грязные стекла, было мало – за большими деревянными столами под низким сводчатым потолком угрюмо и тихо сидели какие-то люди с черными, заросшими бородами лицами, в грязных косоворотках с распахнутыми воротами, и Степан догадался, что это «люди с чугунки». Где-то бренчала гитара – грубо и резко, и Степан перешел к другому окну, чтобы увидеть, кто играет. В глубине зала, под сводом, сидел, откинувшись на стену, человек с гитарой, в жилетке, в белой рубашке и как-то тупо и жутко глядел неподвижными большими глазами на пламя керосиновой лампы, висящей на стене. А напротив этого человека сидел, пьяно качаясь на стуле и закрыв глаза, другой – желтое лобастое лицо, светлая реденькая бородка, длинные редкие волосы, – он все качался, будто спал сидя, готовый в любой момент рухнуть на пол. И так Степану сделалось жалко этого человека, что схватился за прутки оконной решетки и шептал: «Не пади, не пади!..» Но человек упал – упал прямо лицом на стол. Полежав так, он стал подниматься, но руки беспомощно скользнули по столу, и он опять упал. А человек с гитарой все так же сидел и дергал струны, глядя на лампу. Подошел половой в грязном белом фартуке – здоровый толстомордый мужик, легко поднял за ворот бедного человека, вытащил из-за стола, легко поволок к двери. Завизжала дверь, и половой вытащил человека на улицу.
– Охладись маленько, – сказал он и посадил человека к стене. Через минуту он вернулся, нахлобучил пьяному на голову картуз.
– Па-корно бла...дарю, – пробормотал человек.
– Посиди, – сказал половой, – может, хозяйка придет за тобой. – И ушел, отряхивая фартук.
Степан тихонько приблизился к пьяному. Какая-то странная смесь из жалости и благоговения перед этим бедным человеком сжимала его сердце. Он опустился перед ним на корточки и робко спросил, словно боясь нарушить сон его:
– Ты Колонин?..
Пьяный дернулся головой, отчего картуз свалился с головы, и сказал:
– Так точно, ваше городовое высочество!
– Я не городовой...
– Да? Тогда пошел к черту! – И он опять безвольно уронил голову. Степан поднял картуз. Он держал картуз так крепко, словно его собирались отнять.
– Где ты живешь, я тебе помогу...
Но пьяный заявил, что пойдет сам. Он и в самом деле стал подниматься, однако ноги подгибались, и он опять съезжал на мостовую. Наконец он утвердился на ногах и отделился от стены, но его понесло, и если бы Степан не ухватил его, он бы упал на булыжную мостовую. Почувствовав твердую Степанову руку, пьяный тотчас смирился, не отталкивал его, а только все поминал черта.
Степан тащил его и улыбался. Как странно – старик-сторож тоже корил его этим словом!..
Кое-как доволоклись до Троицкой набережной, где жил Колонин. Должно быть, он уже маленько протрезвел, потому что шел потверже.
– А ты вообще-то кто такой? – спросил он, останавливаясь у каких-то высоких ворот. – Откуда взялся?
– Я... Степан Нефедов, – сказал Степан.– Я был в учениках у Иванцова – иконописца...
– У гусятника, что ли?
– У него, да теперь ушел.
– Угу, – сказал Колонин.– А здесь чего делаешь?
– В тебе хочу в ученики, – ответил, осмелев, Степан. – Возьми меня, я буду тебе все делать!..
– Ах ты, мошенник! – засмеялся Колонин, но смех его тут же перешел в тягучий кашель.
Потом Степан вел Колонина каким-то проулком, где на них лаяли из темноты собаки, потом они шли каким-то садом, и вот наконец мелькнул огонек в окне.
– Тс-с, – сказал Колонин, отстраняя Степана. – Это моя жена... Елена Николаевна...
На невысоком крылечке стояла, прислонившись к столбику, женщина – Степан увидел только длинное платье да смутно белел большой платок на плечах.
– Господи... – сказала женщина тихо и скорбно. – Когда это кончится?.. – И, отстранившись от столбика, ушла куда-то в дом. На мгновение только вырвался желтый свет лампы из открывшихся дверей, мелькнуло бледное молодое лицо, белая шаль на плечах, рука...
– Тс-с, – опять пьяно прохрипел Колонин и, хватаясь за крылечные перила, пошел в дом.
Степан остался один. Он сел на ступеньку, положил у ног свой узелок. Картуз Колонина он все еще держал в руках, не решаясь с ним расстаться.
Ночь была теплая, тихая, редкие звезды мерцали в бархатном темном небе, и Степан долго глядел на них, привалившись к теплому крылечному столбу...
Он проснулся от странного ощущения, что на него смотрят. Низкое солнце било прямо в глаза, деревья и трава блестели от росы, далеко внизу, над лугами, плавал редкий туман. Степан вспомнил, где он, и удивление сменилось страхом, что сейчас выйдет Колонин и прогонит его.
Он оглянулся. Вчерашняя женщина стояла в дверях. Это была она. Степан узнал ее. Он вскочил и, потупясь, боясь поднять глаза, стоял перед ней. Солнце пекло ему затылок.
– Это вы привели вчера Алексея Петровича? – спросила она, и голос ее был таким мягким, таким чудным, какого Степан еще никогда не слышал.
Степан кивнул.
– А...– начала было она, но вдруг смутилась: она решила, что этот парень ждет платы, что ждал всю ночь. – Ах, извините, извините, я сейчас!..
Через минуту она протягивала на белой узкой ладошке блестящий двугривенный.
Степан отрицательно замотал головой.
Женщина смутилась еще больше.
– Что же вы хотите?!
– Я не за деньги, – сказал Степан, быстро посмотрев на нее.
– За что же?
– Колонин обещал меня взять в учение.
– Колонин? В учение?.. – изумленно воскликнула женщина, и тут Степан вспомнил, что Колонин ведь ничего ему не обещал. Он готов был провалиться сквозь землю.
– Вот как!.. Ну что же, подождите...
Она ушла. Теперь она спросит у Колонина, а тот скажет, что ничего не обещал, что это, мол, мошенник, гони его. Степан сгорал от стыда, хотел бежать прочь – и не мог.
Женщина вернулась. Она сказала, что Алексей Петрович болен, но если он так сказал (при этом она пожала плечами), она не возражает. Но вдруг какая-то мысль озарила ее лицо.
– Как вас зовут? Вы откуда, чей? – спросила она изменившимся голосом, точно сама была рада Степану.
Степан воспрял духом и, запинаясь сначала, все ей рассказал: он из Баевки, был в учении у Тылюдина и Иванцова, а теперь хочет к Колонину, потому что он хороший художник и светлая голова.
– Кто это вам сказал? – с улыбкой спросила женщина. – Впрочем, когда-то это так и было...
Может быть, ей понравился точный и краткий ответ мальчика, или ее приятно тронули хорошие слова о муже, о котором так уже давно никто не говорил, или еще какая-то тайная мысль родилась у нее, – так или иначе, но судьба Степана была решена, и он водворился во флигель, в котором жили Колонины. В первую же минуту пребывания в этом доме он убедился, что Колонины – совершенно иные люди, чем Тылюдин, Иванцов да и все, кого он вообще успел узнать за свою жизнь. Степана приятно удивило, что у Колониных нет ни кур, ни гусей, нет и маленьких детей и ему не придется быть нянькой. Значит, он будет все время в мастерской, будет готовить краску, левкасить, смотреть, как рисует настоящий художник, «светлая голова». А то, что Колонин рисует лучше Тылюдина и Иванцова, Степан увидел сразу, как Елена Николаевна привела его на большую застекленную веранду: на мольберте стояла начатая икона («Параскева Пятница», как потом узнал Степан). Впрочем, была прописана только голова, но у Степана как-то странно затаилось дыхание при виде этого тонкого неземного лика с большими, умными и спокойными глазами, – он еще никогда не видел такого письма.
– Вот, – сказала Елена Николаевна, – Солодов, купец здешний, заказал еще зимой... Уже и человек от него приходил, да когда-то теперь Алексей закончит... – Она махнула рукой и отвернулась – на глазах ее заблестели слезы. – Ладно, – сказала она, справившись с волнением, – раз уж так, приберите здесь, вымойте кисти... – Она ушла, оставив Степана одного на веранде.
Это было какое-то потрясение. Он стоял как оглушенный, он ничего не видел, но в то же время перед глазами расстилался чудесный мир, залитый лучами утреннего солнца, мир, в центре которого, споря с самим солнцем лучезарной красотой, сияли глубокие темные глаза «Параскевы».
Нет, он не спал, все было явью, как и эта женщина, только что стоявшая здесь, на которую он боялся поднять глаза, как этот мольберт, к которому он боялся подойти и потрогал, чтобы убедиться, что это не сон. Вот грязные засохшие кисти, баночки с краской, четверть с маслом, должно быть еще не варенным, а тут скипидар!..
Неужели все это он может трогать, ко всему прикасаться?! Правда, ему велено навести тут порядок. Конечно, он вымоет кисти – уж это-то он умеет, потом выскоблит пол, протрет пыльные стекла!.. Глаза Степана горели счастливым огнем, ликующее сердце готово было выпрыгнуть из груди, и он не замечал, что все ходит и ходит по мастерской, трогает кисти, баночки, перебирает сваленные в углу доски, старые черные иконы, а в груде пыльных картонок под стулом увидел портрет женщины – он сразу узнал в нем свою новую хозяйку. Портрет был тоже не закончен, однако лицо в солнечном свете было так же прекрасно, как и все, что сегодня видел Степан. Он прислонил картонку к стене, а сам опустился перед ней на коленки и так сидел, покачиваясь, точно баюкал в себе доброго бога, к которому он так долго стремился, еще не ведая его, но чувствуя его присутствие в мире, и вот наконец он обретал его, он видел его, слышал его солнечное дыхание.
А между тем это был всего-навсего старый карандашный набросок, уже пожелтевший, и черты женского лица скорей угадывались за воздушной легкостью теней, – так болезненно-робко было прикосновение карандаша, словно сам страх разрушить мечту удерживал руку художника.
Но Степан не видел этой робости, его душе было достаточно затаившейся, готовой угаснуть красоты – одному намеку на красоту, и образ так чудесно и нежно оживал перед ним. И пусть ничего этого не было на желтоватом куске картона, он видел и баюкал, как ребенка, свою красоту. И пусть строгая «Параскева» с укоризной смотрит ему в спину, он баюкает свою мечту, и больше ничего на свете не существует для него!..
Но как редки такие блаженные минуты в жизни художника! И что они – подарок ли светлого неба за долгие земные будни, за рабство у тылюдиных и иванцовых? Или это тот несоглядаемый источник в глубине леса, тот самый бочажок у Бездны, к которому неведомыми путями через непролазные дебри влечется душа, без надежды и поводыря продираясь через буреломные завалы на житейских дорогах, через топкие болота нищеты и несчастий, влечется неутомимо и неукротимо, не надеясь на подарок, но получая живительный источник в поощрение на путь еще труднейший...
– Что такое красота? – спросил он однажды Колонина – в одну его трезвую и потому мрачную минуту.
– Красота? – переспросил Колонин, с удивлением посмотрев на Степана, растиравшего мел в латунной ступке. Но, может быть, он ослышался? – Ты хочешь знать, что такое... – он сделал паузу, словно у него не хватало дыхания, – красота?
– Да!
Колонин молча стоял перед мольбертом, уронив на грудь голову, мял сухие длинные пальцы – привычка, в которой он прятал предательскую дрожь, а лицо скривилось в какой-то нервной судороге. Наконец он с трудом разлепил посиневшие губы и хриплым, лающим голосом заговорил:
– Мальчик, если ты хочешь стать настоящим художником, забудь это проклятое слово. Красота – это яд, который щедрой рукой бросил господь с небес, чтобы растлевать души и услаждать себя печалью о бедных и слабых человеках. Красота – это мармеладные конфетки для приказчиков и лакеев, кто больше их сопрет, тот и счастлив! И каждый ничтожный червяк, вроде тебя, только что вылезший из курной избы, уже скалит свои желтые зубы на красоту, тянет свои грязные пакши к небу, «Господи, дай!..» И он дает! Он бросает в это большое смрадное болото новую пригоршню яда: «Нате! Вкусите!»
Колонин уже бегал по веранде, теребил на груди черную косоворотку с вышитым воротом, широкие рукава, тоже вышитые едва заметным желто-белым узором, трепыхались. Глаза его прыгали с предмета на предмет, ни на чем не в силах остановиться. Казалось, он задыхался. Степан отполз на корточках в угол и там сидел, зажав в руках измазанный мелом пестик. Он не испугался. Он только не хотел, чтобы Колонин опнулся о него. Латунная ступка осталась на прежнем месте, и Степан со страхом ждал, когда она попадет Колонину под сапог.
– Ты понял, что такое красота? – вскрикнул вдруг Колонин, останавливаясь над ним.
– Нет, – простодушно признался Степан.
– А, варвар! – завопил Колонин. – Ты еще не ухватил свою долю!..
– Скажи, а твой жена Елена – это красота?
– Что? Что?
– Твой жена Елена – это красота?..– прошептал Степан, вжимаясь в угол, потому что теперь он не на шутку испугался остановившихся на нем выпученных белых глаз Колонина.








