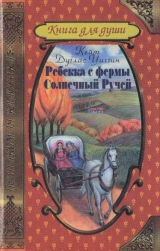
Текст книги "Ребекка с фермы Солнечный Ручей"
Автор книги: Кейт Дуглас Уиггин
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 27 страниц)
– Жаль, что Симпсоны уехали, – заметила Кандейс. – Редко найдешь такую большую плохую семью, которую можно было бы спасать, – ведь у них хорошие только Клара-Белла и Сюзан.
– А число спасенных очень даже важно, – подхватила Элис. – Бабушка говорит, что, если миссионер не может обратить в истинную веру столько-то язычников в год, правление Миссионерского общества советует ему вернуться в Америку и заняться какой-нибудь другой работой.
– Я знаю, – подтвердила Ребекка, – у “возрожденцев“53 то же самое. Когда мы были на пикнике в честь столетия Дня независимости54, напротив нас – мистера Ладда, тети Джейн и меня – сидел один “возрожденец”. Он рассказывал, каких замечательных успехов добился в Бангоре55 прошлой зимой. Он обратил в истинную веру сто тридцать человек за один месяц, или около четырех с третью в день. А я тогда только что прошла дроби и поэтому спросила у мистера Ладда, как можно обратить треть человека. Он засмеялся и сказал, что все по-другому, что просто человек был на треть обращен. Потом он объяснил, что если вы пытаетесь убедить человека в его греховности в понедельник и не успели кончить это дело до заката, то, возможно, вы не захотите сидеть с ним всю ночь, а может быть, он не захочет; тогда вы начинаете снова во вторник и потом не можете точно сказать, в какой именно день он был обращен, потому что это произошло на две трети в понедельник, а на одну треть во вторник.
– Мистер Ладд всегда шутит. А правление не стало бы требовать никаких больших дел от нас, девочек, новеньких начинающих, – предположила Эмма-Джейн, которую постоянно предостерегала против тавтологии ее учительница. – Я думаю, что в любом случае это ужасно невежливо – пойти вдруг к соседям и начать их обращать. Но если взять лошадь и поехать на дальнюю окраину Эджвуда или в Милликен-Миллз, тогда это, наверное, будет зарубежная миссия.
– А как мы будем ходить к ним – поодиночке или целым комитетом, как делали взрослые, когда просили дьякона Татля внести пожертвование на новую печь для молитвенного дома? – спросила Персис.
– Мы будем ходить поодиночке, – решила Ребекка. – Так гораздо вежливее и тактичнее. Тетя Миранда говорит, что один человек никогда не добился бы пожертвования от дьякона Татля, и по этой причине к нему послали комитет. Но мне кажется, миссис Берч не могла иметь в виду, что мы станем обращать людей, когда ни одна из нас, кроме Кандейс, еще не член церкви. Все, что мы можем сделать, – это убедить их ходить на церковные собрания и в воскресную школу или пожертвовать деньги на новую печь или конюшню. А теперь давайте все на минуту задумаемся, кто в Риверборо самый большой язычник и больше всего заслуживает осуждения.
После очень недолгого молчания со всех уст слетели и слились в едином аккорде слова “Джекоб Муди”.
– Вы правы, – сказала председательница коротко. – И после исполнения гимна номер двести семьдесят четыре, который можно найти на странице шестьдесят шесть, мы рассмотрим вопрос о том, как убедить мистера Муди посещать церковные службы или библейский класс священника, так как он уже столько лет не бывал в молитвенном доме.
Дочь Сиона, ту силу, тебя что спасла,
Ты навеки тимпаном и арфой прославь.
Пойте по памяти, пожалуйста, и пропустите вторую строфу. Гимн двести семьдесят четыре на странице шестьдесят шесть в новом сборнике гимнов или на странице тридцать два в старом сборнике Эммы-Джейн.
II
Сомнительно, чтобы достопочтенному мистеру Берчу когда-либо встречался в Сирии человек, переубедить которого было бы труднее, чем уже ставшего бесчувственным к евангельской проповеди Джекоба Муди из Риверборо.
Он был высокий, сухопарый, смуглый, чернобородый; космы черных, с проседью, нечесаных волос и багровый шрам, шедший через нос и щеку, делали его внешность еще более пугающей. Его полуразвалившийся дом стоял на каменистом участке земли за пастбищем Сойеров, а принадлежавшие ему акры раскинулись во все стороны от его жилища. Он жил один, ел один, пахал, сажал, сеял и убирал урожай один и был бы более чем рад и умереть в одиночестве, “неоплаканный, непочтённый и невоспетый”. По дороге, что шла вдоль его полей, сравнительно редко кто-либо ездил, и, несмотря на то что вдоль нее густо росла черемуха и ежевика, туда уже много лет не ходили дети. Осенью яблони Джекоба ломились от яблок, но их не крал ни один риверборский или эджвудский мальчишка, ибо повергающие в ужас рассказы о судьбе, постигшей в давние времена одного сорванца, передавались от мальчика к мальчику, обеспечивая плодам Муди гораздо лучшую защиту, чем мог бы обеспечить любой полицейский патруль.
Вероятно, никакие обстоятельства не могли служить оправданием грубых манер старика или отсутствия у него всяких гражданских добродетелей и достоинств, но, осуждая его за тот образ жизни, который он вел теперь, соседи обычно забывали о несчастном прошлом, приведшем к этому: сварливая жена, нелюбящие и неверные сыновья, горькая судьба дочери и все прочие злые шутки, которые сыграла с ним судьба, – так, по меньшей мере, смотрел всегда на свои горести и разочарования он сам.
Таков был человек, чей моральный облик предстояло изменить “дочерям Сиона”. Но как?
– Кто добровольно вызовется посетить мистера Муди? – мягким тоном спросила председательница.
Посетить мистера Муди! Казалось чудом, что крыша сеновала не обвалилась; она отразила звук и каким-то образом заставила эхо звучать мрачно и язвительно.
– Никто не вызовется, Ребекка, и ты это знаешь, – сказала Эмма-Джейн.
– Почему бы нам не тянуть жребий, раз никто из нас не хочет говорить с ним, и все же кто-то должен?
Это предложение поступило от Персис Уотсон, которая была бледна и задумчива с тех самых пор, как на собрании впервые упомянули имя Джекоба Муди. (Персис страстно любила ягоды черемухи, и однажды она встретилась с ним… Что ж, у всех нас есть воспоминания, которые мы храним в тайне!)
– Не будет ли это грешно – решать вопрос таким способом?
– Это картежники тянут жребий!
– В Библии люди делали это очень часто.
– Для миссионерского собрания такой способ не годится. Эти замечания посыпались одно за другим на смущенную председательницу, “в то время” (как она всегда выражалась в сочинениях) как она пыталась разобраться в этической стороне неожиданной и трудной дилеммы.
– Это очень запутанный вопрос, – сказала она задумчиво. – Я могла бы задать его тете Джейн, если бы у нас было время, но, полагаю, его у нас нет. Кажется, что это не очень хорошо – тянуть жребий, но как же мы можем решить вопрос без этого? Мы с вами знаем, что намерения у нас хорошие, так что, может быть, такой способ и подойдет. Элис, возьми этот листок бумаги и оторви пять полосок – все разной длины.
Снизу донесся чей-то голос – голос, звучавший очень жалобно:
– Можно мне поиграть с вами? Хальда уехала кататься, и я совсем одна.
Это был голос “абсолютно лишенной вероломства” Тирзы Мизерв, и раздался он в самый подходящий момент.
– Если она тоже будет потом членом, – сказала Персис, – почему не разрешить ей подняться сюда, чтобы держать бумажки? Она будет действовать по-настоящему честно и никому не станет оказывать предпочтение.
Идея показалась замечательной, и ее осуществили так быстро, что не прошло и трех минут, как “лишенная вероломства” уже держала пять бумажных полосок в горячей маленькой руке, вновь и вновь усердно меняя их местами, пока они не стали совсем похожими друг на друга и изрядно засаленными и помятыми.
– Ну, девочки, тяните! – распорядилась председательница. – Тирза, ты не должна жевать смолу на миссионерском собрании, это неприлично. Вынь ее изо рта и приклей куда-нибудь, пока не закончатся все формальности.
Пять “дочерей Сиона” приблизились к роковому месту и одна за другой протянули свои дрожащие руки. Затем, на мгновение молча сжав каждая свою бумажку, они поднесли их друг к другу, чтобы сравнить.
Самую короткую бумажку вытянула Эмма-Джейн Перкинс, став в результате избранным судьбой орудием возвращения Джекоба Муди к более пристойному образу жизни!
Она обвела все вокруг себя полным отчаяния взглядом, словно в поисках какого-нибудь безболезненного и пристойного способа самоубийства.
– Давайте вытянем еще раз, – взмолилась она. – Я меньше всех на это гожусь. Я наверняка все испорчу, мне сначала надо хоть чему-то научиться.
Сердце Ребекки замерло при этом искреннем признании, которое только подтверждало ее собственные опасения.
– Мне очень жаль, Эмми, дорогая, – сказала она, – но единственным оправданием тому, что мы стали тянуть жребий, может быть отношение к результату как к чему-то священному – это почти как Бог, говорящий с Моисеем из Неопалимой Купины56.
– Ох, хорошо бы, прямо здесь она и была! – воскликнула расстроенная и несговорчивая миссионерка. – Я шагнула бы в нее сразу – даже не остановилась бы, чтобы снять гранатовое кольцо!
– Не будь ты такой трусихой, Эмма-Джейн! – воскликнула, пытаясь ободрить ее, Кандейс. – Джекоб Муди не убьет тебя, даже если у него ужасный характер. Отправляйся скорее, пока не успела еще больше струсить. Не пойти ли нам с ней, Ребекка? Мы могли бы подождать ее у ворот пастбища. Тогда, что бы ни случилось, Элис, как секретарь, сможет занести все в протокол собрания.
В подобных критических ситуациях время летит с такой невероятной быстротой, что Эмме-Джейн показалось, будто прошло одно мгновение, а ее уже тащили по полям остальные “дочери Сиона”, и “лишенная вероломства”, запыхавшаяся от быстрого бега, замыкала шествие.
У ограды пастбища Ребекка в последний раз с жаром обняла подругу и, шепнув:
– Что бы ты ни делала, следи за тем, как подводишь разговор к главному, – сняла верхнюю жердь и подтолкнула Эмму-Джейн на другую сторону изгороди. Затем девочки неохотно повернулись спиной к жалкой фигурке, и каждая выбрала себе дерево, под чьей дружеской сенью могла бы бодрствовать и, возможно, молиться до тех пор, пока миссионерка не возвратится от трудов на уготованной ей ниве.
Элис Робинсон, чьи сочинения всегда получали оценку 96 или 97, – 100 символизировало такое совершенство, какое только могло быть достигнуто в смертном мире Риверборо, – Элис, не только “дочь”, но и “книжница Сиона”, наточила карандаш и записала несколько удачно подобранных вступительных слов, чтобы использовать их, когда Эмма-Джейн Перкинс и Джекоб Муди кончат вершить историю этого дня.
Сердце Ребекки тревожно билось под ее полотняным платьем. Она чувствовала, что разыгрывается настоящая драма, и, хотя, к несчастью, не она была в ней центральной фигурой, ей все же была отведена скромная роль. Короткая бумажка досталась не самой способной “дочери”; это Ребекка вполне сознавала. Но сумела бы хоть одна из них добиться внимания Джекоба Муди, вовлечь его в приятную беседу и, наконец, заставить его осознать неправильность его образа жизни? В этом она сомневалась, но в то же время настроение у нее поднималось при мысли о трудностях, сопряженных с этим предприятием.
Трудности всегда были стимулом для Ребекки, но они устрашили бедную Эмму-Джейн, которую пробирала дрожь от возбуждения, растерянности, страха и желания поддержать свой слабеющий дух. То, что ее беседе с Джекобом Муди предстояло быть внесенной в “протокол” секретарем, стало каплей, переполнившей чашу. Ее голубые глаза казались светлее, чем обычно, и блестели точно фарфоровые блюдца, ее обычно розовые щеки были бледны, но она энергично продолжала шагать вперед, решив быть “дочерью Сиона”, а самое главное – заслужить восхищение и уважение Ребекки.
“Ребекка может сделать что угодно, – думала она с восторженной преданностью, – и я должна стараться быть не глупее, чем я есть на самом деле, или она выберет себе в самые близкие подруги какую-нибудь другую из девочек”.
И, собрав все свое мужество, она направилась в палисадник Джекоба Муди, где он в это время колол дрова.
– Хороший сегодня день, мистер Муди, – начала она вежливым, но хриплым шепотом. Слова Ребекки: “Подводи разговор! Подводи!” – призывно звенели в ее ушах.
Джекоб Муди взглянул на нее с любопытством.
– Пожалуй, неплохой, – проворчал он, – только некогда мне на дни-то глядеть.
Эмма-Джейн робко присела на конец большого бревна, лежавшего возле чурбана, на котором Джекоб рубил дрова. Она полагала, что мистер Муди, как другие хозяева при появлении гостей, прервет работу и поговорит с ней.
“Этот чурбан тоже вроде идола, – подумала она. – Хорошо бы отобрать его у Джекоба, тогда он, может быть, заговорил бы”.
В этот момент Джекоб поднял топор и опустил его на лежавшее на чурбане полено с такой силой, что Эмма-Джейн буквально подскочила.
– Ты б поглядывала, сестренка, а то щепка в глаз отлетит! – проронил Муди, с мрачным видом продолжая свою работу.
“Дочь Сиона” вознесла безмолвную молитву о ниспослании ей вдохновения, но никакое вдохновение не посетило ее, и она сидела молча, невольно подпрыгивая каждый раз, когда топор опускался на полено, которое рубил на части Джекоб.
Наконец хозяину надоела эта немая гостья и, опершись на топор, он спросил:
– Слушай, сестренка, ты здесь зачем? Зачем тебя прислали? Яблок тебе надо? Или сидра? Или чего? Выкладывай или проваливай – одно из двух.
Эмма-Джейн, которая уже успела скрутить свой носовой платочек в холодный, влажный, слипшийся шарик, в последний раз отчаянно закрутила его и, запинаясь, вымолвила:
– Вы бы не хотели… Не лучше ли вам… Вам не кажется, что вам следовало бы чаще ходить на молитвенные собрания и в воскресную школу?
Топор чуть не выпал из ставшей вдруг бессильной руки Джекоба; он уставился на “дочь Сиона” с невыразимой яростью и презрением. Затем, хотя кровь бросилась ему в лицо, он взял себя в руки и крикнул:
– Убирайся с этого бревна и из этого палисадника – в два счета, ты, нахальная маленькая ханжа! Чтобы девчонка Джима Перкинса учила меня в мои лета, куда мне ходить! Драпай, говорю тебе! И если еще раз увижу твою лживую постную харю в моем дворе да по такому делу, я спущу тебя с холма или натравлю на тебя собаку! Катись, тебе говорят!
Эмма-Джейн повиновалась без проволочек. Она сорвалась с бревна, выскочила из палисадника и “катилась” и “драпала” вниз с холма со скоростью, никогда не виданной даже Джекобом Муди, который стоял, глядя с язвительной усмешкой на ее отчаянно мелькающие пятки.
Она летела вниз, спотыкаясь; слезы текли по ее щекам и мешались с поднимавшейся из-под ног пылью. Разбитые надежды, стыд, страх, гнев – все терзало ее грудь по очереди, пока наконец с истерическим выкриком она не упала через брусья изгороди в раскрытые, чтобы принять ее, объятия Ребекки.
Другие “дочери” вытирали ей глаза и поддерживали ее обессиленное тело, в то время как Тирза, совершенно перепуганная, разразилась слезами сочувствия и ее невозможно было успокоить.
Никто не задавал никаких вопросов – все чувствовали, что состояние Эммы-Джейн отвечает на любые вопросы прежде, чем они заданы.
– Он грозил натравить на меня собаку! – простонала она, когда, оказавшись близ пастбища Сойеров, ей удалось наконец овладеть своим голосом. – Он назвал меня нахальной маленькой ханжой и сказал, что выгонит меня из своего палисадника, если я приду еще раз! И он расскажет все моему отцу – я знаю, что расскажет, потому что ненавидит его смертельно!
Вдруг до сознания Ребекки дошла точка зрения взрослых. Прежде она не представляла себе эту точку зрения, пока та не стала слишком очевидной, чтобы можно было ее игнорировать. Неужели они поступили неправильно, отправившись беседовать с Джекобом Муди? Будут ли тетя Миранда и мистер Перкинс сердиться?
– Но почему он так ужасно вел себя, Эмми? – ласково спросила она. – Что ты сказала сначала? Как ты подвела речь к главному?
Эмма-Джейн всхлипнула еще более судорожно, вытерла нос и глаза, стараясь взглянуть на дело беспристрастно.
– Думаю, я никак не подводила – ничуточки. Я не знала, что ты хочешь этим сказать. Меня послали с поручением, и я пошла и выполнила его чем могла лучше. (Грамматика у Эммы-Джейн всегда хромала в минуты волнения.) А потом Джейк заревел на меня, точно бык судьи Бина… И назвал мое лицо харей… Закрой свою секретарскую тетрадку, Элис! Если ты запишешь хоть одно слово, в жизни не буду с тобой больше разговаривать… И не хочу я быть “членом” ни минутой дольше. Я боюсь вытащить еще одну короткую бумажку. Мне этих “дочерей Сиона” хватит по гроб жизни! И мне наплевать, кто ходит на собрания, а кто нет.
К этому времени девочки были уже у ворот Перкинсов, и Эмма-Джейн с унылым видом вошла в пустой дом, чтобы смыть все следы трагедии со своей особы, прежде чем мать возвратится из церкви.
Остальные медленно продолжали свой путь вдоль улицы, чувствуя, что их казавшееся столь многообещающим миссионерское общество почило почти так же быстро, как родилось.
– До свидания, – сказала Ребекка, глотая стоявший в горле комок разочарования и огорчения, так как ей было ясно, что весь вдохновляющий план потерпел неудачу и бесследно исчез, как радужный мыльный пузырь. – Все кончено, и мы никогда не станем пытаться это повторить. Я пойду домой и буду усердно шить через край, потому что терпеть не могу этот шов. А тетя Джейн должна написать миссис Берч, что мы не хотим быть отечественными миссионерами. Возможно, мы все-таки недостаточно большие. Я совершенно убеждена, что приятнее обращать людей, когда они желтые, или коричневые, или любого другого цвета – только не белые. И я думаю, что, должно быть, легче спасти их души, чем заставить их ходить на собрания.
Рассказ третий
Книга Мыслей Ребекки
I
Во времена Ребекки на сеновале скотного двора “девочек Сойер” все еще хранилось сено, хотя было оно десятилетней давности и, по мнению изредка заезжавшей в гости лошади, совершенно лишено сока и аромата. Скотный двор также все еще укрывал от непогоды большой экипаж и сенокосилку старого дьякона Сойера, сани и с десяток других предметов, оставшихся от более раннего периода, когда обширные земли, принадлежавшие обитателям кирпичного дома, постепенно превращались в одну из лучших ферм Риверборо.
Теперь же в стойлах не было ни лошадей, ни коров; ни одна свинья не хрюкала с удовлетворением в загончике, намекая на будущие вкусные свиные ребрышки; дерзкие куры не клевали растения в заботливо лелеемом палисаднике. “Девочки Сойер” старели и, памятуя о том, что “заботы хоть кого в могилу вгонят”, устраивали свою жизнь так, чтобы избежать, по меньшей мере, именно этой горькой участи, – и удавалось им это совсем неплохо, до тех пор пока прибытие в кирпичный дом Ребекки не придало существованию чуть больше острых ощущений.
Раз в месяц, из года в год, мисс Миранда и мисс Джейн, повязав голову полотенцем, совершали торжественный обход скотного двора, снимая чехлы и стирая пыль со старинной утвари, а иногда смахивая самые тяжелые клочья висевшей по углам паутины или подметая пол.
Шаткая стремянка дьякона Сойера по-прежнему стояла на своем месте, прислоненная к краю сеновала, и даже небесная лестница, ведущая к вечной славе, едва ли казалась Иакову прекраснее57, чем эта стремянка Ребекке. По пыльным ступенькам она взбиралась, взбиралась, взбиралась – прочь от времени, забот и старых теток, прочь от детских обязанностей и детских огорчений – на сеновал, где ее ждало столько прекрасных видений, счастливых грез и смутных желаний, что, когда ее маленькие смуглые руки цеплялись за края лестницы, а ноги осторожно ступали на перекладины, сердце в груди почти не билось в восторге радостных ожиданий.
Когда высоты были взяты, предстояло отодвинуть засов тяжелых дверей и потянуть их на себя. И тогда – о вечно новый рай! Тогда – о вечно прелестный зеленый и растущий мир! Ибо Ребекка имела в душе нечто такое, что
Влагает и в закат, и в плеск волны
Живую прелесть вечной новизны.
На вершине соседнего холма ей был виден скотный двор Элис Робинсон с его блестящим флюгером – огромной рыбой из полированного металла, которая плыла по ветру и предсказывала погоду на день всему Риверборо. Луг, залитый солнцем и тянувшийся вверх по склону холма до соснового леса, иногда был плавно струящейся полосой блестящей травы, а иногда – когда цвели маргаритки и лютики – ласкающим взор видением белого и золотого. Потом жнивье бывало усеяно “веселыми сена стогами”, а чуть позднее горный клен, стоявший на самой опушке соснового леса, сверкал точно золотой шар на фоне темной зелени, а его сосед, сахарный клен, пламенел в своем алом наряде.
Как-то раз в такой же пахнущий морозцем день Адам Ладд (любимый “мистер Аладдин” Ребекки) после безуспешных поисков в поле и саду вдруг заметил открытые двери сеновала и позвал ее. При звуке его голоса она, вздрогнув, опустила свой драгоценный дневник и бросилась к дверям сеновала. Для него оказалось незабываемым это зрелище – маленькая поэтесса в плаще и митенках с книжкой в одной руке и карандашом в другой, взъерошенные темные волосы с живописным добавлением в виде торчащих кое-где соломинок, щеки с густым румянцем, смеющиеся глаза.
– Сафо58 в митенках! – воскликнул он со смехом, а в ответ на ее заинтересованный вопрос велел ей поискать эту незнакомую леди в школьной энциклопедии, когда представится такая возможность в учительской семинарии в Уэйрхеме…
Обычно она начинала с приготовлений: направлялась в угол сеновала и извлекала из-под сена толстую, в пестром переплете, книгу для записей, где еще оставалось много чистых страниц. Из кармана холщового передника появлялись карандаш, кусочек старательной резинки и несколько листиков оберточной бумаги; затем она не спеша усаживалась на полу и придвигала к себе вместо стола поставленный вверх дном ящик для мыла.
Книга с благоговением открывалась, и следовало внимательное чтение отрывков из того, что уже было аккуратно занесено в нее ранее. Большинство из них явно было по вкусу писательнице, так как на щеках время от времени появлялись ямочки удовольствия, а порой на лице играла и улыбка несомненного восхищения; но бывали иногда и сдвинутые брови, и вздох разочарования, свидетельствовавшие о том, что художник в ребенке был не вполне удовлетворен.
Затем следовал критический момент, когда многообещающий юный автор был предположительно терзаем муками творчества; но здесь, судя по всему, никаких мук не было. Другие девочки могли отлично владеть штопальной и вышивальной иглой или вязальными спицами и проводить челнок для плетения кружев через сложнейшие петли тончайших хлопчатых нитей; мережка, шов через край, жгут в тринадцать шнурков – все было им под силу, но карандаш никогда не становился послушным инструментом в их пальцах, а перо и чернильница внушали ужас с раннего детства и на веки веков.
Не то с Ребеккой; ее карандаш двигался так же легко и быстро, как и ее язык, – и никакое другое сравнение не могло бы оказаться более удачным. Ее почерк не был идеальным; ей не хватало ни времени, ни терпения, чтобы следовать образцам прописей, и ее бесформенные буквы часто бывали причиной огорчений для ее учителей; но писать она могла, писать хотела, писать должна была и писала – когда нужно и когда не нужно. С того времени, как в шесть лет она начала выводить первые крючочки, писать всегда было для нее самым легким из всех возможных заданий; предаться всей душой любимому занятию было утешением и бальзамом для чувств, когда внушающие ужас примеры на “общее наименьшее кратное” угрожали опрокинуть все представления здравого смысла или правила грамматики маячили, громадные и непобедимые, где-то на горизонте.
Что же до правописания, оно пришло к ней само собой, а не в результате учебы, и, хотя иногда ей случалось сбиться с проторенного пути, замечательный слух и хорошая зрительная память помогали избежать многих грубых ошибок. У нее бывали похвальные намерения – особенно когда она читала на ночь молитву – непременно отыскивать в своем маленьком словарике все слова с сомнительным написанием, прежде чем переносить свои Мысли в заветную “Книгу”, которой предстояло вдохновлять грядущие поколения, но, когда гений кипел, и особенно когда она была на сеновале, а словарь в доме, творческий порыв всегда одерживал победу над благоразумием.
Вот там-то – у открытых дверей сеновала, дверей на закат – и сидит Ребекка. Сколько раз ее дед, добрый дьякон, сидел в этом же укромном месте на своем удобном стуле, когда настроение миссис Сойер было трудно предугадать, и безмятежность атмосферы сеновала приятно контрастировала с его собственным домашним очагом!
Чуть покачивающиеся распахнутые двери, спокойный пейзаж за ними, трубка – отрада, не дозволявшаяся в гостиной, – как эти простые факторы способствовали миру в семье в давно минувшие дни! “Не будь у меня моего сеновала, и моего магазина тоже, я никак не смог бы жить в священном супружеском союзе с моей Мэри-Лайзой!” – с чувством сказал однажды мистер Уотсон, владелец одной из риверборских лавок.
Но дьякон, глядя ясными и честными глазами на свои волнуемые ветром луговые травы, на свои колосящиеся хлеба и свои леса, никогда не видел тех картин, которые видела Ребекка. Для девочки, увезенной с родной фермы на Солнечном Ручье из-под опеки неутомимой, но беспечной матери и от общества плохо кормленных, плохо одетых, беззаботных братьев и сестер, – для нее здесь, в Риверборо, наступили поистине мрачные дни. Ставни были закрыты во всех комнатах дома, кроме двух; то же самое можно было сказать и об уме и сердце мисс Миранды, хотя в душе мисс Джейн и оставалось несколько окон, открытых навстречу солнцу, а Ребекка, сама о том не ведая, уже прикоснулась рукой к нескольким другим. Законы кирпичного дома были слишком суровы, и их было слишком много для такого маленького существа, как она, но на веселый дух Ребекки невозможно было надолго надеть смирительную рубашку – он так или иначе ускользал и летел собственным радостным путем к солнечному свету и вольному воздуху, и если ей не давали петь в саду, как свободной птице, какой она и была, она все же могла петь в клетке, как канарейка.
II
Если бы вы открыли заботливо хранимый том в пестрой обложке, то прежде всего увидели бы замечательную титульную страницу, составленную, по-видимому, по тому же образцу, что и некролог или надпись на могильной плите, если не считать удивительного количества и разнообразия приводимой информации. Многое показалось бы придирчивому критику более уместным в содержании книги, чем на титульном листе, но Ребекка, очевидно, стремилась к тому, чтобы главные действующие лица ее истории были подробно описаны в самом начале.
Она, кажется, была убеждена, что наследственность играет свою роль в развитии гения, а ее вера в то, что знакомство с ее Мыслями вдохновит грядущие поколения, была слишком уж простодушна, чтобы вызывать неприятные чувства. Она, очевидно, с большим почтением относилась к богатому материалу, который поручала заботам своей учительницы, и можно вообразить скорбь бедной мисс Дирборн, доведись той передавать эти “Ценные Стихи и Мысли”, в случае если они “не будут по неосторожности уничтожены”, тому, кому завещала их Ребекка.
КНИГА МЫСЛЕЙ
Ребекки Ровены Рэндл
В Действительности
С Фермы Солнечный Ручей,
Но Временно из
Кирпичного Дома в Риверборо
Родной племянницы мисс Миранды и Джейн Сойер,
Второй из семи детей своего отца, м-ра Л.Д.М. Рэндла
(ныне покоящегося на кладбище в Темперансе, где
на его могиле будет памятник, как только мы выкупим
закладную на ферму),
А также своей матери, миссис Орилии Рэндл.
В случае моей Кончины лучшие из этих Мыслей
Могут быть напечатаны в виде моих Мермуаров
В пользу Библиотеки Воскресной школы в Темперансе (штат Мэн),
Которая очень нуждается в большем количестве книг,
И сим Завещаю их
Мистеру Адаму Ладду,
Который купил у меня 300 кусков мыла
И тем обеспечил получение приза -
Крайне Необходимой Банкетной Лампы -
Моим друзьям, Симпсонам.
Он единственный, кто поощрял меня,
Чтобы я писала Мермуары, и
Моя учительница, мисс Дирборн,
Будет располагать очень Ценными Стихами и Мыслями
Для передачи ему, если только они не будут
По неосторожности уничтожены.
Рисунки исполнены тою же рукой, что
Писала Мысли.
Сейчас еще не решено, будет Ребекка Ровена Рэндл художницей или
писательницей, но если она кем-то станет, то после ее смерти это будет
известно.
[Image009]
Начиная с этого титульного листа, с его богатством подробностей, излишними и неуместными сведениями, книга журчит, как ручей, и для усталого читателя проблемных романов в ней может оказаться нечто от живительных свойств настоящего ручья.
Наши дневники
Май, 187-.
Все девочки ведут дневники, так как мисс Дирборн было очень стыдно, когда школьные попечители сказали ей, что сочинения большинства девочек и всех мальчиков никуда не годятся и в следующем полугодии им нужно научиться писать лучше. Она попросила мальчиков раз в неделю писать ей письма, вместо того чтобы вести дневник. Они думают, что дневник – девчоночье занятие, вроде игры в куклы. Им показалось ужасным, что придется писать письмо каждые семь дней, но она сказала им, что для них это будет далеко не так тяжело, как для нее все эти письма читать.
Чтобы сделать мой дневник немножко непохожим на другие, я собираюсь назвать его Книгой Мыслей (именно так, как здесь, с заглавными буквами). У меня есть мысли, которые я никак не смогу использовать, если их не запишу, потому что тетя Миранда всегда говорит: “Держи свои мысли про себя”. Тетя Джейн разрешает мне рассказывать о некоторых, но необычные ей не нравятся, а мои настоящие мысли большей частью необычные. Эмма-Джейн не против послушать их иногда, и это моя единственная надежда.
Если миссис Дирборн не понравится название Книга Мыслей, то я назову эту книгу Мермуарами (именно так, с заглавной буквы), Мермуары – это то, что ты помнишь о себе и записываешь на случай своей смерти. Тетя Джейн не любит читать никаких других книг, кроме таких вот жизнеописаний интересных умерших людей, и она говорит, что именно это Лонгфелло (который родился в штате Мэн, и мы должны этим гордиться и стараться писать, как он) имел в виду в своем стихотворении:
Нас зовет пример великих
На свершенья и труды,
Чтоб и нам свои оставить
На песках времен следы59.
Я знаю, что это значит, потому что, когда Эмма-Джейн и я ездили на побережье с дядей Джерри Коббом, мы бегали по мокрому песку и смотрели на следы, которые оставляли наши ботинки – точно так, как если бы мы делали слепки из воска. Эмма-Джейн подворачивает внутрь левую ногу (косолапая, как говорят мальчики, что очень невежливо), а Сет Страут тогда только что залатал одну из моих туфель, и все это отпечаталось на песке. Когда я учила “Псалом жизни” для пятничного выступления в школе, мне пришло в голову, что ни я не хотела бы оставить отпечаток, на котором видна заплата, ни Эмма-Джейн свой кривой на песках времен, и я тут же подумала:








