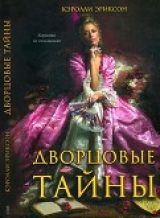
Текст книги "Дворцовые тайны. Соперница королевы"
Автор книги: Кэролли Эриксон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 37 страниц)
Глава 2

Мы покинули Англию вскоре после казни Джослина. «У нас нет выбора», – заявил отец, и моя мать с ним согласилась. На родине членам семейства Ноллис оставаться было небезопасно. Во-первых, моему отцу Фрэнсису Ноллису, как человеку, чуждому жестокосердия, претило руководить казнями не только своих братьев по вере, но и добрых католиков, а число этих казней росло каждый месяц. Во-вторых, подозрительность нашей королевы Марии достигла таких размеров, что многие за глаза называли ее сумасшедшей, помешавшейся из-за невозможности родить наследника, которому она могла бы передать трон Англии. Жизнь в стране сделалась невыносимой.
Но самая главная причина крылась глубже: весь наш род считался порченым, и это делало нас легкой мишенью для гнева королевы. Мы приходились родственниками сводной сестре королевы – принцессе Елизавете, которая в тот момент была брошена в Тауэр по обвинению в измене.
Моя мать – красавица Кэтрин Кэри[99]99
Кэтрин Кэри (в замужестве леди Ноллис) (1524–1569) – дочь Марии Болейн и племянница Анны Болейн, второй жены Генриха VIII. Фрейлина четвертой и пятой жен короля Генриха Анны Клевской и Екатерины Говард. В 1540 г. вышла замуж за Фрэнсиса Ноллиса и родила ему 14 детей.
[Закрыть] – была теткой Елизаветы, то есть мы с моим братом и сестрой приходились принцессе кузенами. Королева же подозревала всех родственников ее сводной сестры в заговорах против престола и мира в королевстве, и уж точно была уверена в их безнравственности.
Когда мы были еще совсем детьми, моя мать рассказала моей сестре Сесилии, Фрэнку и мне нашу семейную историю. Началась она в первые годы правления великого короля Генриха VIII, за много-много лет до нашего рождения.
«Наш покойный король Генрих был женат на королеве Екатерине, испанке по происхождению, и очень надеялся, что она даст ему наследника. Но все мальчики, рожденные Екатериной, умирали, как и большинство девочек. Выжила только Мария – та самая, которая теперь нами правит. Если бы только королева Екатерина последовала за своими детьми, – с некоторым сожалением произнесла моя мать, – все было бы гораздо проще. Но она только рожала одного ребенка за другим, и все они умирали в младенчестве. Несчастный король решил, что на нем лежит проклятие Господне, и, возможно, был прав. С течением времени Генрих при живой жене стал жить с другими женщинами и оказывал им честь, позволяя становиться матерями его детей. Одной из таких женщин была моя мама и ваша бабушка Мария Болейн[100]100
Мария Болейн (1499/1500–1543) – сестра Анны Болейн, одна из многочисленных любовниц Генриха VIII. По слухам, также была любовницей Франциска I, короля Франции, когда жила при французском дворе. Первым браком замужем за сэром Уильямом Кэри, вторым – за Уильямом Стаффордом, человеком незнатного происхождения.
[Закрыть]».
Наша бабушка умерла, когда я была еще совсем малышкой, и я ее не помню, но я видела портреты, писанные с нее в юности. Какая она была красавица! Светло-каштановые волосы, голубые глаза, невинный взгляд. Но невинной она выглядела только на портретах. По словам нашей матери, безгрешной ее назвать никак было нельзя.
– У нее был муж по имени Уильям Кэри, – рассказала нам мать. – И еще у нее была любовь короля. И эта любовь была сильнее всех прочих привязанностей.
Последние слова мама говорила почти шепотом, словно делясь с нами страшным секретом.
– Так, значит, ты – дочь короля! – воскликнула я. – И все мы его внуки!
Мать загадочно улыбнулась:
– Кое-кто так говорит, но только моя мать могла знать наверняка, кто чей сын или дочь, а она молчала. Думаю, король заставил ее поклясться никому не раскрывать секрет нашего происхождения. Одно могу сказать – король Генрих всегда благоволил мне и вашему дяде Генри.
Мамин брат Генри часто приезжал к нам в Ротерфилд-Грейз[101]101
Ротерфилд-Грейз – деревня в Южном Оксфордшире, где находилось имение Ноллисов. До нашего времени сохранилась фамильная часовня Ноллисов, где покоятся Фрэнсис и Кэтрин Ноллис.
[Закрыть]. Он был высоким, крепким, атлетически сложенным мужчиной, прекрасным наездником и храбрым воином. Слушая рассказ матери, я подумала, что мой дядя, должно быть, очень напоминает своего возможного отца, ибо покойный король Генрих превосходил всех при дворе ростом, силой и владением рыцарскими искусствами.
– Значит, ты – принцесса, а дядя Генри – принц, – заявила я. – И вам должны оказывать королевские почести.
Мои брат с сестрой радостно закивали:
– Да, да, мама. Тебе это полагается по рождению.
Но моя мама только засмеялась в ответ:
– Никакая я не принцесса. Во всяком случае меня ею никто никогда не признавал. Я – всего лишь Кэтрин Кэри, дочь Марии Болейн Кэри и Уилла Кэри, приближенного короля. И мой брат Генри того же происхождения, по крайней мере – официально. На самом деле я не знаю, кто мой отец – король или законный мамин муж. Он, кстати, умер, когда я была совсем маленькой. А возможно, и совсем другой мужчина, потому что у мамы, по слухам, были и другие любовники. У меня и в мыслях нет претендовать на престол и соперничать с королевой Марией.
– Ты похожа на короля, – настаивала я. – У тебя рыжеватые волосы, голубые глаза и белая кожа, совсем как у него.
В том, что я так хорошо знала, как выглядел покойный король, не было ничего загадочного. Во всех королевских дворцах на стенах было развешено множество его портретов, а у нас в доме на почетном месте был установлен его бюст.
Моя мама только кивнула мне в ответ, а затем продолжала уже совсем другим тоном:
– Кто бы ни был мой отец, книга истории нашей семьи имеет и гораздо более постыдные страницы. Это касается Анны – сестры твоей бабушки Марии.
Мы все знали, кто такая Анна. Знаменитая и таинственная Анна Болейн! Ведьма, блудница, злодейка, приворожившая нашего короля Генриха, колдовством заставившая его развестись с законной супругой – доброй королевой Екатериной, и женившая монарха на себе. Злая, распутная королева, которой отрубили голову.
Я слышала, как слуги судачат об Анне, сколько себя помнила. Они часто крестились – на католический манер, – когда вспоминали ее, словно желая уберечься от давней скверны, хотя Анна была мертва уже много лет. Мои родители вообще никогда о ней не говорили, во всяком случае в моем присутствии, потому, когда мама упомянула ее имя, мы, дети, навострили уши.
– Моя тетя, королева Анна, ни в чем не походила на мою мать, ни внешне, ни по характеру. Мама была женщиной мягкой, уступчивой. Добрая душа! Она любила танцевать и веселиться. А еще она любила хорошо поесть и выпить вина – иногда больше, чем следовало.
Услышав это, я обменялась быстрыми взглядами со своей сестрой Сесилией. Каждая из нас хорошо знала, что подумала другая: мама тоже была любительницей выпить себе в ущерб.
– Моя тетка Анна была женщиной хитрой, расчетливой, болезненно честолюбивой. Она смотрела на окружающих с презрением и считала, что ее сестра Мария глупа как пробка. Но в конце концов в дураках осталась Анна. Моя мама почти всегда была счастлива, а Анна, даже вознесшись на самый верх, – никогда. Ее лицо никогда не лучилось безмятежным покоем.
Тут мама поочередно улыбнулась нам с Сесилией, ласково погладив каждую по щеке. Когда мы заулыбались в ответ, она сказала:
– Я вам желаю, девочки, чтобы ваши лица сияли не только красотой, но и счастьем. И так всю жизнь!
– Ты видела, как казнили королеву Анну? – спросил Фрэнк. – Тебя заставили при этом присутствовать, как нас заставили смотреть на смерть Джослина?
– Нет. Нас с братом Генри увезли в загородное поместье[102]102
По некоторым сведениям, подтвержденным последними исследованиями, Кэтрин Кэри провела с Анной Болейн ночь перед казнью в 1536 г., утешая и развлекая приговоренную, а затем была свидетельницей казни своей тетки.
[Закрыть]. На нас пало бесчестье – я имею в виду на всех Болейнов. От этого позора мы по сей день не можем отмыться. В то страшное время лишились жизни Анна, ее брат Джордж и кое-кто из близких к ним людей, но остальных Болейнов король пощадил. Все, кого я знала, пребывали в постоянном страхе, и больше всех – моя мать.
– А королева Анна и вправду была ведьмой? – спросил Фрэнк.
Мама задумалась.
– Поговаривали, что она занималась алхимией. Моя мать рассказала мне, что у Анны была секретная комната, где она пыталась превратить свинец в золото. Если ей это и удалось, с нами она этим золотом не поделилась. Возможно, Анна не брезговала и составлением ядов. Что же до колдовства… – тут моя мать замолчала, покачивая головой и глядя на нас с сомнением. – Говорили, что король жаждал ее как ни одну из женщин. Но, как я думаю, то была великая страсть, а не колдовской приворот. В любом случае королева Мария никогда не простила свою мачеху королеву Анну за то, что она способствовала разводу короля с ее родной матерью. Мария ненавидит всех Болейнов и никогда не избавится от этого чувства.
Я вспоминала слова моей матери, когда наша семья всходила в Дувре на борт судна, которое, как ни странно, называлось «Отважная Анна». Мы оставляли католическую Англию королевы Марии, чтобы укрыться в относительной безопасности протестантского Франкфурта. Здесь у моего отца были друзья, которые готовы были приютить нас. Я шествовала, высоко держа голову, убежденная, что в моих жилах течет королевская кровь Тюдоров. Но я хорошо помнила, что сказала моя мать: успех и почести не так важны в жизни, как простое человеческое счастье. И еще я помнила, что мне надо остерегаться гнева королей и королев.
Глава 3

То ли из-за обретенной мною недавно уверенности, что во мне течет королевская кровь, то ли оттого, что в шестнадцать лет я удивительно похорошела и красота моя расцвела, но во Франкфурте у меня появилось много поклонников.
Уже в детстве я была красивым ребенком, и многие, не стесняясь, говорили мне об этом, хотя мой отец в этих случаях хмурился и приговаривал: «Вы ее захвалите» или «Тщеславие – мать всех пороков». Если все внимание доставалось мне, моя младшая сестра Сесилия, любимица отца, заливалась слезами и выбегала вон из комнаты. Отца это злило, но ведь не моя вина в том, что мне достались волосы редкого рыжевато-золотистого цвета и безупречная, словно сияющая изнутри кожа – белая, как лучшая слоновая кость. Для сравнения: у Сесилии волосы были тусклые, как у мыши, а кожа, хоть и гладкая, отдавала желтизной. Впрочем, у нее были прекрасные зубы, о чем я ей часто напоминала.
Во Франкфурте мы жили в огромном доме Якоба Морфа, члена Консистории[103]103
Консистория в протестантизме – церковно-административный орган. Франкфуртская Консистория в описываемый период ведала практически всеми делами в городе и пользовалась непререкаемым авторитетом, так как Франкфурт имел статус «Имперского города», то есть подчинялся напрямую императору, и в городе не было ни правителя, ни наместника.
[Закрыть] и старшины местной лютеранской церкви. Четырехэтажное здание с островерхой кровлей находилось рядом со Старым мостом. Неподалеку силами нескольких оставшихся в городе католических монахинь продолжал действовать сиротский приют, куда часто подкидывали нежеланных младенцев. Детские крики раздавались в любое время дня и ночи, и нашей матери казалось, что число детей в приюте растет не по дням, а по часам. Но помимо этого неудобства, жизнь в доме Морфа была для нас вполне сносной. Возможно, гостеприимство оказывалось нам скорее по обязанности, из чувства долга, но мы были не в том положении, чтобы жаловаться.
Среди протестантов существовала традиция – давать приют единоверцам, попавшим в беду. По мере того как протестантское движение росло и ширилось, все больше приверженцев новой церкви подвергалось жестоким гонениям. Многие английские протестанты целыми семьями бежали на континент, спасаясь от судов и костров королевы Марии. В огромном доме господина Морфа проживало несколько английских семей, но хозяин не сходился близко со своими гостями, словно не знал, чего ожидать от нас – иностранцев. С течением времени я поняла, почему он так себя вел.
Когда же мы только-только приехали, я наслаждалась каждым днем во Франкфурте. Жизнь в этом городе буквально кипела, улицы были запружены повозками с грузами и пешими разносчиками. На рыночной площади велась оживленная торговля во все дни, кроме воскресенья, когда Консистория запрещала проведение любых коммерческих операций, как и любые развлечения. Старинный собор с высоченным шпилем господствовал над всеми постройками в городе, а крепкие каменные мосты, перекинутые через реку Майн, толстые стены кирпичной кладки, окружавшие город, и многоэтажные старинные дома придавали городу дух солидности и величия. Лондон был старше Франкфурта, но, по словам отца, Франкфурт был богаче, а жители отличались гораздо более строгой моралью, особенно теперь, когда всем здесь заправляла Консистория.
О благочестии горожан мы узнали сразу же: гимны здесь распевали не только в церквах, где службы были долгими и скучными (хотя жаловаться на это никому не разрешалось), но и на улицах и площадях. Стоило днем выйти из дому, как отовсюду неслось стройное пение душеспасительных псалмов.
– Мы должны присоединиться к местным жителям, – заявил отец. – Негоже выглядеть в их глазах чужаками.
И мы выучились выводить «Подобно утренней звезде» и «Господь – мой друг и мой оплот!» на немецком, пусть и с заметным английским акцентом, а заодно изо всех сил старались во время пения выглядеть как наш отец: глаза под тяжелыми веками смотрят серьезно и почти скорбно, узкое, изрезанное морщинами лицо аскетично и выражает душевный порыв.
Да, мы из кожи вон лезли, чтобы казаться приличными и благочестивыми юными леди и джентльменами, но одного пения гимнов было явно недостаточно, чтобы дать выход бурлившим в нас молодым силам. В этом немецком городе старшие установили жесткие правила поведения для молодежи и следили за их неукоснительным соблюдением. Нельзя было, например, купаться и плавать, чтобы, не дай Бог, не совершилось «непристойное совместное омовение» мужчин и женщин, мальчиков и девочек. Запрещались и дальние прогулки, ибо в разгоряченных ими телах кровь начинала быстрее бежать по жилам и разжигала недозволенные страсти. Те, кто добивался успехов в подвижных играх и развлечениях, также не были на хорошем счету у Консистории, так как невольно начинали гордиться своим телом, а тело – это сосуд греха. О танцах вообще речи не было – в них видели лишь орудие фривольности и флирта.
Как-то в воскресенье на площади рядом со Старым мостом перед таверной под названием «Белый Лев» началась драка. Я часто видела ссорящихся и дерущихся мужчин в нашей деревне рядом с Ротерфилд-Грейз и во время поездок в Лондон, но никогда раньше – в чопорном Франкфурте. Как оказалось, зачинщиком выступил Никлаус Морф, сын Якоба Морфа. Мне нравился этот крепкий светловолосый парень за его шутки и веселый нрав. И еще он уморительно изображал служанок, убиравших дом Морфов. Эти молодые девушки передвигались мелкими шажками, не поднимая глаз от пола, не глядя ни друг на друга, ни по сторонам. Они не были ни застенчивыми, ни скрытными, а только старались казаться незаметными. Никлаус Морф, несмотря на плотное сложение, удивительным образом перевоплощался в любую из них и так смешно изображал их походку с сомкнутыми коленями и локтями на отлете, что мы с Сесилией буквально умирали от смеха.
Сейчас, однако, Никлаус на полном серьезе колотил другого парня головой о камни мостовой, приговаривая:
– Этот номер у вас не пройдет!
Драка мгновенно привлекла толпу зевак.
– Немедленно прекратить! – раздался повелительный окрик.
Высокий, осанистый мужчина шел к дерущимся, властно раздвигая толпу. Я пару раз видела его в доме Якоба Морфа и знала, что он занимает какой-то высокий пост в Консистории. Народ расступился, пропуская его. Несколько мужчин постарше присоединились к нему, чтобы разнять дерущихся. Их усилия увенчались успехом. Буяны, всклокоченные, грязные, некоторые окровавленные, прекратили лупить друг друга, но не разошлись, а продолжали угрожающе ухмыляться и бросать на противников враждебные взгляды. Я услышала, как Никлаус злобно обругал другого драчуна.
Мужчина, разнявший дерущихся, заговорил:
– Предупреждаю – каждый, кто поднимет руку на ближнего своего, будет публично подвергнут порицанию, а упорствующий – изгнан из общины. Господь говорит, что нужно отсечь слабейшие члены, дабы сохранить здоровье тела. А теперь ответьте мне: в чем причина беспорядков, пьянства и вашего неподобающего поведения?
Все молчали. Наконец вперед вытолкнули одного из участников драки, и он заговорил:
– Все дело в «Белом льве», старшина Рёдер. Этот кабак нужно закрыть!
– Ты прав. В этом городе отныне распивочных не будет. Только угодные Богу дома, где обыватели смогут спокойно поесть. И на каждом столе будет лежать Библия. Таково повеление Консистории.
Над толпой пронесся ропот несогласия.
– Молчать! – воскликнул Рёдер.
Но протесты зазвучали громче, и раздались крики: «Пива! Пива! Не лишайте нас пива!» Кое-кто из собравшихся затянул застольную песню.
Старшина Рёдер достал из складок своих темных одежд грифельную доску и мел и принялся записывать имена протестующих. Я, к своему удивлению, увидела, как из дверей «Белого льва» полетели Библии. Падая на мостовую, святые книги вздымали облако пыли. Я подумала: «Неужели это сделали те самые богомольные жители Франкфурта, которые так складно поют гимны? Или в городских стенах существует два мира – мир благочестивых и законопослушных и мир тех, кто выпивает в трактирах, бесстыдно предается нечестивым совместным омовениям, играет в карты, веселится и танцует?»
– Вы допустили святотатство! – прокричал старшина в гневе, продолжая царапать на своей доске. – Вы все публично осуждены и должны предстать перед судом Консистории!
– Что ж, коли так, – прокричал в ответ Никлаус Морф, – давайте пойдем и хорошенько напьемся напоследок!
И еще до того, как кто-либо осмелился остановить его, он проследовал обратно в «Белый лев», а за ним многие другие из толпы, оставив старшину Рёдера и дальше чиркать на доске и выкрикивать угрозы.
Отец тут же увел нас, чтобы мы не попали в позорный список Консистории. Возмущенные крики герра Рёдера еще долго неслись нам вслед, пока мы спускались к реке. А когда мы перешли мост и проходили мимо сиротского дома, до нас издалека донеслось громкое, нестройное пение пьяных голосов.
Глава 4

С того дня мысли мои постоянно возвращались к Никлаусу Морфу. И заинтересовал он меня не из-за своей внешности, в которой не было ничего необычного или привлекательного – бледно-голубые глаза под тяжелыми веками, широкий гладкий лоб, слишком крупный и мясистый нос, тонкие губы, почти всегда растянутые в усмешке, – а тем, что он с друзьями дерзнул бросить вызов железным порядкам Консистории и указал нам путь к более свободной жизни, не чуждой простых земных радостей.
Он не убоялся понести строгое наказание, которым грозили церковные старшины, и действительно, его подвергли порке и исключили из числа прихожан его церкви, что крайне огорчило Морфа-старшего. Ноу Никлауса осталось много приятелей. Большинство из них, по-видимому, принадлежало к католическим семьям, ибо я никогда не видела этих молодых людей в нашей протестантской церкви. Они слонялись у Старого моста, где поджидали Никлауса, а он с наступлением темноты отправлялся вместе с ними в городской сад, где, по словам старшины Рёдера, царствовали разврат и порок.
Я наблюдала за этой ватагой городских шалопаев из окна своей спальни, которую делила с Сесилией на верхнем этаже дома Якоба Морфа. Парни толпились у одного из каменных быков моста, где горели факелы. Они подпирали спинами каменную кладку, смеялись, задирали друг друга и время от времени поглядывали вверх на меня.
– Потуши свечу! – прошептала мне как-то ночью Сесилия, когда я смотрела на дружков Никлауса с высоты своего окна. – Неужели ты не понимаешь, что им тебя видно?
Я прекрасно знала, что Сесилия права, но свечу не потушила. Что плохого в том, чтобы показаться компании молодых людей? Вот бы спуститься вниз, присоединиться к ним, вместе с ними смеяться и шутить, флиртовать с ними.
– Эти парни – никчемные безбожники! – возмущалась Сесилия. – Они гораздо хуже Никлауса. По крайней мере Никлаус хотя бы крещен в нашей вере.
Я знала, что Сесилия была влюблена в Никлауса. Я поняла это по тому, как она смотрела на него, как старалась придвинуться как можно ближе к нему, если они оказывались в одной комнате. Однажды они буквально столкнулись друг с другом в узких дверях, после чего моя сестра, как я заметила, никогда больше не носила пару синих рукавов[104]104
В описываемую эпоху верхние рукава из более плотной ткани отстегивались от лифа платья и являлись самостоятельной деталью туалета, которую можно было носить с различными нарядами.
[Закрыть], которые были на ней в тот день и до которых случайно могла дотронуться рука сына Якоба Морфа. Наверное, она спрятала их как реликвию своей любви, и одна мысль об этом смешила меня чрезвычайно.
Дело в том, что у меня не было никаких сомнений, кто из нас двоих привлек внимание молодого человека. Он буквально не сводил с меня глаз. До поры до времени он ни разу не заговаривал со мной, а только пару раз улыбнулся мне застенчивой улыбкой, хотя с другими был боек и даже развязен. Я точно знала, какая именно девушка ему нравится, и этой девушкой была отнюдь не моя сестра.
– Эти парни – вовсе не безбожники, – возразила я ей. – Они католики. А всех католиков крестят во младенчестве.
Сесилия фыркнула:
– Старшина Рёдер говорит, что эти парни ходят в городской сад, где их поджидают дурные женщины. Там они пьют и предаются всяческим непотребствам.
– Если бы кабак «Белый лев» не закрыли, им не нужно было бы ходить во всякие сомнительные места, чтобы попить пивка.
За нашей дверью раздались шаги, дверь открылась и вошла наша мать.
– Девочки, вам пора в постель! – заявила она. – Летиция, потуши свечку.
– Она подглядывает за парнями на мосту. Она каждую ночь этим занимается, – плаксивым голосом принялась ябедничать Сесилия.
– Летиция знает правила и всегда выполняет их, – спокойно ответила наша мать.
Я переставила свечу с подоконника поближе к моей стороне кровати, юркнула под одеяло рядом с Сесилией и затушила свечу. Мама накрыла нас толстым теплым покрывалом, поцеловала на ночь и удалилась.
Я ждала до тех пор, пока дыхание Сесилии не стало ровным и глубоким. Тогда я осторожно вылезла из постели, чтобы не разбудить спящую сестру, и вновь подошла к окну.
Небо за окном потемнело. На нем высыпали звезды. Отражение огней на мосту дрожало в зеркале вод Майна. Начался мелкий дождик, но молодые люди оставались на том же месте. Похоже, дождь был им не помеха. Вдруг я увидела, как Никлаус выбежал из дома и присоединился к своим приятелям, которые шумно приветствовали его приход. Все вместе они, подпрыгивая и дурачась, устремились по мосту на другой берег в направлении городского сада.

Город Франкфурт пребывал в небывалом волнении – в него проникли анабаптисты[105]105
Анабаптисты (перекрещенцы) – приверженцы крайне неоднородного радикального протестантского учения, зародившегося в XVI веке в Германии и получившего распространение также в Швейцарии и Нидерландах. Одним из основных положений их доктрины являлось требование крещения в сознательном возрасте, то есть акт крещения рассматривался как осознанный выбор человека, а сама вера – как деятельное ученичество. Враждебное отношение лютеранской церкви к анабаптистам было обусловлено близостью учения последних к позиции Томаса Мюнцера, одного из лидеров Крестьянской войны в Германии, отрицанием централизованной церковной организации, отказом подчиняться установлениям любого правительства, радикальной социальной программой (вплоть до общности имущества). Усилившееся после Крестьянской войны преследование анабаптистов не только не положило конец движению, но, наоборот, содействовало его распространению: изгоняемые из одних городов, перекрещенцы шли в другие и везде приобретали новых последователей, преимущественно среди низших классов населения.
[Закрыть]. Подобно рою пчел они скапливались в кварталах ткачей, в самых нищих городских трущобах, которые теперь гудели как растревоженный улей.
Отец объяснил нам, что анабаптисты – это религиозная община, но сильно отличающаяся от нашей. И уж совсем далекая от католичества. У анабаптистов не было храмов, и их священники проповедовали там, где душа пожелает: в винных погребах, в трактирах, под открытым небом. Эти проповеди собирали огромные толпы слушателей, по преимуществу бедняков. В сети нового учения улавливались многие души, ибо оно простыми и доступными словами требовало лишь одного – следования пути Иисуса. Их проповедники не пугали грехами, а звали к поиску нового, лучшего пристанища. Или же требовали преобразовать этот мир.
Отец мой считал, что анабаптисты – это зло, и старшины протестантской церкви Франкфурта это мнение полностью разделяли. Они призывали кары Божие на головы перекрещенцев каждое воскресенье, а также во все остальные дни недели. Наши старейшины были глубоко убеждены, что анабаптисты грозят разрушить истинную веру изнутри, ибо не пугают своих последователей обязательным наказанием за грехи. Они подобны стае саранчи, налетевшей на поле и пожирающей урожай, только урожай – это добрые христиане. И в ответ мы – протестанты – должны, в свою очередь, уничтожить каждого анабаптиста, попадающегося нам на пути.
«Смерть анабаптистам!» – провозгласила Консистория. И вскоре все горожане воочию увидели результаты этого крестового похода против инакомыслящих.
На площади рядом с кабаком «Белый лев» – переименованным ныне в «Едальный дом для воинства Христова» – было сожжено шестеро последователей нового учения. Остальных городские власти окружили в их убежище, схватили и бросили в тюрьмы, где эти несчастные были удавлены, а их трупы выброшены в городские канавы. В тот год отрубленные головы скалились на нас с ограды Старого моста, свешивались, раскачиваясь на ветру, с фонарных столбов.
Но последующие зверства затмили ужасы первых казней, по крайней мере для меня. Несколько раз городские власти сгоняли анабаптисток, чьих-то жен и матерей, после формального осуждения Консисторией, на берег реки рядом с домом Морфа. Там каждую крепко связывали веревкой, плотно приматывая руки к бокам, отрубали ступни и бросали в воду, где несчастные тонули. Мы, обитатели дома, не могли не знать об этих изуверских наказаниях, хотя я всеми силами старалась не увидеть их воочию.
Каждый вечер Якоб Морф собирал всех своих домочадцев и слуг, включая нашу семью, на молитву, и благодарил Господа за успехи в крестовом походе против анабаптистов. Я должна была участвовать в этом совместном молении, но возносить такие благодарности было выше моих сил, ибо совершенное в городе камнем легло мне на душу. У меня начались ночные кошмары – чаще всего мне снилось, как топят женщин, а их маленькие дети брошены и плачут на берегу реки. Я поведала о своих видениях отцу, а он посоветовал мне думать об анабаптистах как о врагах Христовых, как о нелюдях, чудовищах, которых Господь наслал на нас для того, чтобы испытать нашу веру. Это, дескать, поможет мне побороть жалость.
– Но, отец, я чувствую не столько жалость, сколько ужас.
– Значит, вырви этот ужас из сердца своего, Летиция. Мы живем во времена, когда многое выше нашего понимания. Одному Господу Богу ведомо все… и он вразумляет наших старшин, наших правителей. Мы должны подчиниться Ему и не сходить с избранного пути.
Я не могла не возразить отцу:
– Так, значит, Он ведет и направляет королеву Марию в Англии?
Отец помолчал, а потом отвечал тихим голосом:
– Она считает, что выполняет волю Его.
– Но тогда я ничего не понимаю, отец, и как же мне жить?
Отец только пожал плечами. Он всегда так делал, если исчерпывал свои доводы и проигрывал в споре, особенно когда ссорился с нашей мамой:
– Я тоже не понимаю, дочь моя. Но я молюсь. И я ежедневно благодарю Бога за то, что он дает выжить мне и моей семье.
Я чувствовала, что отец, как и я, поражен и опечален той жестокостью, которая требовалась для защиты нашей веры, но убеждает себя в том, что Консистория поступает правильно, совершает необходимое и даже богоугодное дело.
Сожжения, обезглавливания и утопления продолжались во Франкфурте несколько месяцев, но анабаптистская угроза не ослабевала. Казалось, со временем сердце мое должно было ожесточиться от одного созерцания этих ужасов, но я стала только еще более чувствительной. Теперь я каждый день молилась, чтобы Господь подсказал, как мне с этим жить, как выносить это…

Как-то ранним вечером, когда тени удлинились, а воды реки сменили свой цвет с сине-стального на тускло-серый, на берег рядом с домом Морфа привели женщину из перекрещенцев. Ее должны были утопить. Обычно в таких случаях я спускалась в подвал дома и пряталась там несколько часов, пока казнь, по моим расчетам, не должна была свершиться. Но в тот день что-то подвигло меня поступить вопреки обыкновению. Я осталась в спальне, подошла к окну и заставила себя смотреть на происходящее.
Женщина, которую вели на смерть, была совсем молода. Даже бесформенное рубище не могло скрыть ее здоровой полноты и крепости стана. Палач грубо, клоками остриг ее светлые волосы. Лицо ее было бледным, а руки и ноги – загорелыми, как у крестьянки, которая ежедневно работает в поле весной, летом и осенью и привыкла к простой и суровой жизни. С ней не было никого – ни друзей, ни родственников. Но она несла небольшой сверток, крепко прижимая его к груди. Должно быть, это был ребенок.
На процедуру казни это обстоятельство не повлияло. Заправлявший всем представитель Консистории, склонив голову, прочитал молитву и отдал приказ связать женщине руки и ноги. Я не поняла, что произошло со свертком, который был у нее в руках, так как все приказы были отданы и исполнены стремительно. Миг – и женщина уже лежала на земле. Взмыл длинный сверкающий нож, и палач двумя движениями отсек ей ступни. Хлынула алая кровь, заливая серые камни речного берега. Двое мужчин схватили связанную женщину, приподняли ее и бросили в воду. Я увидела ее открывшийся рот, но не услышала крика. Течение было очень сильным. Оно вынесло ее тело на середину реки, перевернуло, на какое-то мгновение подняло наверх, покачало, а затем стремительно затянуло в глубину.
Спускалась тьма. Те, кто принимал участие в казни, поплотнее завернулись в плащи и поспешили прочь. Страшное место опустело, словно здесь ничего и не происходило, и только на прибрежных камнях еще оставалась кровь. Мне показалось, что у воды брошена какая-то темная тряпка. Потом я вроде бы услышала какой-то слабый, приглушенный крик или тихий плач.
Вначале я решила, что мне почудилось – такие слабые звуки трудно было различить за обычным уличным шумом, – но потом я услышала их вновь. Меня словно кто-то подтолкнул, поднял с места и повел прямо на берег реки. Казалось, звуки доносились из-под моста, где камни были скрыты высокой травой и стояла вонь гниющих отбросов и отходов мясных лавок.
Я с трудом пробиралась вперед, раздвигая траву и низкий кустарник, и вновь услышала крик – теперь более отчетливый. Плакал ребенок.
– Ты тоже слышала? – внезапно на траву упало пятно света и рядом со мной возник Никлаус. В руке он держал фонарь.
– Да, это ребенок. Наверное, младенец казненной женщины. Она прижимала его к груди, когда ее привели сюда. Кто-то попытался спасти малыша.
– Или просто отшвырнул его в сторону, чтобы не мешал палачу.
Как будто в ответ на наши слова плач усилился.
Мы вместе продолжили наши поиски, пока не наткнулись на крохотного младенца, голого и дрожащего, лежащего на куче водорослей.
– Нужно его во что-то завернуть, – сказал Никлаус.
Он передал мне фонарь, стянул с себя рубашку из плотной ткани, укутал в нее младенца и понес его к выходу из-под моста, чтобы выбраться на дорогу перед домом своего отца. Детский плач стал более приглушенным.
– Мой отец никогда не разрешит держать этого ребенка в своем доме, если узнает, где мы его нашли, – прошептал Никлаус.
– Давай отнесем его в сиротский приют, – предложила я. – Монахини его примут.
– Они превратят его в маленького католика, – заявил Никлаус с усмешкой. – Но во всяком случае он останется жив. А это – самое главное.
Мы улыбнулись друг другу, а затем вместе зашагали в сторону приюта. Перед его дверями, на улице, стояла корзина, в которую в любое время дня и ночи можно было положить младенца, передаваемого попечению святых сестер. Мы положили ребенка в корзину и дернули за шнур звонка, свешивавшийся неподалеку со стены. Почти сразу же плоское цельное металлическое колесо, на котором стояла корзина, начало поворачиваться, и подкидыш оказался в стенах приюта.
– Доброй ночи, малыш, – прошептала я. – Да ниспошлет Господь тебе защиту и благословение.
– Аминь! – пробормотал Никлаус, стоя рядом со мной, когда невидимая рука протянулась, чтобы взять из корзины хнычущего младенца.
Мы оставались у стены до тех пор, пока внутри приюта не стихли все звуки, а потом вернулись в дом Морфа. Мы больше не разговаривали друг с другом, но между нами возникло объединяющее нас чувство общей тайны. В тот вечер Якоб Морф как обычно призвал на молитву, всех своих домочадцев, но я не примкнула к тем, кто славил Господа за смерть нечестивых анабаптистов. Вместо этого я помолилась за сироту и за монахинь – за неведомых женщин за стеной приюта, принимающих всех потерянных и ненужных детей города Франкфурта, ничего не спрашивая, ничего не зная о вверяемых их заботам крохотных комочках плоти, кроме того что эти дети в беде и нуждаются в помощи.








