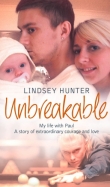Текст книги "Написано кровью"
Автор книги: Кэролайн Грэм
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 26 страниц)
– Он рассказал мне все о себе, – ответил Макс Дженнингс. – На сей раз – правду.
На этом месте пленка кончилась, доказав, как тут же заметил сам Дженнингс, что он виртуозно владеет техникой повествования. Позавидовал бы любой рассказчик.
Вставляя новую кассету, Барнаби испытывал двойственные чувства. Ему было трудно оценить степень правдивости рассказа. Человек говорит достаточно свободно, но не потому ли, что к откровениям его вынудили угрозами? Все изложенное им пока выглядит убедительно, однако не надо забывать, что Дженнингс зарабатывает себе на жизнь, сочиняя убедительные выдумки.
Тем не менее старший инспектор не мог отрицать, что испытывает нетерпеливый трепет и ждет продолжения. Он напряг внимание и сосредоточился. Внимательно слушать, особенно выслушивать пространные монологи – занятие утомительное. Старший инспектор с удивлением отметил, что по-прежнему свеж, и у него промелькнула мысль, не обязан ли он этим спартанскому рациону.
Включая магнитофон на запись, наговаривая на пленку дату и время допроса, перечисляя присутствующих, Барнаби внимательно следил за Дженнингсом. Тот опять подвинулся на самый краешек стула и сидел, как на насесте, еле заметно дрожа. Он сутулился, кисти с переплетенными пальцами вяло лежали на коленях. Больше он не делал попыток смотреть инспектору в глаза «простодушным» взглядом. Теперь он говорил, глядя в пол.
– Джеральд Хедли, который пришел ко мне на вечеринку, был выдумкой. Даже имя было фальшивое. Его звали Лайам Хэнлон, и он родился в Южной Ирландии. Единственный ребенок в бедной семье. В общем, участок под картошку, свинья и ружье, чтобы стрелять кроликов. Его отец был настоящее чудовище, пьяница, не раз избивал жену до полусмерти. Ребенку тоже доставалось, если попадался под горячую руку. Как вы понимаете, при такой жуткой жизни мальчик очень сблизился с матерью, хотя они тщательно скрывали свою взаимную привязанность при отце. Как-то они выживали. Соседи, которые жили не слишком дружно, всё знали, но не вмешивались. Если у мужика иной раз чешутся кулаки, то это их дело, его и жены. Священник, Гарда[66]66
Гарда (Гарда Шихана – стража мира) – название ирландской полиции. – Примеч. пер.
[Закрыть], да все вокруг знали и ничего не предпринимали.
В жалком существовании Лайама имелась только одна отдушина. У него был друг, мальчик постарше его, Конор Нейлсон. Он жил на ферме в нескольких милях от Хэнлонов. Хэнлон таскал сына туда, когда на ферме забивали животных. Таким образом папаша рассчитывал «сделать из него мужчину». Это был просто садизм, ничего больше. Однажды, когда забивали ягненка, Лайам заплакал, так отец опрокинул ему на голову ведро с кровью и кишками.
– Ублюдок! – выплюнул Трой, не сдержавшись. Он не только не извинился за то, что прервал Дженнингса, но еще и усугубил свою вину, добавив: – Удавил бы мерзавца!
Барнаби понял и даже оценил несдержанность сержанта. Он бы тоже предпочел этого не слышать. Что-то было темное и неумолимо страшное в трагичной истории. Если с самого начала все так плохо, что хорошего из этого может выйти?
– Конор, без сомнения, был редким и странным растением, чудом проклюнувшимся на тамошнем болоте. Спокойный, замкнутый, много читал. Когда Лайаму удавалось улизнуть из дому, они вдвоем бродили по окрестностям, наблюдали за птицами и другой живностью. Иногда Конор рисовал – растения, цветы, камешки в ручье. Естественно, отец Лайама презирал этого мальчишку, да и собственные родители относились к Конору немногим лучше. Конечно, – тут Дженнингс поднял голову и посмотрел на слушателей, – я выхватываю отдельные фрагменты. Следующее событие, которое так травмировало Лайама, что изменило весь ход его жизни, случилось, когда ему было почти четырнадцать, а Конору – на несколько лет больше.
Это был весенний вечер. Хэнлон на сей раз до того разошелся, что его жена попала в больницу. И родителей Конора попросили присмотреть за мальчиком, пока матери нет. Лайам удивился и одновременно испытал огромное облегчение, потому что мысль остаться с отцом наедине ужасала его. Он спал на старенькой парусиновой раскладушке в комнате Конора и каждую ночь, перед тем как заснуть, плакал. Он тосковал по матери и очень боялся, что больше никогда ее не увидит. В конце концов Конор взял мальчика к себе в постель. Обнял его, утешил, осушил поцелуями его слезы. За этим понятно что последовало.
Лайам поверил – верил и дальше, – что тогда Конором руководило исключительно сострадание. Ясно, почему бедняге так нужно было в это верить. У него и так практически отсутствовало чувство собственного достоинства. Как он мог поверить, что единственный друг использовал его в самый тяжелый для него момент? Итак, из привязанности и благодарности Лайам и дальше позволял себя использовать. И эта опасная связь, тем более опасная в то время, сорок лет назад, и в той среде, продолжалась. Даже когда Лайам вернулся домой. Разумеется, их тайну раскрыли, это был всего лишь вопрос времени.
Мать Лайама вернулась из больницы, но Хэнлон не выгнал из дома деревенскую девушку, которую привел, пока жены не было. Она-то и застигла мальчишек однажды позади стожка в сумерках «за этим делом». «Прям как выдры!» Отец Лайама погнался за ними с ружьем, и с тех пор его никто больше не видел. «Утоп в болоте» – таково было общее мнение. Никто бы и не возражал, утоп так утоп, вот только двое парнишек тоже исчезли. Гарда провела расследование, но, думаю, не очень старалась.
После многих лет физического и морального гнета и потери единственного сына Мэри Хэнлон повредилась умом. Она останавливала людей на улице, вглядывалась в их лица дикими, словно обвиняющими глазами, умоляла, чтобы ей вернули Лайама. Иногда она стучалась в двери домов или кричала в щели для писем, что здесь прячут ее сына, и требовала выпустить его. В конце концов ее отправили в сумасшедший дом.
Два подростка, как тысячи подростков до них, бежали в большой город. В данном случае – в Дублин. Здесь дела пошли хуже некуда, по крайней мере у Лайама. Очень скоро они с Конором оказались на улице. А еще через некоторое время стало ясно, что Лайаму, с его юностью и красотой, – а он был невероятно красив тогда, – придется по первому требованию поворачиваться спиной. Конор быстро взял дело в свои руки. Скоро уже никто не мог приблизиться к юному Ганимеду, минуя его сутенера. Расценки были высокие, насколько позволял рынок, но Лайам получал только еду, небольшую сумму на одежду и карманные деньги. Так они прожили почти три года.
Вам может показаться странным, – Макс Дженнингс расцепил пальцы и повернул руки ладонями вверх, как бы показывая, что и сам удивлен, – что Лайам так долго терпел подобное положение вещей, но Конор держал его на коротком поводке. Клиенты приходили к ним на квартиру, так что возможности завести других друзей или знакомых у парнишки не было. Конор злился на Лайама, если тот хотел выйти куда-нибудь или встретиться с кем-нибудь. Этого было достаточно, чтобы держать мальчика в узде, тем более он боялся насилия, что неудивительно.
Впервые в жизни сержант Трой, внимательно слушая рассказ Дженнингса, поймал себя на том, что педераст, отброс из выгребной ямы общества, вызывает у него некоторое сочувствие. И это его сильно обескуражило. Подойдя очень близко к роковой черте, испытав от этого раздражение и неудобство, Трой спасся при помощи заветного файла «Клише на все случаи жизни». И файл этот, как всегда, его не подвел. Под буквой «У» («Увертки») там значилось: «Исключение лишь подтверждает правило». Уф! Метафорически Трой отер пот со лба. На какие-то секунды все показалось неясным. Слишком сложным. Но отпустило, слава богу. Он снова обратился в слух.
– За несколько месяцев до того, как Лайаму исполнилось семнадцать, он встретил Хилтона Коннинкса. Вы не слышали о нем?
Барнаби отрицательно покачал головой, но в мыслях вертелось что-то, слишком смутное, чтобы ухватиться за это воспоминание. В любом случае в его планы не входило поощрять уклонение от темы. На улице уже темень кромешная. Продвигаясь с такой черепашьей скоростью, они, чего доброго, тут заночуют.
– Коннинкс был портретистом. Очень востребованный и состоятельный, но низко ценимый критиками. Хотя две его картины висят в Дублинской национальной галерее. Этакий ирландский Аннигони[67]67
Пьетро Аннигони (1910–1988) – итальянский художник, наиболее известный своим портретом Елизаветы II. Творил в ренессансной манере, контрастирующей с современным ему модерном.
[Закрыть]. Один приятель рассказал ему о красоте Лайама, и Коннинкс решил назначить юноше встречу. Художник не интересовался тем, что его крутой приятель называл «раздвинуть щечки». Да, Коннинкс был гомосексуалистом, но ему уже перевалило за семьдесят, и оставшиеся силы он берег для работы.
Увидев Лайама, он сразу решил написать его портрет. В автобиографии «Раскрашенная глина» Коннинкс описывает свое первое впечатление от встречи с юношей лучше, чем это смог бы сделать я. Но была одна проблема – Конор. Он запросил большую сумму за каждый сеанс. И это бы ничего. Но Конор настаивал на том, что не только будет привозить Лайама в мастерскую художника и потом увозить, но и присутствовать на сеансах. Чтобы оберегать своего протеже от «старого педераста» – так он это объяснял.
На самом деле Конор просто не мог допустить, чтобы Лайам от него отдалился. Ему тем более не хотелось, чтобы паренек проводил время в обществе такого богатого, умного и успешного человека, как Хилтон Коннинкс. Удерживать Лайама при себе Конор мог, только постоянно играя на воспоминаниях об их общем (так он это подавал), нищем и безрадостном детстве. Да, они оба в дерьме, и нечего им заглядываться на звезды.
Тут Дженнингс на минуту замолчал, обхватив голову руками, как будто ему было невыносимо рассказывать все это. Потом он заговорил гораздо быстрее. Создавалось впечатление, будто он только и мечтает, как бы поскорее с этим покончить.
– В итоге жадность победила стремление Конора сохранить статус-кво. Как агент, вернее, сутенер Лайама, он запросил сто гиней за каждый сеанс. Коннинкс сказал, что сеансов потребуется не меньше двенадцати. Но в середине второго сеанса он вдруг положил кисть и заявил, что не может продолжать в присутствии третьего лица. Он, конечно, заплатит за оба сеанса, но на этом все и кончится. Много позже Лайам узнал, что это был блеф и, если бы Конор уперся, даже удвоил цену, Коннинкс сдался бы. Но тысяча двести гиней – это была куча денег в конце пятидесятых, особенно если ты и пальцем не шевельнул, чтобы их добыть.
Барнаби с трудом подавил в себе отвращение к тому, как эти двое торговались за мальчика, уже преданного и проданного бог знает сколько раз. Как будто это был не человек, а кусок мяса на рынке. Старший инспектор не мог избавиться от мысли, что бездушный торг велся именно за ребенка, словно в насмешку достигшего «возраста согласия».
– Это было начало конца Конора. Через несколько сеансов Хилтон Коннинкс узнал ужасную историю Лайама и стал уговаривать его освободиться от рабства. Это было непросто. Лайам так долго полностью зависел от Конора, что просто не мог себе представить, как выживет без него. У него не было другого дома, кроме того, в котором его поселил сутенер, и почти не было денег. Но Коннинкс настаивал. Художник располагал большими возможностями, и не только финансовыми. Конору же, который с самого приезда в Дублин зарабатывал на жизнь подсудными делами, было не с руки привлекать к себе внимание. Однажды вечером Лайам не вернулся с сеанса. Шофер Коннинкса заехал к Конору и попросил отдать ему вещи Лайама. Вещи ему отдали, и все было кончено.
Лайам жил у Коннинкса пятнадцать лет, и с ним обращались как никогда прежде. Ласково и с уважением. – Дженнингс заговорил еще быстрее, чувствуя раздражение слушателей и ошибаясь в этом. – Я сокращаю, насколько возможно. Хилтон пробовал образовывать Лайама в живописи и музыке, но, надо признать, без большого успеха, а еще приохотил его к чтению. В первые четыре-пять лет, что они провели вместе, когда Коннинкс еще видел, он написал много портретов паренька. У него была такая причуда – никогда не изображать модель в современной одежде, и Лайама он писал то викторианским священнослужителем, то французским зуавом, то пашой, то персидским лютнистом, последний – как раз один из двух портретов, которые висят в Национальной галерее.
Лайам стал компаньоном, личным секретарем и другом Коннинкса. Хотя между ними никогда не было плотских отношений, Коннинкс, несомненно, был очень привязан к юноше. Лайам относился к нему более сдержанно. Он испытывал благодарность к старику, как, я думаю, обездоленные дети всю жизнь бывают благодарны за любые, даже за самые незначительные проявления любви и ласки, но не мог ответить в полную силу. Может быть, его аппарат любви, если позволительно так выразиться, был непоправимо поврежден. Вероятно, попытки Коннинкса залечить раны парня так и не достигли успеха. К некоторым страданиям нельзя прикасаться. Не согласны?
Барнаби никогда не думал об этом. Теперь, задумавшись, он решил, что Дженнингс, пожалуй, прав. И это его сильно опечалило. Трой добавил безысходности, спросив:
– Вы сказали, что мистер Коннинкс потерял зрение?
– Да, за несколько лет до смерти. Лайам делал для него все что мог и, когда старик в девяносто с лишним лет тяжело заболел, ухаживал за ним до самой его смерти.
По мнению Барнаби, это как раз не говорило о неспособности молодого человека любить, но ему не хотелось ставить плотину на разогнавшейся реке, и он смолчал.
– В завещании Лайам был назван единственным наследником. Он унаследовал дом, кучу денег и огромное количество картин. Как это часто случается после смерти художника, критики вдруг открыли, сколь многогранен и недооценен был Коннинкс, и за несколько недель цены на его полотна подскочили еще выше. Потом случилось нечто ужасное. Вести о баснословном наследстве, полученном Лайамом, быстро распространились. Дублин не такой уж большой город, и к тому же об этом напечатали в «Айриш таймс». На следующий день объявился Конор. Половина наследства – иначе он расскажет полиции, что Лайам не только причастен к убийству своего отца и помогал закапывать тело, но что именно его выстрелом отец был убит.
– А это правда? – спросил сержант Трой.
– Он клялся мне, что нет. Его версия: он спрятался в амбаре неподалеку от дома Конора, а тот вошел в дом взять денег и переодеться. Но Конора не было три часа. Вернувшись, он сказал, что Хэнлон больше не будет им досаждать. Лайам говорил мне, что больше ему ничего не удалось вытащить из Конора. Несомненно, Лайам испытал тогда такое облегчение, что не очень интересовался, во что обошлась его свобода.
– Но будучи на тот момент несовершеннолетним, – сказал Барнаби, – он мог не бояться полиции.
– Да, ничего серьезного, – согласился Макс. – Он понимал это, и Конор, вероятно, тоже. Но Лайам не мог отреагировать на эту новую угрозу рационально. Прежнее вернулось, понимаете? Ужас вернулся. Наши детские страхи пугают нас всю жизнь.
– Так как же он справился с таким поворотом событий?
– Ну, теперь-то все обстояло несколько иначе. Лайам стал старше, он был довольно богат, обладал широким кругом знакомств, некоторые его знакомые пользовались немалым влиянием. Но и Конор тоже процветал, хотя его успехи при близком рассмотрении выглядели довольно неприглядно. А знакомые его были очень уж неприятны. Насчет того, как Лайам поступил… так же, как поступал всегда. Держал Конора в ожидании, пока приводил свои дела в порядок, а потом бежал и на этот раз устроил все очень умно. Уехал в Англию, сменил имя и придумал себе совершенно другую биографию.
– Довольно решительный поступок, вы не находите? – спросил сержант Трой.
– Вам бы так не показалось, если бы вы слышали, как он сам об этом рассказывал. – Дженнингс прервался, чтобы выпить воды. И вид у него вдруг стал озабоченный, как будто мысли его внезапно резко сменили направление. Он поставил стакан и провел рукой по лбу, словно смахивая надоедливое насекомое. – Он решился на радикальные перемены не только для того, чтобы скрыться. Лайам питал довольно трогательную уверенность, что, изменив внешние детали и поведение, он чудесным образом преобразится внутренне.
– «Каждый день я становлюсь лучше и лучше…»[68]68
Это формула французского психолога Эмиля Куэ (1857–1926), разработавшего метод психотерапии и личностного роста на основе самовнушения. – Примеч. пер.
[Закрыть] – процитировал Барнаби.
– Вот именно. В какой-то степени, и на очень поверхностном уровне, это возможно, но раны, полученные Джеральдом, были слишком глубокими и нагноившимися, чтобы залечить их такими кустарными методами. Но, как вы, вероятно, слышали от всех, с кем был знаком Джеральд, внешне он справился с задачей блестяще. К моменту нашего знакомства он выглядел и разговаривал как типичный англичанин. Любой аристократический клуб был бы горд иметь его свои членом.
«Ну уж не знаю, – мысленно возразил Трой. – Попадись он им ночью, в белье с оборочками, под пикантной вуалькой, старичков джентльменов пришлось бы срочно поместить в палату интенсивной терапии. Мне, пожалуйста, тройное шунтирование, доктор, и поосторожнее с афродизиаками, вроде носорожьего рога».
– Исповедь Джеральда растянулась на несколько недель. Он растягивал ее дольше необходимого, добавлял посторонние сцены, искушая, как женщина, обнажающая часть груди. Сыпал ирландскими именами и фамилиями, о которых ни я, ни, подозреваю, кто-то другой, никогда не слышал. Явно воображал себя Шехерезадой. Пока рассказ о его злоключениях длился, мы продолжали встречаться. Когда он закончился… – Дженнингс неожиданно и неуклюже «сделал ручкой».
– Так он не добивался от вас физической близости?
– Конечно нет.
– Но если он был влюблен в вас…
– Он любил меня, а это не одно и то же. Он говорил, что раньше никогда ни к кому так не относился, и, рискуя показаться тщеславным, скажу, что я ему поверил.
– Он вообще говорил о сексе?
– Однажды, мимоходом. Он описал это как унизительный зуд, от которого избавляешься в гадких местах с гадкими людьми.
– Похоже, он не брезговал случайными связями, – заметил сержант Трой.
– Ну не с вами же, так что этого вы не знаете.
«Это уж точно, дружок, не со мной!»
– Подбирал себе мужчин в барах, парках, общественных туалетах.
– Возможно. Думаю, когда ему хотелось совсем уж расслабиться, он уезжал за границу. И эту часть своей жизни тщательно скрывал.
– Не понимаю почему, – удивился Трой, – это больше не запрещено.
– Да потому, что для него это было нечто постыдное, гнусное! – разозлился Дженнингс. – Я только что рассказал вам историю его жизни. Боже мой, неужели вы не можете сделать какие-то выводы!
Трой вспыхнул. Уже случалось, что его выставляли бесчувственным олухом. Когда он заговорил снова, в его хрипловатом голосе звучала явная издевка:
– Итак, что же разрушило небесную мечту о чистой любви, мистер Дженнингс? И сделало вас человеком, с которым он боялся оставаться наедине?
Дженнингс ответил не сразу. Он явно хотел удержаться от грубости, Барнаби видел, как он у него дернулись губы и тут же плотно сжались. Взгляд снова стал настороженным, шея и плечи словно окаменели.
Позже старший инспектор думал, откуда вдруг взялась его собственная следующая реплика. Он пытался отследить ее источник. Может быть, кто-то из членов писательского кружка что-то сказал ему о книге Дженнингса? Или он что-то слышал от Джойс? Или же книгу экранизировали и он, сидя в полудреме вечером у телевизора, нечаянно запомнил блеклый пейзаж, а потому сейчас у него возникло нечто вроде дежавю? Какова бы ни была причина, в нем крепла уверенность, что нельзя просто так отмести эти мысли. И он решил проверить:
– А Хедли знал, что вы записываете его откровения, мистер Дженнингс?
– Нет. – Он поднял голову и посмотрел на старшего инспектора устало и покорно, как если бы согласился поставить позорную точку в их разговоре после долгой, изнурительной борьбы. – Вы должны отдать мне справедливость, Барнаби. Я никогда не притворялся, будто сам сочинил эту историю.
Они сделали еще один перерыв. Опять заказали еду. И на этот раз старший инспектор не устоял. Он был голоден как волк. Он провел в допросной три часа, напряженно слушал – и все это на жалкой порции зелени, которая и кролика не насытит. Кстати – вдруг всплыло неизвестно откуда взявшееся воспоминание, кусочек какой-то давно забытой сказки на ночь, – кажется, салат обладает снотворным эффектом. Нет-нет, ему, как никогда, нужно сосредоточиться.
А сэндвичи были чудо как хороши. Толстые куски ростбифа с кровью, ветчина в оранжевой панировке с французской горчицей, сыр, красный лестер, и огурчики в сладком маринаде, и все это между толстыми ломтями белой булки или хлеба с отрубями, намазанного маслом.
– Это из столовой, сержант? – спросил Барнаби, тщательно отделяя веточку кресс-салата и откладывая ее в сторону.
– Ясное дело, из столовой, – с некоторым удивлением ответил Трой.
– Потрясающе.
– Правда?
Старик уже третий бутер уплетает! Трой же удержался и съел всего половинку. Иначе эти противные треугольники жира на пояснице никогда не исчезнут. Самый обыкновенный бутерброд. Что он в нем такого нашел?
Дженнингс опять съел очень немного.
– Должно быть, кого-то нового взяли на работу, – пробормотал Барнаби. – Ну что ж, – он отставил тарелку и перешел к делу. – Вы отдохнули, мистер Дженнингс?
– Нет.
– Ладно.
Трой взял поднос и положил его сверху на каталожный ящик. Сержант вспомнил, что остановились они на крайне неприятном для Дженнингса месте. И тому это очень не нравилось. Вернее, он растерялся. Привык быть впереди всех. Или, по крайней мере, наравне с другими игроками. А тут как будто ворота внезапно передвинули, и это никуда не годилось. Он напрягся, ему предстояло снова завладеть мячом. Вернее, историей.
– Если помните, – сказал Дженнингс, – я упоминал о романе, над которым работал, когда познакомился с Джеральдом. Мечтая заработать кучу денег, я писал шаблонную беллетристику: стандартные ситуации, картонные персонажи. Как я ни старался, мне не удавалось вдохнуть в этот роман ни единой искры жизни. А история Джеральда просто зажгла меня. Он был неважный рассказчик, и тем не менее она захватила меня с первого же дня. Я заполнил эмоциональные пробелы, сочинил угрюмые, черные болота, улицы Дублина. Написал диалоги Лайама и Конора. Я чувствовал, что знаю, как именно говорил Конор, хотя никогда его не видел. Как только Джеральд уходил, я все записывал, марал одну тетрадь за другой, тогда как до этого за день мне едва удавалось выжать из себя страницу. К концу его рассказа у меня набралось двести тысяч слов.
– В какой же момент вы сказали ему, что делаете?
– Ни в какой. Вы что, не понимаете… – Дженнингс, заметив иронически брезгливое выражение лица Барнаби, заговорил откровенно вызывающе: – Он бы просто замкнулся. Джеральд впервые рассказал кому-то всю правду о себе. Полагаю, не нужно вам объяснять, как это важно было для него, какой терапевтический эффект это имело.
– Я бы сказал, – сухо возразил старший инспектор, – что эффект во многом зависит от того, кому человек рассказывает о себе. И что слушатель делает с полученной информацией. Ваше предательство…
– Вы не имеете права так говорить! Я не планировал этого. Тогда точно нет. Я пытался убедить его обратиться к психоаналитику. Я знал пару прекрасных специалистов, а он мог себе это позволить.
– И как он отреагировал на это ваше предложение?
– Он очень расстроился. Сказал, что не сможет рассказать об этом кому-нибудь еще. Мне-то все выложил, потому как чувствовал, что я собираюсь его оставить.
Я сделал из записанного за ним роман. Это не заняло у меня много времени. Все, что я записал, было так свежо, так полно жизни. Я дождаться не мог, когда вернусь с работы домой и сяду за машинку. Еще не написав и половины, я был уверен, что это кто-то купит. Я проверил Джеральда. Сказал ему, что кое-что записал, просто для себя, как памятку. Он не возражает? Он немедленно потребовал показать ему записи. Я отдал ему одну из своих записных книжек, и когда мы встретились снова, он сказал, что сжег ее.
– То есть вы знали, как болезненно он к этому относится?
– Знал.
– И видимо, вам следовало тогда же положить этому конец?
– Легко сказать. Послушайте, – он заговорил горячо и настойчиво. Ему очень хотелось убедить собеседника. – Он не должен был узнать о книге! Все имена были изменены. И…
– Ну можно ли быть таким простодушным, мистер Дженнингс? Все это очень логично, но кража есть кража.
– Писатели всю жизнь крадут. Разговоры, манеры, случаи, шутки. Мы совершенно аморальны. Мы воруем даже друг у друга. А сделайте что-то подобное в кино – и это назовут оммаж, «дань уважения».
– Аргумент, безусловно, очень утонченный, но факт остается фактом: это его история.
– История принадлежит тому, кто может ее рассказать! – Дженнингс пришел в такое раздражение, что не находил себе места. Видно было, что он очень старается оставаться вежливым, но все чаще у него прорывался тон преподавателя, столкнувшегося с особенно тупым учеником. – У Джеральда не было ни таланта, ни воображения. Эта замечательная история пропала бы. Была бы потеряна. «Далекие холмы» прославили его. Если существует такая вещь, как анонимная слава.
Барнаби не ответил. Теория Дженнингса представлялась ему страшно правдоподобной и утонченно гнилой. Однако Трой, который к тому времени не только понял правила игры, но и увидел возможность забить гол, сказал:
– При всем уважении, сэр, мне кажется, что прославились-то вы.
– Итак, когда вы все-таки сказали ему?
– Никогда. Я пытался. И не единожды, но у меня всякий раз сдавали нервы.
– Не могу сказать, что удивлен.
– В конце концов я послал ему по почте сигнальный экземпляр.
– О господи!
– С сопроводительным письмом, разумеется. Объясняющим, как я объяснил вам, почему я это сделал. Я просил его постараться меня понять. Я ожидал, что через час он появится у моей двери, либо в ярости, либо готовый покончить с собой. Но он не появился. Я позвонил, но мне никто не ответил. Я решил, что, возможно, он уехал на выходные. Честно говоря, я был не против отсрочить неприятный момент. Но прошло десять дней, и я стал волноваться, поехал к нему. Портье сказал, что Джеральд уехал в большой спешке. «Смылся» – так он выразился. Адреса своего не оставил. Я больше ни разу не видел его. До прошлой недели.
– Но ведь вы пытались его найти, верно?
– Еще бы! Я давал объявления в «Таймс», и даже в «Гей таймс», в «Телеграф», в «Индепендент». Я подумывал нанять частного детектива, но это уже напоминало бы охоту. Позже я узнал, что все это время он жил в отеле за углом.
Барнаби представил себе, как Хедли получает бандероль, возможно первый подарок от «единственного человека, к которому он что-то испытывал». Как разрывает упаковочную бумагу, как постепенно до него доходит, что друг жестоко его предал. Как он потом прячется в соседнем отеле, боясь, что ему сделают еще больнее. Старший инспектор, обращаясь к самому себе, пробормотал:
– Вот бедняга.
– Когда книга вышла, я еще раз попробовал. Был такой отклик на нее, вы знаете! Сотни писем. Со словами поддержки, понимания, сочувствия. Писали сломленные в детстве люди с искалеченными судьбами, пытавшиеся теперь осмыслить прошлое. Это были полные любви письма, его убеждали, что он не одинок. Я знал, что это помогло бы ему. Но я не мог найти его, потому что он не хотел, чтобы его нашли. И так продолжалось, пока, как вы знаете, я не получил от него известие.
– Вы сохранили письмо?
– Боюсь, что нет. Я мало что храню. Все письма, кроме деловых, я отправляю в мусор, как только на них отвечу.
– Вы, вероятно, запомнили подробности, мистер Дженнингс, – сказал Трой. – После того, что вы сейчас нам рассказали, это письмо, вероятно, было для вас громом среди ясного неба.
– Да нет, не настолько… Все-таки прошло десять лет. Я опубликовал еще несколько книг и тоже получил свою долю страданий. Мне не раз приходило в голову, что смерть моего ребенка в каком-то смысле наказание за то, что я сделал с Джеральдом. Только вот Аве за что так досталось?
«Не говоря уж о мальчугане», – подумал Трой в своем углу.
– В общем, там было написано, что к нему, как к секретарю кружка, обратились с просьбой пригласить меня. Остальная часть письма имела целью отговорить меня от визита. «Болезненные воспоминания», «невыносимая ситуация», «не надо будить спящую собаку» и так далее. Его стиль не стал лучше. Сначала я хотел было прислушаться к намеку и никуда не ехать. Но чем больше я об этом думал, тем больше мне казалось, что, несмотря на попытки отговорить меня, хочет он прямо противоположного. Поэтому, как вам известно, я принял приглашение.
У Дженнингса был очень усталый вид. С одной стороны, напряженный, с другой – какой-то потерянный, как будто он шел-шел по дороге, а она вывела его совсем не туда. Гладкое загорелое лицо пошло пятнами. Казалось, кожа слишком сильно натянута на череп. Нос заострился. Фиолетовая сетка покрыла подглазья, как будто его кто-то щипал. Когда Барнаби задал ему следующий вопрос, он ответил совершенно бесцветным голосом. И скучным тоном.
«Интересно, – подумал старший инспектор, – он и правда так вымотался или нарочно экономит силы, чтобы не пропустить чего-то очень важного в этой самой важной части нашего разговора?» Барнаби держал паузу, рассматривая ковер с замысловатым узором, который перед ним только что развернули, – трагическую жизнь Лайама Хэнлона, он же – Джеральд Хедли.
Ему было тягостно все это знать. И крупные планы отдельных сцен, и запомнившиеся подробности – все вызывало у старшего инспектора острую жалость к покойному. «И если вы, Дженнингс, – про себя пообещал Барнаби, – во второй раз украли у него жизнь, я заставлю вас за это ответить. Клянусь Богом, заставлю!» Но это не отразилось на его лице, которое по-прежнему оставалось бесстрастным.
– Я полагаю, мистер Дженнингс, сейчас вы предложите нам совершенно иную, я бы сказал – отредактированную, версию того, что случилось вечером в понедельник.
– Что касается первой половины вечера, тут мне нечего редактировать. Все было именно так, как я вам рассказал, кроме моего собственного отношения к этому, разумеется. Я сам удивился, что меня так сильно тронула встреча с ним. Когда я ехал туда, я чувствовал разве что легкое любопытство: какой он стал, как будет держаться? И конечно, я смутно надеялся как-то дать ему понять, почему я сделал то, что сделал, десять лет тому назад. Но если раньше я никогда не ощущал к нему ничего похожего на привязанность, то наша последняя встреча вызвала во мне именно такие чувства. А Джеральд на меня почти не смотрел. Тогда я решил во что бы то ни стало поговорить с ним. Я и приехал пораньше именно для этого, но Сент-Джон был уже там. Как вам известно, мне все-таки удалось выставить его и запереть дверь.
Я вернулся в гостиную и то, что случилось после этого, очень расстроило меня. Он совершенно сломался. Он пятился от меня, махал руками и кричал: «Уходи, уходи!» Я не знал, что делать.