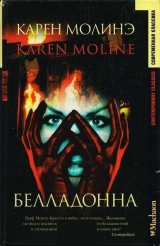
Текст книги "Белладонна"
Автор книги: Карен Молинэ
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 35 страниц)
– И впоследствии, – продолжаю я, – когда вы сумели добраться до Бельгии, вас встретил чрезвычайно неприятный сюрприз. Вы поспешили в Швейцарский Консолидированный банк, и вам сообщили, что счет номер сто шестнадцать – шестьсот четырнадцать был закрыт совсем недавно, и след уже простыл. Вам ничего не оставалось, кроме как поддерживать контакты очень необычного свойства с другими членами Клуба, в надежде, что угрозы или шантаж разожгут в них бдительность и они вовремя предупредят вас, если им покажется, что за вами кто-то следит. Они, разумеется, не подозревали, что ваша обожаемая, драгоценная собственность отважилась бежать.
Я смотрю в стену, мимо него. Мне страшно увидеть его лицо, пусть даже он прикован к стене и не может схватить меня за горло.
– В конце концов, – добавляю я, – вы решили, что самое подходящее прибежище – Марокко. Там вы без помех сможете предаваться любимому занятию – похищать и истязать женщин. В этой стране бакшиш творит чудеса, не так ли? Вам помогали толстые стены и верные слуги. Я прав? Близок к правде?
Он ничего не говорит.
– Что вы чувствуете, зная, что там, наверху, ваш сын? – не отстаю я.
– А что я должен чувствовать? – шипит наконец Его Светлость. Разговор о Гае переполнил чашу его терпения. – Жалкий мягкотелый дурень, такой же, как вы все. Всегда был маменькиным сыночком, хлюпик безвольный.
На миг мне вспоминается мальчик в Лондоне, который нам помогал. Притч сказал, его звали Арундел Гибсон. Он предал отца, чтобы защитить мать и сестру. Интересно, смогу ли я когда-нибудь увидеть Арундела и сообщить ему, какую грандиозную услугу он нам оказал. Вряд ли. Он слишком далеко отсюда, а мне сейчас нелегко общаться с людьми – взор мне застилает туман. Мне виден только один человек – с блеклыми голубыми глазами, тот, кто сейчас сидит, развалясь, будто он и не в подземном каземате, а у себя в гостиной на Итон-сквер.
Кто вы такой? Зачем вы здесь?
– Ты когда-нибудь задавался вопросом, почему тебя схватили? – говорит мне Его Светлость. – Интересовался, кто вас предал?
– Да не очень, – отвечаю я. – С тех пор прошло много лет. И ущерб, нанесенный нам, не исправить.
– Верно, не исправить. Ущерб, нанесенный вашей драгоценной мужественности, – продолжает он, потом вдруг разражается жутким лающим смехом. – Но я знаю, кто вас предал. Хочешь знать?
– Нет, – отвечаю я, но мой голос дрожит.
– Когда я покупал вашу свободу, мне рассказали, кто вас предал, – продолжает он. – Если бы не я, ты бы не стоял сейчас здесь и не помыкал своим бесценным узником. Но я все равно скажу. Ты должен знать.
Наступает краткая, напряженная тишина. Я с трудом удерживаюсь, чтобы не ответить ему, но сил не хватает. Я спрашиваю его, кто же это был. Слова сами соскальзывают с языка, я не успеваю остановить их, хотя и понимаю: он всего лишь дразнит меня, чтобы отомстить за мое превосходство в разговоре. Эти слова повисают в воздухе, будто удушливый дым, будто воспоминание о том, как вонял Мориц, с дробовиком под мышкой возвращаясь с ночного обхода.
Кто это был? Кто вы такой? Зачем вы здесь?
Он опять смеется. Он чуть ли не счастлив. Его скрежещущий смех гулко перекатывается по склизким кирпичным стенам.
– Да твой же родной брат, толстый ты дурень, – говорит он. – Вас предал Маттео. Как ты думаешь, почему ему отрезали язык? Чтобы он не сумел рассказать о своем падении. Но эти итальяшки ничего не могут сделать как следует. Никчемный народ. – Он все еще смеется. – Нехорошо поступил твой любимый брат-близнец, очень нехорошо. Желал тебе смерти. Разве можно так поддаваться ревности?
Где-то возле моей лодыжки зарождается болезненная дрожь, она поднимается все выше, к сердцу, сжимает его тугим кольцом, охватывает мое тело, как корсет, зашнурованный так туго, что я не могу дышать и хватаю воздух ртом.
– Иди же, спроси его, – говорит Его Светлость. – Я тебе разрешаю.
Вот как он этого добивается, осознаю я. Вот как он правит ими – членами Клуба. Вот почему слуги так преданы ему. Вот почему и мы были ему верны; вот почему мы остались в Бельгии. Он находит у каждого человека слабое место и наносит убийственный удар.
Неужели Леандро был так же безжалостен с врагами? Нет, Леандро, наверное, был достойным противником. Леандро знал бы, что делать, как обезвредить эту бомбу, пока она не взорвалась и выстроенное нами здание не рухнуло с чудовищным грохотом.
– Я так и знал, что вы это скажете, но я вам не верю, – говорю я, стараясь не выдать голосом своих мыслей. Я не доставлю ему удовольствия, не покажу, как больно он ранил меня. – От всего вашего могущества вам остался только язык. Вид у вас куда более жалкий, чем вы полагаете.
Он опять мерзко хихикает. Я оставляю его и иду искать Маттео. Он в бассейне, плавает кругами, соблюдая идеальный ритм, туда – обратно, туда – обратно. Я долго сижу и смотрю. Наконец он вылезает из воды и по-собачьи встряхивает шевелюрой. Проклятье. Волос у него гораздо больше, чем у меня. Это несправедливо. Наверно, женитьба действует, как тоник для волос.
Этого мне никогда не узнать.
– Седеешь, – замечаю я, когда он вытирается полотенцем.
– Как и ты, fratello mio, – отвечает он. Его Светлость плохо действует на нас. Нам кажется, что мы опять очутились в Бельгии. – Что случилось? Он говорил тебе всякие гадости?
– Как ты догадался?
– Потому что он говорил те же самые гадости мне.
Тяжелое кольцо вокруг моего сердца мало-помалу распадается.
– Догадываюсь, – говорю я, и мы оба улыбаемся. – Почему ты сразу мне не сказал?
– Хотел посмотреть, выкинет ли он тот же фокус с тобой.
– Премного благодарен, fratello mio, – говорю я.
– Не за что.
Я лениво болтаю ногой в теплой воде бассейна.
– Что будем делать? – спрашиваю я. – С одной стороны, нам нужно, чтобы он сидел взаперти и страдал много-много лет, но, пока он здесь, пока он жив, мы тоже взаперти, страдаем вместе с ним.
– Леандро говорил: если мы не знаем, что делать, значит, мы еще не готовы к этому, – говорит Маттео.
Размышлять и планировать, подразумевает он. Планировать и размышлять.
– Нам поможет вот это, – добавляет он и протягивает мне книгу, которую читал. Толстый том в кожаном переплете. «Повесть о двух городах». Потом открывает ее. Внутри спрятана потрепанная книжечка, которую я ни разу не видел после холодного зимнего дня в Бельгии. «Руководство по ядам для знатоков».
– Знаешь, пора нам прекратить потрошить книги, – говорю я.
– Я опять подумывал о ботулизме, но это слишком рискованно. В доме очень много народу, – говорит Маттео голосом таким беспечным, будто речь идет о том, чтобы забрать Брайони из школы.
– Нет, мне этого не сделать, – отвечаю я. – Ни с безвременником, ни с чем-то другим. Больше не смогу.
– Понимаю, – говорит Маттео. Он закрывает Диккенса, и мы долго сидим, вытянув ноги в воде. Вдруг он смеется. – Ну о чем мы беспокоимся? – говорит он. – Решение здесь, у наших ног.
– Хлор, что ли? – спрашиваю я.
– Нет, drogato. В саду. В Саду Адского Пламени.
Я не сразу понимаю, о чем он говорит, и вдруг до меня доходит. Впервые за много месяцев я широко улыбаюсь.
– Мой милый старший братец, ну и хитер же ты, – говорю я ему, сияя. – Гениальная идея. Та самая штука, которая прикончила нашего гнусного страуса.
– Поганца Пушистика.
– Да, поганца Пушистика. Прикончит и Его Светлость.
Он имеет в виду мандрагору. Mandragora officinarium. Божественное растение, любимый талисман колдунов. Досточтимый корень, символ мужественности, он прокладывает себе дорогу сквозь толщу земли и изгибается, принимая очертания главной сущности секса. Растет здесь, в нашем собственном Саду Адского Пламени.
«Выкапывай его только на закате, – говорила Катерина. – Не дергай сильно, а то закричит. Заверни в саван и храни в темноте».
– Но мы же не знаем, как им пользоваться, – говорю я.
– Наверняка у Помпадур была книжечка по садоводству, где говорится о мандрагоре, – отвечает он. – Если она на латыни, попрошу Матушку Хаббард перевести нужное место.
– Пойду поищу, не откладывая.
– Только смотри, чтобы тебя не увидела Белладонна, – предупреждает он.
* * *
Хаббард охотно переводит главы из найденной мною книги. Ее пергаментные страницы пожелтели от времени, но содержание их не растаяло в веках.
– По словам мадам де Леспинасс, достопочтенной авторессы, признанного авторитета в садово-парковом искусстве середины восемнадцатого века, мандрагора имеет два ценных свойства, – говорит он ровным голосом, хотя в душе наверняка кипит от любопытства. Мысленно я еще раз благодарю Джека за ту дальновидность, с которой он подбирал нам персонал. – Это афродизиак и яд. Другими словами, служит для возбуждения и для смерти. Мадам де Леспинасс приводит несколько различных, необычайно сложных формул для каждого из этих применений. Переписать их для вас?
– О да, пожалуйста, – отвечаю я таким же ровным голосом, хотя в душе у меня все трепещет от волнения. – Если вам не трудно.
Слова Хаббарда помогают мне прийти к решению. Афродизиак и яд. Для возбуждения и для смерти.
Аромат убийцы – сильнейшее возбуждающе средство.
Да, мы приготовим афродизиак, белый крем в маленькой баночке, с легким запахом корицы, и спрячем его, пока не понадобится. Однажды ночью, когда она, измученная, погрузится в сон, мы с Маттео крадучись выйдем в сад и выкопаем корень мандрагоры, который она выращивала годами, поливала медовой водой, шептала заклинания, которым научила ее Катерина.
Мы будем ждать, что он закричит, но не услышим ни звука, кроме уханья совы, мышиного писка да прочих ночных шорохов.
Мы завернем корень в саван, высушим его, разотрем в порошок. Запах у него странный, очень едкий, и я опасаюсь, что кто-нибудь уловит этот запах на моих пальцах. На всякий случай мы не снимем кожаных перчаток и каждый день будем протирать руки целыми бутылями лосьона, так что никто ни о чем не догадается.
А если дела пойдут совсем плохо, приготовим яд, медленно действующий и неотвратимо смертоносный. Его Светлость никогда не догадается, что его еда отравлена. Мы будем кормить его, пока не появятся первые симптомы, но действие наступает так постепенно, что поначалу отравление будет похоже на обычное недомогание, и Белладонна ничего на заподозрит. А потом, когда ему станет хуже и он не сможет больше изрыгать ненависть, я шепну наш секрет ему на ухо, и он будет знать. Он узнает, что его отравили самым могучим колдовским символом мужественности, и поделать ничего нельзя. Противоядия не существует. Мы будем увеличивать дозу очень медленно, осторожно, о, как тщательно мы спланируем его смерть, будем выжидать, пока он не захлебнется собственным ядом. А потом наступит конец. Он будет кричать, корчиться в мучительной агонии, и смерть покажется ему благословением, и никто не придет утолить его боль, кроме призраков замученных рабынь.
Я и не говорил, что мы приятные люди.
Белладонна – смерть твоя.
У нас только одна сложность – на ком испытать средство? Об этом никого нельзя попросить.
* * *
И так опять и опять.
– Где мое дитя? – спрашивает она, и он ее дразнит.
Неделя идет за неделей, месяц за месяцем. Лицо Белладонны стало таким же пепельно-серым, как у Его Светлости. Изнутри ее гложет червь, он взрастает на ее муках, кормится ядовитыми мыслями. Теперь ей тяжело говорить с людьми, даже с Брайони. На наших глазах она превращается в живое привидение.
Жажда мести победит тебя, если ты не победишь ее.
Мы с Маттео больше не можем этого выносить, и однажды, когда Гай уехал на верховую прогулку, а она медленно поднимается по лестнице из винного погреба, мы поджидаем ее в кухне.
– Знаешь, он тебя одолевает, – говорит ей Маттео. – Не позволяй ему этого.
– Это все, что ты хотел мне сказать? – ледяным тоном отвечает она, прочистив горло.
– Нет, – добавляю я. – Мы просто хотели напомнить, что у тебя здесь есть нечто очень ценное. Такое, чего нет у него.
– Да неужели? Ты говоришь о моей свободе? – с глубочайшей горечью спрашивает она.
– Не только. Кое-что еще.
Она смотрит на меня. В ее пустых глазах – бездна.
– Я говорю о человеке, – продолжаю я.
– Нет, – отвечает она.
– Да. – Я набираюсь храбрости и стою на своем. – И осмелюсь предположить, что Его Светлость грызет изнутри дух соперничества с этим человеком, хотя он и никогда не признается в этом. Откровенно говоря, я бы даже допустил, что Его Светлости причинит боль одна-единственная мысль: представить, что между тобой и его ненавистным потомком происходит что-то интимное.
– Я не могу, – произносит она после долгого, скованного молчания.
– Откуда ты знаешь? – спрашиваю я. – Разве ты пыталась?
Она оборачивается ко мне, и ее глаза внезапно вспыхивают огнем. Она не понимает, что я стараюсь разозлить ее, вывести из себя, чтобы она сделала хоть что-нибудь, все, что угодно, только не сидела возле Его Светлости на низенькой табуретке в бездонной черноте у нас под ногами.
– Знаешь, Гай так любит тебя, что не ждет слишком многого, – спешит добавить Маттео. – Тебе не кажется, что Его Светлость взбесится, если увидит у тебя на пальце некое кольцо?
В конце концов, он большой любитель всяких колец.
Она смотрит на Маттео, переводит взгляд на меня, прикусывает губу и бежит наверх. Потом говорит Орландо, что неважно себя чувствует и не хочет видеть ни Брайони, ни Гая вплоть до особого распоряжения.
* * *
Мы с Гаем сидим на веранде и смотрим, как в сумерках гоняются друг за другом мотыльки. Я вспоминаю Италию, запах подсолнухов на полях, горячий ручей в Сатурнии, и вдруг в памяти воскресает одна картина.
– У Леандро в коридоре была скульптурная мраморная панель. Ахилл на пути в Трою, – говорю я Гаю. – Он рассказал нам связанный с ней миф. Однажды Ахилл ранил копьем местного царя. Рана никак не затягивалась, и Ахилл пошел за советом к оракулу. Прорицательница сказала, что он доберется до Трои только в том случае, если его согласится вести царь, которого он пытался убить.
– Иными словами, переспать с врагом, – тихо говорит Гай.
– Вроде того, – соглашаюсь я. – Выяснилось, что король тоже советовался с оракулом. И ему было сказано, что он, раненый, может исцелить того, кто его ранил.
– Ты хочешь сказать, только сам раненый может исцелить врага, который его ранил.
– Совершенно верно.
– Почему ты вспомнил эту историю именно сейчас? Намекаешь, что речь идет обо мне и о моем отце? Думаешь, он каким-то образом способен исцелить меня? И я должен спуститься в его обиталище и сказать пару ласковых? – печально спрашивает Гай. – Пожелать ему доброго пути в преисподнюю?
– Не знаю, Гай, – устало отвечаю я. – Не знаю, что думать, что делать. Мне просто вспомнилась Сатурния, теплые источники. Леандро рассказывал, что в таких местах даже злейшие враги складывали оружие, чтобы вместе исцеляться.
– Что ответила Белладонна, когда он рассказал ей об этом?
Я изо всех сил стараюсь припомнить.
– Кажется, Маттео сказал, что он никогда бы не смог сложить оружие рядом с врагом, и Белладонна с ним согласилась. И тогда Леандро сказал: «Они придут к тебе, если не будут знать, кто ты такая». И отсюда, я уверен, у нее возникла идея организовать клуб «Белладонна».
– Сдается мне, ты, Томазино, пытаешься в своей окольной манере сказать мне, что я рано или поздно должен увидеться с отцом.
– У него поубавится бодрости, когда он увидит кольцо, – говорю я.
Гай опускает глаза на свои руки, на пальцы без колец, потом глядит на меня, и на его губах появляется тень улыбки. Из-под рубашки он вытягивает цепочку. На ней позвякивает тонкое золотое кольцо.
– Может, ты кое-чего не заметил?
– Надеюсь, заметил, – самодовольно отвечаю я, стараясь не выказывать обиды на то, что они с Белладонной не пригласили меня на свадебную церемонию. Наверное, все устроил Хаббард по просьбе Белладонны – оформил документы, организовал анализ крови, пригласил мирового судью, и тот незаметно проскользнул в Дом Тантала.
– Жаль, что там не было Брайони. Может быть, однажды вы устроите нормальную свадьбу, и она будет держать вам букет.
– Прости. Знаешь, мне, честное слово, очень неудобно перед тобой за то, что тебя там не было, – говорит Гай. – Но ничего поделать было нельзя. Все произошло в мгновение ока.
– Она не хочет, чтобы ты носил кольцо, потому что боится, как бы его кто-нибудь не увидел, да? Кто-нибудь, кроме него?
– Да, – отвечает он. – Я ношу его на цепочке на шее. – Он молчит и вздыхает. – Жаль, что его не видит Брайони. Она всей душой мечтает о папе.
– Да, знаю. Скажи, ты удивился, когда Белладонна…
– Видел бы ты мое лицо. Но все было не так. Она не подошла и не попросила напрямик.
Конечно, не попросила. Делать предложение мужчине – это совсем не в духе Белладонны.
– Она постучалась ко мне в дверь, вошла, села в шелковое кресло и сгорбилась, как всегда. Очень долго не говорила ни слова. Я был счастлив просто смотреть на нее. Потом она прокашлялась и спросила, могу ли я сделать ей одолжение, – продолжает Гай. – «Конечно, могу, – ответил я. – Все, что угодно». Она бледнела все больше и больше, будто вела тайный разговор с демоном, видным только ей одной. Потом ее щеки вдруг вспыхнули, она попросила меня немедленно одеться и встретить ее возле Дома Тантала. Выбежала из комнаты, я накинул одежду и бросился за ней. В дверях меня встретили Хаббард и тот странный парень – Билли. Не успел я опомниться, глядь – мы уже женаты. Я был так ошарашен, что не мог и слова сказать. Я взял ее в законные жены, или как там говорится в этой чертовой стране, а Хаббард протянул мне кольцо. – Он вздыхает. – Она закрыла глаза, сняла кольцо, которое обычно носит на пальце, дала мне надеть обручальное кольцо, а поверх надела свое старое. Его и не заметишь, если не приглядываться. Потом мы пошли обратно к дому, и я дал ей слово, что не прикоснусь к ней, как муж касается жены, если она сама этого не захочет, – продолжает Гай. – Она ничего не говорила, пока мы не дошли до лестницы, потом обернулась и посмотрела на меня. В первый раз посмотрела. «Прости», – сказала она и убежала вверх по лестнице.
Его голос дрожит, и у меня заходится сердце. Я достаю один из драгоценных носовых платков Леандро и вытираю нос. Сентиментальный я дурачок. Гай, в отличие от Леандро, не стар и не лелеет воспоминания о былой любви. Еще ни одна женщина не дарила Гаю настоящих восторгов, догадываюсь я, глядя на его лицо, искаженное бурей чувств. Ни одна женщина не обвивала руками его шею, не любила его с истинной страстью, какой он заслуживает.
И ни одна женщина никогда не полюбит меня.
– Он поймет, что она меня не коснулась, – говорит Гай. – Мерзавец, он сразу все поймет. Долго ли он выдержит там? – Он прячет лицо в ладонях. – Как ему удается сохранять такое дьявольское спокойствие?
– Он – исчадие тьмы, – отвечаю я. – Она его породила.
– А он породил меня, – стонет Гай.
– Тогда пусть он же тебя и исцелит.
Гай глубоко вздыхает и встает.
– Ладно, черт побери, я иду вниз. Никуда не деться. – Он вытягивает цепочку, расстегивает ее, снимает обручальное кольцо и желает мне доброй ночи.
Я иду за ним на почтительном расстоянии. Он медленно спускается по лестнице, зажигает фонарь и садится на низенькую табуретку Белладонны, сцепив руки перед собой. От шороха его отец просыпается, замечает в тусклом свете блеск золотого кольца и смеется своим страшным скрежещущим смехом.
– Я-то думал, ты избавишь меня от удовольствия еще раз беседовать с тобой, – говорит Его Светлость. – Тебя, очевидно, нельзя назвать человеком слова.
– Этому я научился у тебя.
– Ну, как она? Оправдала твои надежды? – ухмыляется Его Светлость. – И не стоит сверкать передо мной твоим кольцом, меня не обманешь. Мог бы порасспросить об ее искусстве своих старших братьев. Я хорошо ее обучил, она умеет услужить мне. Я сбился со счета, сколько раз они оба имели ее.
Его братья и все члены Клуба.
– Ты лжешь, мерзавец, – говорит Гай.
– С чего мне лгать в таких вещах? – саркастически усмехается Его Светлость. – Я страшно гордился, предлагая такое наслаждение своим детям, плоти от плоти моей. В один торжественный момент Фредерик даже имел возможность продемонстрировать ее навыки перед избранной группой джентльменов.
– На аукционе, через три года после того, как ты похитил ее, обманул и купил, – с горечью говорит Гай. – Фредерик был одним из тех, кто предложил наивысшую цену, правда?
Его Светлость откидывается назад и молчит. Гай внезапно осознает, что отец понятия не имеет, много ли этот сын знает о Клубе и его членах.
– Мне все известно, – говорит Гай, и в этот миг его голос становится до изумления похож на голос человека, которого он ненавидит всей душой. – Как ни жаль, вынужден сообщить, что она вела дневник и дала его прочитать мне. Она делала записи на клочках бумаги для акварели, которой ты предусмотрительно снабжал ее, а Томазино переписал обрывки в одно целое. Твои слуги ни разу не застукали ее за этим занятием; и ты не сумел разыскать ее после бегства.
Его Светлость сверкает глазами и встает.
– До чего трогательно, – шипит он, брызжа слюной. – Только вряд ли она записала, как сильно ей это нравилось.
«Я не сдамся, – говорит себе Гай. – Слова – это единственное оружие, какое у него осталось». Он ловит себя на том, что в неимоверном ужасе смотрит в лицо отца и не знает, что сказать. Потом вдруг выпаливает:
– Почему ты женился на моей матери?
– На твоей матери? Потому что она была слаба и покорна, во всем слушалась меня. Она обожествляла меня, по крайней мере до первой брачной ночи, – отвечает Его Светлость. – А потом было уже поздно. Бывшая благочестивая девственница не могла вернуться в слезах к мамочке, истекая кровью, запятнанная позором. – Он улыбается и разглядывает ногти. – Но, говоря по правде, должен признаться, что она обладала весьма завидным состоянием. Как больно тебе, поди, сознавать, что твоя родная мамочка во многом обеспечила мне необходимые средства для того, чтобы купить твою собственную жену.
– Моя жена сама пришла ко мне и предложила руку и сердце, – говорит Гай, покривив душой совсем чуточку. – Ты никогда не сможешь похвастаться этим.
– Думаешь, твоей жене пришло бы в голову выходить за тебя, если бы я заранее не обучил ее всем премудростям? – поддразнивает Его Светлость.
Гай торопливо удаляется из камеры, спешит скрыться в темноте, пока отец не произнес еще хоть слово.
* * *
Маттео хочет вернуться домой, но понимает, что это будет нечестно – оставлять меня, когда еще ничего не улажено. К тому же еще не пришло время вручать Белладонне два наших свадебных подарка.
Первый подарок – результат частных консультаций с Его Светлостью. Он знал, что время для таких консультаций рано или поздно придет. Я справедливо рассудил, что у Белладонны не хватит сил встречаться с ним сразу же после свадебной церемонии, поэтому мы попросили помощи у Орландо. Нам хотелось закончить дело как можно скорее. Орландо прекрасно знает, что делать, его методы эффективны и в то же время не оставляют видимых следов, которые могли бы навести Белладонну на подозрения.
Но что бы мы ни делали с Его Светлостью, он не сдается. Через несколько мучительно долгих часов Орландо возвращается к нам и пожимает плечами. Его лицо изборождено морщинами. Мы готовы признать поражение. Его Светлость лежит на боку, стонет и что-то бормочет. Маттео склоняется к его лицу, потом выпрямляется и выходит из камеры.
– Что он сказал? – шепотом спрашиваю я.
– Что-то вроде «морковь», – отвечает мой брат.
Морковь? Что за чертовщина?
Мы поднимаемся наверх, совершено разбитые. Я устало карабкаюсь по лестнице к себе в комнату и падаю без сил. Он сказал: «Морковь». Что-то о моркови. «Если хочешь о чем-то вспомнить, перестань думать об этом, и тогда озарение придет само», – говорил мне Притч. Они сами придут к тебе, если не будут знать, кто ты такая. «Да был ли он вообще, этот клуб „Белладонна“?» – спрашиваю я себя и проваливаюсь в глубокий сон. Обрету ли я когда-нибудь покой?
Проснувшись, я уже знаю, о чем говорил Его Светлость.
Морковь. Морковные грядки в Бельгии.
«Твой ребенок умер, мы похоронили его возле леса, по ту сторону морковных грядок». Вот что шептал ей тогда Хогарт, смутно припоминается мне. Незадолго перед тем, как…
Я сразу же звоню Притчу, он обещает мне безотлагательно поставить на ноги бельгийскую команду. Теперь у них есть точные указания – где вести раскопки.
Мне кажется, я развалюсь на части, как голова Хогарта.
Через три недели звонит человек из команды Притча. Он представляется Стрижом и вкратце сообщает, что они нашли в огороде крохотный скелетик и патологоанатом подтвердил, что останки человеческие. Я благодарю его и вешаю трубку. Докладываю Маттео и Гаю, и мы обдумываем, как рассказать об этом Белладонне. Вечером, когда Брайони легла спать, мы поднимаемся к ней и сообщаем новость. Она долго сидит в постели, оглушенная.
– Я не верю, – произносит она наконец. – Я хочу вернуть свое дитя и буду держать его там, пока он не расскажет, где Тристан.
– Как ты можешь продолжать эту пытку, когда твое дитя, то, которое у тебя осталось, невыносимо страдает? – взрывается Гай. Она оборачивается и смотрит на него. В ее глазах все та же ужасающая пустота. – Если бы ты дала себе труд подумать о ком-то, кроме себя самой, то заметила бы, как переменилась Брайони. Она больше не поет, растеряла всю свою веселость, тревожится за тебя. Ей кажется, что она сделала что-то очень плохое, из-за чего ты заболела, и что теперь ты наказываешь ее. Жестоко так поступать с ребенком.
«Что ты понимаешь в детях?» – хочет осведомиться Белладонна, но вовремя вспоминает о его сестре Гвенни и прикусывает губу. На миг по ее лицу пробегает тень, будто бы она готова уступить, покориться ему, Гаю, своему мужу, который всей душой любит ее и ребенка. И в этот миг мне кажется, что я вижу ее такой, какой она была давным-давно, в восемнадцать лет. До того, как ее нашли и обманули. До всего. Потом она снова надевает маску, становится жесткой и колючей, как обычно. Я моргаю, спрашивая себя, не привиделось ли мне это.
– Кроме того, он уже все сказал, – говорю я. – Среди нас ты одна не хочешь поверить в очевидное. Сам Притч признался мне, что не удалился бы от дел, если бы считал, что остается хоть капля надежды отыскать Тристана. А если твоего сына не нашли в Марокко, значит, его нет в живых. Не думаю, что даже Его Светлость способен…
– На что? – перебивает она. – Положить в могилу труп другого младенца и похитить мое дитя, чтобы терзать меня? Откуда ты знаешь? Откуда? – Когда она сердится, то не повышает голос; наоборот, он становится глухим и низким. Очень низким, почти как у него. – Зачем ты убил Хогарта? – говорит она яростным шепотом, чуть ли не шипит. – Он был единственным, кто мог сказать, что они сделали с моим ребенком. Зачем, зачем ты поступил так со мной?
Нет, она перешла все границы. Кровь во мне вскипает, железное кольцо боли, стягивающее мое сердце, раскаляется жарким пламенем и выжигает на нем огненное клеймо. В том, что наша жизнь превратилась в ад, она винит меня! От этих ложных обвинений я перестаю владеть собой.
– Как ты смеешь упрекать меня? – рычу я в ответ. Маттео кладет мне руку на плечо, но я стряхиваю ее и встаю, чтобы моя тирада звучала еще выразительнее. – Как ты смеешь? Ты считаешь, что право на страдание принадлежит только тебе, что оно снимает с тебя бремя заботы о других, прежде всего о тех, кто любит тебя? Ты думаешь, мы с Маттео не страдаем ежедневно, ежечасно из-за того, что сделал с нами некий человек? Думаешь, Гай не страдает, зная, кто его отец и что этот человек с тобой сделал? Думаешь, он не понимает, что ты заставила его жениться на тебе только ради собственных прихотей? Кем ты себя вообразила?
Кто ты такая?
Она не привыкла к возражениям, моя дражайшая Белладонна. Она смотрит на меня, и в глазах ее застыла та ужасающая пустота, которая всегда пугала меня, но я не обращаю внимания и продолжаю говорить. Я больше не могу сдерживаться.
– Это ты убила Хогарта и благополучно вычеркнула сию неприятную подробность из своей памяти, – сообщаю я, и в моем голосе звенит сарказм. – Это тебе вдруг взбрело в голову схватить кочергу и шарахнуть его по макушке. А на мою долю выпало заметать следы.
Тут до меня доходит смысл моих слов, я падаю в кресло с такой внезапностью, что пружины протестующе взвизгивают. Я сгибаюсь пополам и утыкаюсь лицом в ладони. Ох, Томазино, Томазино, как мог ты быть таким жестоким? Я же поклялся, что никогда, ни за что не расскажу ей правды.
А сверчкам за окном ее спальни дела нет до наших разговоров. Они стрекочут и стрекочут. В окно влетает теплый ветерок, он щекочет мне затылок, как бахрома на белом шелковом шарфе, который Хогарт любил перекидывать через плечо.
– Это правда? – спрашивает она у Маттео. Ее голос глух, будто доносится из глубокой подводной пещеры.
– Да, – со вздохом отвечает он. – Но я на твоем месте сделал бы то же самое.
Она встает с постели, выключает радио и опять идет в темницу, вниз, туда, где ждет ее он. Денно и нощно она станет терзать себя мыслями о том, что своими руками убила человека, который мог бы рассказать ей тайну, единственную тайну, которая, как спасательный круг, удерживает ее на поверхности, не дает погрузиться в бездну, в царство теней, где обитает Его Светлость.
* * *
После того вечера отношения между нами никогда уже не станут такими же, как прежде. При случайных встречах со мной она подчеркнуто вежлива, будто с незнакомцем. Я уже не могу предчувствовать ее желания и страшно скучаю по ней, несмотря на то, что мы все еще живем под одной крышей. Маттео беседует с ней так же, как раньше беседовал я, но ему не терпится поскорее навестить свою семью. Однажды днем, накануне отъезда, он садится рядом со мной возле бассейна. Мы обсуждаем, как вручить ей наш второй свадебный подарок, который мы состряпали и аккуратно переложили в маленькую белую баночку.
– Ты обязательно передашь его Гаю? – с надеждой спрашиваю я в конце разговора.
– Да, и если он не пойдет в дело прежде, чем я вернусь, то я сам начну готовить еду для Его Светлости, – говорит Маттео и заключает меня в крепкие объятия. Он единственный человек, от которого я могу вытерпеть такое. Потому что он почти такой же крупный, как и я. – Думаю, ты сам догадываешься, что я постараюсь убедить Аннабет и детей переселиться сюда, когда все кончится.
– Да, климат здесь здоровый, – саркастически замечаю я. – И хозяйка такая приветливая. И в темнице уйма свежего воздуха.
– Не понимаю, как я тебя еще терплю, – с нежностью говорит Маттео. – Если они переедут, это будет хорошо для всех. У Брайони появятся новые друзья, а у тебя – еще четыре человека, о которых можно хлопотать.








