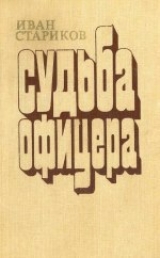
Текст книги "Судьба офицера. Трилогия"
Автор книги: Иван Стариков
Жанры:
Роман
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц)
Стояли рядом и молчали, словно прислушивались к мыслям и чувствам друг друга. Невдалеке прошелестели кусты, и они вздрогнули от неожиданности, Женя невольно прижалась к Андрею. Из кустов выскочил запыхавшийся боец-пехотинец. Увидев двух офицеров, он растерянно остановился и хотел броситься назад. Оленич крикнул:
– Стой! Кто такой? Откуда?
Крупный детина, без оружия, оглянулся с виноватым видом:
– Да я, товарищ лейтенант, с правого фланга… Хотел проскочить на левый, там у меня землячок, проведать, покуда не поднялась эта кутерьма.
– Вы что, товарищ боец, спятили?! Какой землячок, когда вот-вот полезут фрицы! Где ваше оружие? Марш назад в свой окоп! Я проверю.
– Слушаюсь, – промямлил солдат и скрылся в кустах.
А со стороны второй линии окопов послышался зуммер телефона и приглушенный голос забубнил:
– «Орион», «Орион»! Я – «Обойма», я – «Обойма»! Отвечай!
И тут с переднего края донеслось:
– Воздух! Воздух! Идут на нас!
– Я в санпункт! – вскрикнула Женя и побежала.
Из– за верхушек деревьев хмурого леса вынырнуло звено «юнкерсов». Со свистом и воем они начали падать с высоты на боевые порядки, поливая пулеметным огнем, почти припадали к земле. Сбросив бомбовый груз, устремились круто вверх. Не успели они отойти в сторону, как появилась новая тройка самолетов, и пошло одно звено за другим. Пикирующие бомбардировщики -грозные машины, они не только бомбили и обстреливали из пулеметов, но пугали своим внешним видом, воем да свистом, пригибали к земле, подавляли волю. Оленичу за год войны они встречались много раз, и то он никак не мог привыкнуть к их угнетающему воздействию на психику. А малообстрелянный боец часто терялся и с трудом сохранял самообладание.
Первые атаки особого вреда не принесли – бомбы взорвались далеко в тылу, за второй линией окопов, взметнув столбы песка. Оленич понял, что они осторожничают, боятся попасть по своим. Значит, пехота противника где-то поблизости, вероятнее всего в лесу, в саду и за холмами. Но после получасового перерыва «юнкерсы» налетели снова. Теперь они сбросили несколько бомб на плато, которое примыкало к реке и на котором располагалась оборона. Еремеев крикнул командиру:
– Разрешите стрелять по самолетам?
Оленич скептически махнул рукой: мол, дело это бессмысленное. Но ординарец воткнул в бруствер рогатину из сухой ветки, приладил винтовку и начал деловито и сосредоточенно постреливать каждый раз, когда подлетали вражеские самолеты. Он успевал сделать три-четыре выстрела.
С каждым налетом самолеты пролетали все ближе к передней линии окопов, все прицельнее били из пулеметов, а небольшие бомбы взрывались почти в боевых порядках. «Юнкерсы» припадали к земле, чуть ли не цепляясь выпущенными шасси за кустарник. Оленич боялся, чтобы пулеметным обстрелом противник не повредил станковые пулеметы еще до начала боя. Поэтому пробрался к позиции Райкова и облегченно вздохнул: боеприпасы были надежно спрятаны в ниши, а «максим» обнесен валом из песка. Опасно только прямое попадание бомбы, мины или снаряда. Райков доложил, что командир самой крайней огневой точки – Коляда передал: в лесу напротив обороны замечено движение людей. По всей видимости – противник. Усилил наблюдение.
Оленич хотел было пройти к Коляде и посмотреть, что там за движение, но наткнулся на бронебойщиков. Два бойца сидели на дне окопа, а ружье лежало на бруствере – и сами солдаты, и их оружие присыпано пылью и песком.
– Почему не бьете по воздушным целям?
– Не было команды. Наш сержант во втором отделении.
– Немедленно привести ружье в позицию для стрельбы по самолетам! Открывайте огонь!
– Есть! – произнес младший сержант, видимо наводчик, поднимаясь и отряхиваясь от пыли. А второй номер, громоздкий парень, оказался тем знакомым Оленичу, который искал земляка.
Они вздыбили свою длинноствольную бронебойку и изготовились к стрельбе. Старший лейтенант поискал главами Еремеева, но ефрейтора не было видно. Послышался нарастающий гул самолетов. Тройка бомбардировщиков пронеслась низко над окопами. Бомба упала где-то возле пулемета Майкова. Андрей, забыв про бронебойщиков, кинулся к своим.
– Еремеев! Что там у нас?
Старый солдат сидел на бруствере и протирал тряпочкой винтовку.
– Бодрова зацепило осколком, а так – все живы.
Где– то за лесом, а может быть и в самом лесу, завыли немецкие шестиствольные минометы, С шелестом и свистом мины пролетели над головами Оленича и Еремеева и шлепнулись звонко и многоголосо в центре равнины, вблизи одинокой яблоньки. Оленич нанес на карту примерное расположение минометов. Еремеев, примостившийся рядом, вытащил из кармана брюк платочек, развернул его, и на солнце блеснули карманные часы. Было видно, что они старинной работы и, по всей вероятности, серебряные. Ефрейтор открыл крышечку и долго смотрел на циферблат, словно читал что-то написанное мелким почерком. Потом осторожно завернул часы в платочек и попросил Оленича:
– Товарищ командир, дайте карандаш и листочек бумаги.
Оленич подал ординарцу и карандаш, и листок бумаги из своего блокнота. Старик начал писать старательно и неторопливо. Сначала Оленич удивился: что это Еремееву приспичило заняться писанием? А потом до него дошло, что солдат хочет оставить на всякий случай письмо домой.
Артподготовка нарастала. Уже били не только минометы, далеко за лесом громыхали дальнобойные пушки. Снаряды уходили далеко в глубину обороны и, наверное, достигали железной дороги.
К Оленичу подполз с забинтованной головой Бодров. Он еще не отошел от испуга, и лицо его, робкое и растерянное, выглядело жалко. Оленич хотел приободрить парня, но тот хриплым голосом доложил:
– Товарищ старший лейтенант, Райков послал сказать, что артиллерийская разведка просит уточнить ориентиры огневых вражеских точек.
Оленич быстро нанес на бумагу данные и отдал Бодрову.
– Скорее передай это ребятам из артиллерийской разведки. Ты в состоянии?
– Да, товарищ командир.
И как– то неожиданно установилась тишина. Было странно: после грохота, гула, взрывов и стрельбы вдруг -такая тишь. Оленич пришел в отделение Райкова:
– Будьте внимательны, сейчас противник должен начать наступление. Передайте пехоте, чтобы подпускали ближе, стреляли наверняка. Наступать будет много, они ведь тоже готовились к сегодняшнему дню. Попробуют действовать на психику.
Да, наверное, каждый боец чувствовал, что сейчас решается вопрос жизни и смерти. Может, об этом конкретно никто и не думал, но душевное напряжение, обессиливающее ожидание овладевало каждым, И теперь, когда этот миг стал реальностью, подошел вплотную, все зашевелились, отряхивались, приводили себя в порядок, осматривали оружие. Делали они это незаметно, но Оленич не впервые наблюдал за солдатами в часы, предшествующие бою, и знал, что это самое трудное время. Когда начинается бой, все тревожные раздумья отходят на второй план, а то и теряются вовсе. Еремеев протянул Оленичу карандаш:
– Не успел. Вот не успел…
Телефонист позвал Оленича к телефону. Комбат Истомин спрашивал, как обстановка, не навредила ли артподготовка и бомбежка? Оленич успокоил командира, что все в порядке, что легко ранен один пулеметчик, что бойцы готовы к отражению наступления противника.
– Очень надеюсь на тебя и на твоих пулеметчиков. Ты это помни, Андрей.
– Помню и понимаю.
– Хорошо. Поддерживай со мною связь: я тоже буду себя чувствовать уверенней.
Последняя фраза очень удивила Оленича: неужели и Истомин способен испытывать сомнения, переживать за исход событий?
Над равниной медленно опускалась, рассеиваясь, пелена дыма и пыли, по ложбине тянуло гарью, улавливался кисловатый запах тола.
Кто– то из бойцов пронзительно-отчаянно выдохнул:
– Фрицы!
Оленич поднял голову и увидел первую шеренгу серо-зеленых фигур, отделившихся от зарослей сада и продвигающихся по зеленому лугу к реке. Они шли с винтовками и автоматами на изготовку и не начинали стрелять» Оленич передал команду: подпустить ближе к речке.
В глубине сада снова завыли минометы, над головою пронеслись с шелестящим свистом мины. В нашем тылу отозвались пушки, и снаряды прошуршали, летя в тыл немцев. Они взорвались далеко, еле слышны были звуки взрывов.
Из тени деревьев появлялись снова и снова солдатам противника. Стрелки батальона не выдержали и открыли стрельбу. И тут же застрочили немецкие автоматы и ручные пулеметы. Кто-то из бойцов неподалеку от Оленича застонал. Райков еще не начинал огня. И когда вражеские солдаты приблизились к самой реке, сержант спросил у Оленича:
– Товарищ старший лейтенант, можно начинать?
– Еще чуть-чуть, пусть входят в воду. В реке не заляжешь.
Но вот слева застрекотал «максим». Оленич определил: Гвозденко открыл огонь. В бинокль видно было, как изломалась цепь вражеских солдат, как замедлилось их продвижение к мосту.
– Начинай, Райков! – скомандовал Оленич.
Сержант сам лег к пулемету. Оленич видел, как цепкие руки паренька слились с рукоятками, как большие пальцы нажали на гашетку. «Максим» вздрогнул, даже подался вперед тупым носом, словно хотел вырваться из сильных рук.
Шеренги немецких солдат уже не так ровно и браво шли, как вначале, многие падали, не дойдя до реки. Но другие шли упрямо к берегу. Бойцы стреляли дружно, пулеметы строчили бойко, но и вражеские солдаты непрерывно поливали огнем позиции обороняющихся батальонов Истомина и Полухина. Видимо, взвод минометчиков получил приказ накрыть минами наступающую пехоту врага. Мины начали взрываться на всем пространстве от сада до реки, разрывая немецкие шеренги. Отдельным автоматчикам удалось достигнуть реки, но почти все они упали в воду, уже убитые или тяжело раненные. Вот один автоматчик, беспомощно взмахнув руками, тяжело рухнул на берег, свесившись до самой воды. Второй, изогнувшись чуть ли не вдвое, опустился сначала на одно колено, потом на другое, упираясь руками в землю, наконец уткнулся головой в песок. Внимание Оленича привлек Огромный Детина с ручным пулеметом. Он шел в полный рост и, прижав приклад к животу, беспрерывно строчил. Андрей не видел, но чувствовал, что его пули пролетают где-то совсем рядом, что они не дают бойцам передних окопов поднять голову. Пулеметчик вел себя довольно нахально, словно верил, что его никакая пуля не возьмет. «Врешь, возьмет!» – подумал Оленич, прилаживаясь к стрельбе. Немец вошел в реку, вода переливалась через широкие голенища его сапог, но он шел. И тогда Оленич полоснул из автомата короткой очередью. Нет, немец не остановился и продолжал идти, не обращая внимания, что вокруг него вода закипает от пуль. Андрей снова нажал на спусковой крючок и уже не отпускал, пока пулеметчик не остановился, удивленный. Пошатнувшись, он удержался на ногах и выхватил из-за голенища гранату на длинной деревянной рукоятке. Оленич прицелился и сделал два-три выстрела. Рука с гранатой дрогнула, словно по ней прошла судорога, и повисла, пальцы разжались, граната, упав на мокрый валун, взорвалась. Облачко сине-серого дыма рассеялось. На валуне животом вниз лежал пулеметчик, светлые волосы свисали с головы, и вода шевелила их. Пилотка поплыла по течению…
Теперь все стало на свои места, бой шел знакомо, как уже было не раз. Прошло, наверное, часа полтора, немцы постепенно отошли назад в сад. Наступила тишина. Эта передышка была необходима, и Оленич решил проверить: какие потери, в каком состоянии вся оборона.
У пулеметчиков потерь не было, среди пехоты убитых несколько человек, десятка два раненых. Как там Женя? Надо бы заглянуть.
– Еремеев, есть у нас водичка?
Пригибаясь, ординарец приблизился к командиру и подал флягу.
16
Первая атака вражеской пехоты отбита сравнительно легко. Но передышка нужна была, чтобы осмотреться, привести в порядок людей, дать опомниться и приготовиться к более суровым испытаниям.
Андрей все сильнее ощущал потребность видеть Женю. Кажется, прошла вечность, и где-то в далеком прошлом лунная ночь, а их любовь не реальность, а фантастика, да и не с ними это было и где-то в Ином мире.
День стоял такой солнечный и жаркий, словно в допотопные времена, в сказочной стране с пальмами и кактусами, с песчаными дюнами и травянистыми пампасами, со слонами и обязьянами – в снах и грезах, в мальчишеском воображении. Но за рекой на густой низенькой ярко-зеленой траве лежат трупы вперемежку с живыми, при оружии, в касках, с телячьими ранцами за плечами. Одни уже не могут пошевелиться, другие ползут, чтобы убивать. И этот огромный ариец, охвативший длинными руками зеленый валун, его шевелящийся в холодной воде светлый чуб напоминает, что такое может случиться с каждым по обе стороны реки.
Прошло около часа. Противник не проявлял активности, но Оленич понимал, что враг долго не будет прохлаждаться, подтянет новые силы, установит поближе артиллерию или минометы и попробует снова перейти реку. Он постарается подавить выявленные огневые точки, а потом двинет пехоту. Но и по эту сторону солдаты тоже готовились: проверяли оружие, запасались патронами, старшина Костров все же сумел накормить личный состав. У пулеметчиков и пехотинцев настроение боевое, даже веселое. Из окопа Райкова то и дело слышались веселые возгласы, смех. Оленич подошел ближе. Мимо него по траншее прошел к пулемету раненый Бодров. Его встретили остротами. Первым начал Райков. Он воскликнул:
– Жив-здоров, Захар Бодров!
Пожилой солдат Антон Трущак важно произнес:
– У тебя, Бодров, гранит голова. Я слышал, как звякнул осколок бомбы. Сначала подумал, что осколок угодил в бронированный щиток нашего «максима». А это он в твою голову! Да еще срикошетил!
Андрей, давясь от смеха, сдерживался, чтобы не расхохотаться, даже глаза наполнились сверкающей влагой. Алимхан прицокивал языком и бил ладонями по ляжкам. А подносчик патронов, худой, плечистый татарин Абдурахманов, всегда молчаливый и замкнутый, отцепил от пояса пробитую флягу, качая головой, запричитал:
– Пропал фляга! Йок вода. Где татарин возьмет другой фляга? Абдурахман хочет пить. Нет вода – нет сила! Командир, – обратился он плачущим голосом к Райкову, – что будем делать?
– Как же так? Сам целый, а фляга с дыркой?
– Осколок бомбы пробил. Отскочил от головы Захарки, попал в мой фляга! Йок фляга.
Смеялись все. Райков схватился за живот:
– Ой, не могу! Нет моих сил! Захар, Захар! Дай хоть потрогать твою бронированную брянскую голову.
С наблюдательного поста донеслось:
– Немцы! Немцы идут!
И сразу установилась в окопе мертвая тишина. Райков, еще не видя, где немцы, скомандовал:
– Приготовиться, братцы!
И лишь после этого припал к краю бруствера, чтобы лучше сориентироваться. Оленич находился в своем окопе, и ему очень хорошо было видно, как солдаты противника уже не плотными шеренгами, а рассредоточенно кинулись от сада ускоренным шагом, некоторые бегом – к реке, начав строчить из автоматов еще издали.
Но и на этот раз врагу не удалось не то что переправиться на правый берег, но даже войти в холодную воду, которая так вожделенно поблескивала, переливаясь и струясь через камни и валуны. Солдаты снова залегли за камнями, даже прятались за кусты. И чтобы приглушить немного огонь со стороны обороняющихся и дать возможность отойти в сад пехоте, по переднему краю ударили немецкие минометы. Мины ложились достаточно близко, заставляя пригибаться в окопе. Послышались призывы о помощи, крики и стоны раненых.
«Надо посмотреть, что где делается», – подумал Андрей и поднялся, отряхнулся, привел себя в надлежащий вид.
– Старшина Костров!
– Здесь!
– Ухожу к Гвозденко и Туру. Остаетесь за меня. Усилить наблюдение за противником. Держаться до последнего патрона.
– А потом?
Оленич увидел, как у старшины лукаво сверкнули глаза, сказал:
– И потом держаться!
Как только минометный огонь приутих, Оленич кинулся на левый фланг. Он знал, что там опытный командир-огневик Полухин, но все же хотелось самому посмотреть на своих ребят, увидеть их во время боя, может быть, поддержать, чем-то помочь. Так же, как и на правом фланге, где взял на себя ответственность Истомин.
До отделения Гвозденко оставалось с полсотни метров, когда по позициям батальона Полухина ударили пушки: они стреляли из-за холмов. Снаряды ложились на семьдесят – сто метров сзади передовой и вреда обороне нанести не могли, но под огнем оказались тылы – санпункт, пункт связи, командный пункт. В памяти возникло Женино освещенное луной лицо. А днем – ни после первой, ни после второй вражеской атаки – он ее не видел. Как она держится? Ведь нервничала перед боем.
Снаряды ложились все ближе к линии окопов. И Оленич уже бежал почти в зоне огня. Все чаще над ним пролетали со свистом осколки и его осыпало пылью, поднятой взрывом. Однажды он услышал угрожающий свист и упал ничком на дно хода сообщения. Снаряд разорвался в нескольких шагах впереди на самом бруствере. Взрыв оглушил, на голову посыпался песок, полетели ветви.
Рядом послышался стон. Оленич кинулся на голос: по песку полз раненый боец, оставляя за собой кровавый след.
– Погоди, солдат, погоди, – прошептал Андрей, склоняясь над раненым. – Сейчас я тебя перевяжу.
– Ноги… Ноги мои…
Красноармеец был ранен в обе ноги. Оленич кое-как перетянул ему ноги выше ран. Боец опять было со стоном, приговаривая «ноги, мои ноги», пополз, хватая руками песок.
– Подожди… Сейчас тебя отнесут в медпункт, перевяжут как следует… Полежи минутку.
Оленич пробежал еще несколько метров, наткнулся на бойцов и приказал, чтобы доложили командиру отделения – рядом лежит раненный в обе ноги боец, нужно его доставить в медпункт.
– Исполним, товарищ командир.
Оленич двинулся дальше и через минуту свалился в окоп к пулеметчикам. Ребята подхватили его на руки, послышался обеспокоенный голос Гвозденко:
– Вы не ранены, товарищ командир?
– Нет. Со мною все в порядке. Что у вас?
– Передышка! – воскликнул Гвозденко.
– Не думаю, – возразил Оленич.
Так оно и вышло: не прошло и получаса, как на вершинах возвышенностей показались цепи фашистских солдат. Спустились в лощину и двинулись к реке, но продвигались они медленно и наконец остановились. И тут Гвозденко увидел, что из сада стремительно выбежали сотни две солдат, в основном автоматчики. Они на ходу поливали огнем передний край обороны настолько плотно и метко, что не давали возможности поднять голову. Не успели стрелки батальона и пулеметчики опомниться, как фрицы оказались у самой реки.
– Приготовить гранаты! – скомандовал Гвозденко и сам достал из сумки две гранаты-лимонки.
– А противник явно отдает предпочтение вашему участку огневой позиции, – отметил Оленич.
– Еще бы! Мы ведь взяли раненого автоматчика во время атаки.
– Живой?
– Живой. Где-то на перевязочном пункте.
– Почему не доложили?
– Тут был комиссар Дорош.
– Все равно я должен был знать! Взяли его вы, пулеметчики?
– Да.
– Вот видишь, а я не знал.
– Виноват, товарищ старший лейтенант! Не повторится. Была спешка. Только мы его вытащили, как майор Полухин прислал двух бойцов и пленного забрали. Майор Дорош сразу же пошел следом: ему необходимо связаться со штабом и отправить пленного.
– Майор Полухин в боевых порядках?
– Он постоянно здесь.
– Я к нему.
– Товарищ старший лейтенант, подождали бы, пока отобьем эту атаку. Видите, как они упрямо лезут к нам, такой настырности у них сегодня еще не было.
– Они считали, что тут просто пройти. Деритесь, Гвозденко, но берегите людей.
– Говорят, что бронепоезд где-то недалеко, ведет бой и пробивается сюда.
– Ты об этом не думай. И бойцам так говори: не надо думать, что бой кончится, когда пройдет бронепоезд.
– Так точно, товарищ командир! Будем драться, не ожидая подмоги.
Ничто так не воодушевляло Оленича, так не поднимало его боевой дух и настроение, как мужество бойцов, ему подчиненных. Если слышал не наигранный, а искренний бодрый голос солдата, если видел, как, не раздумывая, боец кидается в атаку, гордость и радость переполняли душу. Андрей и сам бросался в атаку – не раздумывая и самозабвенно. Тогда он не боялся поднимать солдат в наступление, и не было у него ни сомнений, ни страха идти впереди взвода или роты.
Было ему приятно услышать от майора Полухина:
– Твои пулеметчики – настоящие. А Гвозденко я бы мог доверить не только взвод – роту. Надежный парень! – Вдруг Полухин спохватился: – Извини, забыл: поздравляю с повышением в звании. Истомин о тебе высокого мнения. Ты что, для этого сухаря вроде сахарного сиропа?
В последней реплике Оленич почувствовал не простую иронию, а что-то вроде насмешки.
– Вы что же, товарищ майор, офицеров делите на сиропы и уксусы?
– Хо-хо-хо! Уже и оскорбился! Какой гусар, понимаешь!
– Не оскорбился. Но таких шуток не воспринимаю.
– Ну, что же, как говорится, хвалю молодца за обычай. Но мне интересно было, что Истомин со мною говорил так, будто хотел тебе показать, какой он жесткий офицер. Он что, фанатик? Так сказать, военный до мозга костей?
– Да нет… Просто он знает, какой будет бой… Ответственность.
Полухин долго молчал, потом вдруг широким жестом кинул шинель на дно окопа, словно расстилая ее перед молодым офицером.
– Давай немного посидим, старший лейтенант. Ты не думай обо мне -как о неорганизованном интеллигенте. Хочешь наперсточек шнапсу? Ну и не нужно! Препаскудное пойло, скажу тебе! Хотя я иногда употребляю. Нет, нет! Я не пьющий. Так, для очистки своего озлобившегося нутра. Да и то свою, родную, русскую. А сейчас вот нет своей, понимаешь. Нет ни жратвы, ни питья. И вообще, мне кажется, уж ничего нет. И мы бьемся лишь потому, что еще живы. Что? Сказал что-то крамольное? Такое нужно держать при себе. А еще лучше – выбросить его начисто. Но я ведь не зря выбрал тебя для исповеди, И благодарен судьбе, что в сию минуту она мне послала тебя – не только образованного, не только честного, но и интеллигентного. Интеллигентность, брат, высшая оценка человека! Она всегда была высшей и еще будет высшей. И ты меня вспомнишь…
– На войне, естественно, у нас у всех возникает потребность высказаться – накапливается слишком много всяческих грузов. Они мешают воевать.
Полухин оказался не меньшей загадкой, чем Истомин, даже, может быть, гораздо большей, сложнее, чем кажется на первый взгляд. А главное, и это стало для Андрея настоящим открытием, майор казался родственной ему душой. Что-то созвучное раздумьям Оленича было в рассуждениях и откровениях Полухина, но было и такое, чего Оленич не принимал и не мог принять в силу противоположных взглядов. Майор внимательно смотрел на Андрея, потом спросил:
– Скажи, старший лейтенант, сколько тебе? Есть уже двадцать?
– Двадцать первый.
– Видишь, как ты молод. Я не хочу сказать, что ты многого не понимаешь. Просто ты еще не думал над этим. Вот если еще не исполнилось ни одно твое желание, ты не будешь в такой мере разочарован, как я: у тебя впереди все. А мне за сорок. И что? Кажется, можно бы подвести какой-то итог жизни, а жизни-то и нет. Ее просто еще не было! Ты вот сказал, у человека на войне накапливается всяких там грузов… А до войны, ты думаешь, они не накапливались? Ошибаешься! Еще как накапливался горький груз разочарований, сомнений, внутренних борений…
На какое– то мгновение Оленичу показалось, что Полухин вдрызг пьяный, но, присмотревшись, понял, что этот человек разочарован в жизни давно и безнадежно, что его мучают горькие мысли и безвыходность своего положения. Захотелось ему помочь, но не представлял, как и чем. Разве что терпеливо выслушать.
– У вас, майор, видно, не сложилось что-то в судьбе.
– Что-то?! – воскликнул он вдруг тоскливо и даже с каким-то отчаянием. – Вся судьба не сложилась! И ты думаешь, что только по моей вине? Черта лысого! Хотел быть скульптором, художником. Я писал картины и лепил людские фигурки и лица. Все, кто смотрел их у меня дома, хвалили. Да я и сам видел, кое-что выходило. Поступил в училище, окончил его, дипломная работа была высоко оценена мастерами. Можно было поступать в Академию художеств… Вот тут-то и произошло одно событие, которое выбросило меня не только из абитуриентов, но и из мира искусства, Один из членов приемной комиссии, который не имел никакого отношения ни к живописи, ни к ваянию, после похвальных слов мастеров вдруг сказал:
– Удивляюсь вам, товарищи художники. Взгляните на центральную фигуру в картине «Кочегары революции». Эта фигура воплощает символического кочегара локомотива революции. А ведь лицо этого кочегара – лицо Рыкова. Какой из Рыкова кочегар революции? Наконец, под чьи котлы Рыков подкладывает дрова? Место этого художника не в академии, а там, где Рыков…
И я сбежал, уехал домой. Испугали мою душу. О Рыкове я ничего не знал: роковая случайность. Так мечта осталась не воплощенной. А потом уже и все другие… Девушка-скульптор, которую я любил и с которой мечтал строить новую жизнь, отказалась от меня, понимаешь, чтобы не навредить своей работе. Ну и потянулось одно за одним. Долго я искал занятие, где смог бы проявить себя. Однажды мне показалось, что мне нужно стать генералом, потом разыскать того чиновника, который увидел в моей картине крамолу, и рассчитаться с ним. – Полухин засмеялся над своим мальчишеством и озорством, но добавил: – Тогда я всерьез думал, что генералам все можно. Оказалось, не генералам, а все тем же, которые увидели в портрете рабочего черты врага…
Оленич шутя сказал:
– Так мало осталось до генерала – две ступеньки!
Полухин грустно улыбнулся:
– Да, недалеко. Но генеральское звание – не самоцель. Возможно, я еще стану генералом: война дошла только до половины. Еще назад сколько нам идти! И стать генералом откроется возможность. Только я ведь не об этом, не о воинском звании. Это я раньше, понимаешь, мечтал, а теперь иного ищу возвышения. Но не найду. Не стану генералом в душе, генералом духа! Нужно особое озарение, особая окрыленность. Вот что грустно.
Оленич искренне признался:
– Мне нравятся ваши мысли.
– Ха! Мне тоже. Потому что я впервые сказал такое о себе. Долго я искал слова, чтобы выразить себя, и, кажется, только в разговоре с тобою сейчас я подошел близко к пониманию себя.
– Нам помешала война найти себя.
– Помешала?! – воскликнул возмущенно Полухин. – Она всех нас перемолола – с кожей, с мясом, с костями, с волосами – в фарш! Мы стали бесформенной массой!
– Не согласен! Вот вы же не похожи на Истомина, а я на вас. Мы все разные. И характеры, и судьбы.
– Ты снова не о том, старший лейтенант. Я ведь не зря тебе говорил о генерале в душе, то есть о самой высокой ступени твоего духовного восхождения. Понимаешь, я говорил о генеральском положении человека в жизни.
– Но оно еще придет, время нашего воодушевления.
– Дудки! Война отбросила нас в катакомбы озлобления. Не скоро наше поколение освободит свою психику от влияния войны. Пройдут десятилетия мирной жизни, пока явятся певцы этой жизни.
– Ну, нет! По-вашему выходит, что окончится война и наш народ перестанет петь песни, танцевать, слушать музыку?
– Я не о народе, я об участниках войны.
– Но в войне участвует весь народ!
Полухин посмотрел на Оленича несколько смущенно:
– Не загоняй меня в глухой угол. Конечно же, будут и поэты, и скульпторы, и художники, и музыканты. Но на всех них будет лежать печать этой проклятой войны.
– А если печать этого героического времени?
– Возражения убедительны. Мне бы надо отступить. Но что-то мешает. Надо подумать.
Взгляд его упал на глыбу выброшенной накануне глины. Она уже засохла бесформенной кучей, превратившись в ненужную массу.
– Вот, война выбросила, как бесполезное месиво. Оно не успело даже приблизиться к своему назначению… Слышишь? Усилилась перестрелка. Снова пошли немцы в наступление. Нас тоже зовет война. Пойдем…
И вновь Оленич пробирается на край левого фланга, к отделению Тура. Эту часть передовой противник начал очень интенсивно обстреливать, надеясь как можно больше поразить живой силы и техники. Из-за бугров бьют гаубицы и минометы. Снаряды и мины ложатся иногда очень близко к окопам и огневым точкам. Под прикрытием сплошного огня противник пытается все же сосредоточиться у самой реки, но ему не удастся.
Оленич по ходу сообщения прошел к пулемету. Михаил Тур доложил, что успешно отбили три атаки противника, в отделении потерь нет, убили двенадцать вражеских солдат и несколько десятков вывели из строя.
– Запас патронов есть? Имей в виду, что все только начинается.
– Мы понимаем. Товарищ старший лейтенант, вы есть хотите?
– Неужели у вас имеется чего пожевать?
Тур хитровато усмехнулся, но с гордостью сказал:
– Харчей лишних никогда не бывает. Но ваша порция всегда у нас имеется.
– Тогда неси мою порцию. Действительно, захотелось поесть. У тебя, несмотря на то что идет бой, чувствуется какая-то домашняя обстановка…
17
Для того чтобы попасть на правый фланг, нужно пересечь плато по диагонали и пройти не менее километра, преодолеть зону, постоянно находящуюся под интенсивным огнем противника. Но зато можно побывать у Жени на перевязочном пункте. Но совсем неожиданно встретил отца Алимхана: старик вел в поводу осла, на спине которого лежал раненый боец. Солдат стонал и вскрикивал от каждого шага осла, малейшее движение приносило невыносимую боль.
– Держись, джигит! Вот сейчас приедем к доктору. Не кричи, пусть не радуется враг. Ты победишь рану, ты еще убьешь врага.
Горец приговаривал, успокаивая раненого, а сам был строг и бледен, и его седая бородка свисала на бешмет. У него за плечами вещмешок солдата и винтовка. Хакупову тяжело, он устал и еле волочил ноги. Вдобавок еще осел все время упирался, и надо было насильно его тащить.
Увидев Оленича, Шора Талибович, не останавливаясь, покивал головой и объяснил:
– Везу в лазарет. Доктор Женя просила помочь. Это уже шестой. Тяжело ранен. Очень спешу, командир.
С благодарностью смотрел Оленич вслед старику, который скрылся в кустах, – значит близко землянка Жени. Андрей не пошел в санпункт, решив забежать сюда на обратном пути.
Стрельба не утихала ни на минуту. Наоборот, Оленичу показалось, что чем ближе подходил к правому краю обороны, тем сильнее был огонь. Сначала подумал, что немцы предприняли здесь новое наступление, но, выйдя к берегу реки по ходу сообщения, из окопа он увидел – противоположный берег был совершенно пустынным. Лишь из лесу, из-за кустов, и, наверное, с деревьев оборона обстреливалась из стрелкового оружия очень плотно. Вдруг где-то глухо застучал крупнокалиберный немецкий пулемет. Было непонятно, каким образом снизу можно поразить цель на высоком правом берегу обороны?
Совсем близко, наверное на какой-нибудь лесной поляне, завыли, точно голодные волки, минометы. Недалеко потому, что через несколько секунд мины уже рвались в расположении батальона. Взрывы словно приближались от середины плато к краю, к обрыву. Вот где-то совсем рядом раздалось несколько взрывов, и осколки со свистом секли кустарник, и дым с пылью стлался вдоль передовой. Между взрывами Оленичу вдруг послышались слезные причитания. Оглянулся: почти рядом на дне траншеи, скрючившись, сидел красноармеец. Дрожащие руки держали измятый листочек из школьной тетради, исписанный ломаными закорючками. Солдат срывающимся, плачущим голосом бормотал:








