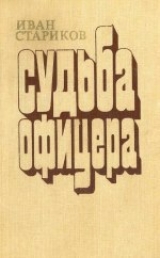
Текст книги "Судьба офицера. Трилогия"
Автор книги: Иван Стариков
Жанры:
Роман
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 28 страниц)
Вначале Гордей не понимал, почему стало так смутно на душе и пустынно вокруг, вроде за стенами госпиталя и жизни нет. Но позже он вдруг поймал себя на том, что все чаще вспоминает Татьяну, а вспоминая, убеждается, что любит ее.
Гордей Михайлович уединился в своей комнате, опустился в кресло возле столика и вытащил из ящика записку Тани. Сколько раз он читал эти наспех написанные строки, каждый раз подолгу раздумывал, но оставалось тайной, почему она не объяснила свой уход?
«Милый, милый Гордей! Горько мне писать это письмо: мы больше не увидимся с тобой. Я ухожу навсегда. Встреча с тобой была для меня неожиданной: я отчаянно полюбила тебя. И смею думать, что и ты полюбил меня. И уверена, что будешь вспоминать меня всегда: я тебе отдала всю себя. Никогда никого до тебя не любила, боялась даже думать о любви, а тут как с обрыва в пропасть… Вообще-то, в жизни я ничего не видела, брела как в потемках. Спасибо, что встретился ты, посветил маленько. Хочу, чтобы ты помнил меня молодой, влюбленной и счастливой, как в то наше последнее утро. Твоя Таня».
Только теперь, узнав о смерти Тани и о существовании ее дочери, будто новыми глазами прочитал прощальную записку и вдруг понял, как беспредельно глубоко и самоотверженно любила его та загадочная женщина. Она была больна, знала, что обречена, и уехала умирать туда, где ее никто не знает и где она своей смертью никого глубоко не опечалит. «Однако какая же она! – чуть ли не застонал Гордей Михайлович, представив на миг ее тогдашнее состояние. – Но почему она не обратилась ко мне?» Вот почему она завещала ему: «Запомни меня молодой, влюбленной и счастливой!» Он почувствовал себя бесконечно виноватым и бесконечно несчастным человеком: счастье его жизни ушло навсегда. В поисках хоть малого участия и утешения зашел к Андрею в палату, сел рядом и не взял по привычке руку, чтобы проверить пульс.
Андрей, поняв состояние друга, успокоительно обнял его.
– Ты Петра не вини.
– Да, конечно, ты прав. Знаешь, я просто растерян: никогда не думал, что так потрясет меня известие о ее смерти и о том, что после нее осталась дочь. А я ничего не знал! Как ее зовут? Ты ведь слышал, они назвали ее имя.
– Ляля.
– Странно, я ее вижу такой, какой была Таня. Они передо мною рядышком, и обе одинаковые…
– Может быть, тебе следует съездить? – Оленич осторожничал, как бы раздумывал вслух, хотя в душе был уверен, что Гордею надо бы съездить к Ляле, повидаться, а там все станет ясно. Может быть, Ляля потянется к нему…
16
Отец и сын жили в одном номере гостиницы. Старому нравилось, что рядом есть человек, кому кое-что можно доверять, облегчать себе душу, изливая свои трудные размышления и жуткие воспоминания. Но для Эдика то было досадное неудобство, которое он не мог преодолеть, – отец требовал информации из госпиталя, требовал еду и выпивку. Он почти не выходил из комнаты, разве что в туалет да душевую, которые находились в конце длинного коридора.
«Предок превращает меня не только в слугу, но и в агента!» – разозлился Эдик. Конечно, можно было бы удрать отсюда, и дело с концом. Но приходилось сидеть и ждать, пока приедет Кубанов. Да еще все время быть настороже: вдруг заявится шеф прямо в гостиницу, как объяснить, кто такой этот старый человек со шрамом на лице? Не скажешь ведь, что чужой человек, сосед по комнате. Эдуард всегда был предельно откровенен, развязен до цинизма, а теперь вынужден поступиться своими принципами. Он, конечно, хорошо понимал, кто его отец. И чем откровеннее был Крыж, тем больше сын опасался общения с ним. Но держался уравновешенно, ко всем откровениям старого злодея относился невозмутимо, а отец это воспринимал как готовность к единомыслию.
Никогда в жизни, даже напиваясь до полусмерти, он и не заикался о своей службе в карательном отряде Хензеля и о своих злодеяниях на таврической земле. Но перед сыном, под воздействием алкоголя и в надежде, что найдет себе единомышленника и воспитает из него подобного себе, раскрылся. Потом не раз жалел и пугался, ему казалось, что сам себя медленно отдает в руки госбезопасности. Но все же надежда на сына была сильнее страха.
Внимательно присматриваясь и прислушиваясь к Эдику, Крыж старался уловить момент, когда можно будет продолжить рассказ о себе и доверить, может быть, самое главное: поведать о том, что он обладает огромным богатством и что это богатство награблено им в годы войны, преимущественно во время карательных экспедиций. То, что сын жаден до денег, не вызывало сомнений, но всякие ли деньги ему придутся по вкусу? И этот вопрос занимал старика очень сильно. Захочет ли Эдик погреть руки на золоте, награбленном отцом, или отвернется от своего предка? И не станет ли подумывать: не донести ли в органы госбезопасности? А медлить дальше нельзя. Во-первых, годы уже не те, во-вторых, воспользоваться золотом и драгоценностями он сможет только при помощи сына. Коль у Эдика есть связи в таких домах и обществах, как у Ренаты, то оттуда есть ход и на рынок. Поэтому нужно быть уверенным в сыне, чтобы поделиться своей тайной с ним и разделить сокровища.
Если бы не этот капитан Оленич! Крыж не любил свидетелей вообще. А свидетелей своей жизни ненавидел так, что готов был на все, чтобы их уничтожить. Еще совсем недавно он верил: свидетелей не осталось, некому раскрыть его прошлое, но вот объявился Оленич, потом вдруг Дремлюга оказался живым. Все это не к добру!
Было бы прежнее время, как бы он разделался со всеми ими! Теперь сам их боится. Главное, убежать некуда. Не пошел за немцами тогда, в сорок четвертом! А был уже почти на границе! Нет, надумал вернуться за награбленным, жалко стало оставлять похороненным в землю такое богатство! И вот сам стал заложником лихого добра.
Возвратясь в гостиницу, Эдуард застал отца полным нетерпения:
– Что принес, сынок? Говори, не мучь! И ничего не бойся.
– Не бояться? Тебе-то что? Сколько лет жил-поживал в свое удовольствие. Как птичка божия, которая не сеет, не жнет, а сыта бывает всегда. Живи и дальше. Кто тебе помеха? Но почему я должен ввязываться в твою игру со смертью? Зачем я тебе? Успокойся!
– Может быть, и надо бы успокоиться. Но жажда мести сильнее разума. Ты даже не представляешь, как душа злорадно ликует и восторгается, когда твой враг корчится в предсмертных судорогах!
– Ты говоришь страшные вещи. Я могу уйти от тебя, если у тебя цель только отомстить.
– Да ты что, сынок! Я все время только и думаю, чтобы тебе не навредить. Что там, в госпитале?
– Последние новости: Оленич может уехать, а может и остаться; в него влюбилась старшая медсестра Криницкая. Она родная сестра начальника госпиталя.
– Как, он еще годится, чтобы его женщина любила?!
– Да, это так. И кажется, он тоже к ней сильно расположен. И эта женщина, скажу тебе, похлеще Ренаты: такой красивой даже я еще не встречал, хотя приходилось снимать чуть ли не мадонн. Я бы сам поволочился за нею, да она и разговаривать со мной не станет. Тем более, что я там вел себя довольно откровенно и совсем не по-джентльменски.
– Для женщины это ничего не значит. Сам же рассказывал, как Рената и визжала, и брыкалась, и обзывала, а потом даже отпускать не хотела. И это при том условии, что ты, кроме любви, ничего ей не дал. А поднеси ей стоящую вещицу – распластается, откуда и любовь возьмется.
– Эта – не продается и не покупается.
– Золото, бриллианты – это больше чем господь бог. А что мы значим перед силой божьей? Приманку я тебе обеспечу, только поверни дело умело, и ты породнишься с начальником госпиталя.
Старик даже хихикнул, но Эдик сдержанно проговорил:
– Как бы нас не породнили с Колымой! – и словно ушат холодной воды вылил на отца.
Отец сразу же обмяк, опустился на кровать, но Эдик в душе пожалел отца и помог ему овладеть собой:
– Ладно, старик, не расстраивайся, помогу тебе, чем смогу. Сегодня пойду в госпиталь, скажу, что не могу выехать из-за нее, что влюбился по уши и не отступлюсь, пока она не будет моей женой. Можно так с ходу налететь? Эффектно, убедительно. Где приманка?
– Видишь ли, мне надо сходить на вокзал, в камеру хранения. Там мой чемодан.
– Имей в виду, мне через два часа нужно быть там.
Крыж уже поднялся, успокоился, хотел было выпить чего-нибудь, но раздумал. Надел пиджак и вышел за Дверь, но тут же вернулся бледный, с побелевшими от страха глазами. Он даже стоять не мог. Эдик и сам перепугался, не понимая, что происходит со стариком.
– Что еще?
– Выгляни, там в коридоре стоят… старик с седой бородкой… с ним женщина в цветном платке… Посмотри, где они? Не идут ли сюда?
Эдуард вышел в коридор: там действительно стояли старик и женщина и разговаривали о чем-то полушепотом. Он видел их в госпитале, они приехали к кому-то из больных. Через некоторое время они пошли вниз. Эдик вернулся в номер.
– Они ушли вниз. Они тоже тебя знают?
– Да. Старик – Федос Чибис. А женщину не знаю.
– Ну и что же?
– Он меня хорошо знает. А мое же имя у них в селе на обелиске!
– Да, выходить тебе нельзя. Тебе, наверное, вообще нельзя показываться среди людей. Ну как же ты жил до сих пор на земле?
– Слетаются со всех сторон! – сказал со злобой Крыж. – То возникали в снах, кошмаром вставали, а теперь являются мне наяву. И некуда от них спрятаться, они повсюду. Дочь того старика я собственноручно… Она не покорилась мне. Отвергла мою любовь.
– А, видишь! Не все поддаются силе. Видно, была душа твоя черным-черна…
– Она и до сих пор черная. От ненависти, от того, что вынужден таиться, что не могу расправить плечи, развернуть душу свою как хочу! Но ничего, сынок! Мы перетерпим и это лихолетье. Выдержим! И знаешь, будет еще у нас с тобой вольготная жизнь – и лучшая постель, и красивейшие женщины, и шампанское рекою. Будет, дай срок! Только бы избавиться от Оленича. Это, пожалуй, самый страшный враг.
– Неужели ты мог бы, встретив где-нибудь в темном уголке, убить Оленича?
– Не раздумывая ни минуты. А вот ты – не способен. Ты не прошел того горнила, которое закалило меня. Но у тебя другой талант. Я думаю, что твой молодой ум сможет придумать ловушку если не Оленичу, так той красотке. Все равно это будет удар по капитану. По нему! Эти интеллигентики все могут перенести, всякие физические страдания, пытки, но душевного оскорбления они не могут вынести. Плюй им в душу, Эдик! В душу!
17
С удивлением Оленич наблюдал, как усложняется вокруг него обстановка. Приезд земляков лейтенанта Негороднего – старика Чибиса и Варвары – словно перевел в практическую плоскость решение о поездке Андрея в таврические степи, к морю на лечение. Появление фотографа Эдика, который скорее похож на человека что-то вынюхивающего, кружащегося вокруг Людмилы Михайловны, вынуждало его быстрее решить главный вопрос жизни – отношения с Людой. А весть о том, что где-то живет девочка – сирота Ляля, которой невдомек, что ее отец тоже одинок?… И он, Андрей Оленич, может способствовать их встрече.
Время поездки зависит от того, как он подготовится, пользуясь благами и возможностями госпиталя, чтобы восстановить свои жизненные силы. Поэтому в последние дни он напряженно занимался гимнастикой, подолгу ходил не только во дворе, но и по улицам города, особенно много времени проводил в старом городском парке и на берегу Днестра. Почти все время на свежем воздухе, на солнце и постоянно находил себе занятие. Госпитальные работники, наблюдая за капитаном, которого здесь буквально все знали, только качали головами, удивляясь настойчивости и выносливости еще недавно истощенного человека. За каких-то две недели он выпрямился, кожа на лице разгладилась. Гордей тоже следил за ним, обследуя, удовлетворенно отмечал, что силы больного быстро восстанавливаются и организм входит в нормальный ритм деятельности.
И только Людмила не находила себе места от беспокойства. Мысль, что Андрей может скоро, очень скоро уехать, мучила ее, а тяготение к нему, на которое она иногда была готова, обжигало сердце. Недоумевала, почему он старается не замечать ее, хочет показать, что она ему только друг, хороший, заботливый друг и ничего больше. Бывали минуты, когда она сердилась на него, готова была наговорить ему дерзостей, отомстить за то, что он так отстраненно держится с нею. Даже в их дом стал заходить реже.
И все– таки были минуты, когда они оставались вдвоем, и тогда Людмила замирала, ожидая, что Андрей подойдет и все объяснится. Она затаив дыхание следила за ним и видела, что и он волнуется, мучается, что он робеет, не то что не хочет, а боится посмотреть на нее! И в таком изнеможении проходили минуты, и они, не сказав друг другу самого заветного, самого главного, расходились, унося нерешенные сомнения.
И каждый из них ругал себя и корил другого, но не находил успокоения и ждал снова такой минуты, когда случайно столкнутся. Людмила, более отчаявшаяся, сама искала уединения с Андреем, да и он не избегал этих встреч, но до объяснения не доходило: главным препятствием было и его увечье, и то прошлое, что висело на совести вечным грузом, – долг перед Женей. Он понимал, что прошло почти тридцать лет и та первая горячечная фронтовая любовь остыла и отдалилась в такое далекое прошлое, из которого возврат невозможен, но и ничего не мог поделать с собой. Ждал, пока любовь к Люде заслонит и развеет и тот сорок второй год, а вернее, лишь несколько осенних дней в октябре, когда война свела его и Соколову и тут же разбросала в разные стороны, и все, что мешает им сблизиться. Он понимал, что сейчас ему нужна хорошая встряска, резкая перемена в жизни, один решительный шаг, чтобы все стало по-иному, чтобы на все на свете – на свою жизнь, на судьбу – взглянуть по-новому, сказать самому себе правду. Все равно когда-нибудь нужно будет произвести ревизию и переоценку.
В одну из таких минут хотел было воспользоваться приглашением Мирославы и вместе с Виктором поехать в горы на несколько дней, отрешиться от всего, что здесь окружает его, и там, в горах, в одиночестве, спокойно обдумать все. Но поездка все не удавалась: то Виктор ходил в военкомат на занятия, то Мирослава уезжала куда-нибудь. Но однажды он решительно собрался в лес на прогулку. Люда спросила:
– У меня отгул. Возьмешь с собой?
– Если тебе доставит удовольствие плестись рядом со мной…
– Андрей! – с обидой в голосе воскликнула Люда. – Ты что городишь? Неужели ничего не понимаешь? Или ты теперь позволяешь себе криводушие? Обидеть меня хочешь? Так трудно стало с тобой…
– Вот видишь! А ведь мы заговорили только о прогулке… Не обижайся, Люда. Я сам не знаю, что говорю! Конечно, пойдем!
И они ушли к Днестру, они бродили долго лесом и радовались теплу и зелени, радовались чистым голубым небесам, словно видели это диво впервые в жизни, восторгались белыми, стерильными облаками. Даже скромные лесные цветы им казались яркими, сказочными. Андрей обронил фразу:
– Странно! Как будто я никогда не бывал в лесу! Меня все здесь поражает!
Люда насобирала небольшой букетик и присела на травянистой, освещенной солнцем лужайке:
– Ты, наверное, здорово устал? Это самый большой твой поход.
– Да.
– Садись, отдохнем.
Андрей опустился на траву рядом с Людой. Было очень тихо – ни птиц, ни листвы не слышно. Кажется, попали в такую глухомань, где вообще не существует звуков. И все же почему-то было торжественно: Андрей невольно прислушивался к себе, потому что с ним творилось что-то совсем необычное. Сердце билось празднично, мышцы напрягались в сладкой истоме. Люда сидела побледневшая и покусывала губы. Она глубоко дышала, и тонкие ноздри вздрагивали при вздохе. Ее глаза скользили по всему и, кажется, ничего не замечали. Он никогда не видел таких глаз у нее! Да и вся она показалась совсем иной, не похожей на ту повседневную Люду, женщину, которая восхищала его и которую он втайне любил, и какой привык видеть в палатах, в процедурной или в домашней обстановке. «Она тоже изменилась за эти дни», – думал он, искоса поглядывая на Люду. Ему подумалось на миг, что они убежали от того мира, в котором до сих пор жили, убежали далеко и насовсем, и теперь начнется что-то новое и непознанное.
– Тебе не кажется, что мы далеко зашли? – вдруг спросил он.
– Да? – удивилась она, явно не понимая вопроса да, наверное, и еле улавливая смысл его слов. – Зато здесь такие необыкновенные цветы!
– А ты знаешь, что это за цветы?
Люда не ответила, она легла на траву спиной и, приложив цветы к губам, закрыла глаза.
– Не знаю. Они ласковые и нежные. Люди никогда не бывают такими нежными.
– Барвин-зелье… Здесь его называют барвинок, барвинок свадебный. На свадьбы из них вяжут гирлянды… А знаешь, что в народе связывают с этим цветком? Верность. Горячую любовь. Существует даже поверье: если хочешь пробудить у кого-то любовь к себе, нужно дать ему съесть этот цвет и зеленые листочки барвинка-крещатого. Конечно, и самому съесть.
Он говорил тихо, полушепотом и в то же время слышал ее дыхание, запах ее тела, ее волос, чувствовал, как эта лежащая на солнечной траве женщина покоряет его волю, тянет к себе, и он не мог сопротивляться ее зову. Вот она торопливо схватила губами зеленые листочки и начала жевать – быстро, нервно. Вдруг полураскрытыми губами произнесла:
– Ешь и ты, Андрюша, бери…
Но вот она перестала жевать зелень, на миг лицо, кажется, окаменело. Он никак не мог понять этой перемены и, чтобы как-то развеять ее, стал восторгаться красотами природы:
– Почему в природе все и всегда прекрасно и празднично? И даже наша маленькая лужайка мне видится сказочной, где происходят невиданные чудеса. И ты здесь, словно лесная фея…
– Лесные феи бывают блондинками, – проговорила она.
– Это блондинки – феи вообще, а ты – фея для меня.
Она все так же лежала кверху лицом, и глаза ее все так же были прикрыты веками. Вот она протянула руку, нашла его руку, взяла пальцы в свою влажную ладошку и сжала. Грудь ее вздымалась часто, а он смотрел и не мог отвести глаз от ее беспомощных губ с прилипшими листочками барвинка.
«Да что же это делает с нами жизнь! Зачем мне еще такие испытания? Неужели у меня нет права любить эту женщину? Тогда зачем все это – и лечение, и стремление к здоровью и к какой-то новой мирной жизни? Почему же я сижу рядом с изнемогающей от любви милой, дорогой, мучительно любимой женщиной и не могу сказать ей о своем чувстве? Разве я виноват, что война сделала меня калекой, что судьба свела нас и наградила любовью и грезами о счастье?» – думал Оленич, боясь пошевелиться, не решаясь отнять руку и боясь проявить хоть малейшую нежность к ней.
Людмила, видимо, чувствовала, о чем он думает, она словно застыла на какое-то мгновение, и даже на лице проступила бледность. Две изумрудные слезинки выкатились из-под ее густых ресниц. Эти две сверкающие жемчужинки оказались сильнее рассуждений его здравого ума, выдержки и нерешительности: он вдруг склонился над женщиной, поднял дрожащими руками ее голову, целуя губы и щеки, шептал:
– Людочка! Дорогая моя женщина! Что я? Ничто перед тобой… Прости меня! Может быть, великий грех то, что я ношу в себе. Но нет сил больше таиться: я люблю тебя!
– Милый, милый Андрюша! О чем ты говоришь? Да пойми, – всхлипывая и прижимая его к себе, говорила она, – я жить без тебя не могу! Не могу!
И он потерял над собой контроль…
18
Взволнованный Виктор сообщил Андрею, что в военкомате ему предложили поступить в военное ракетное училище. И не надо было спрашивать, согласится ли он: все было написано на его восторженном лице. И так выходило, что в одно время уезжали Андрей и его приемный Сын. Гордей и Люда устроили проводы и поэтому на вечер пригласили девушек из медучилища – Галю и Мирославу, хотели оставить и земляков Негороднего, но они очень спешили домой – там работы невпроворот. О вечере Люда сообщила Андрею. Он, конечно, был против пышных церемоний, но смирился лишь потому, что проводы относились прежде всего к Виктору. Пригласили и фотокорреспондента Эдика. Но должен был прибыть еще один гость. Криницкому позвонил из редакции московского журнала Николай Григорьевич Кубанов и сказал, что с Андреем Оленичем они фронтовые друзья, однополчане, но потерялись на войне. Случайно узнав, что Андрей жив, сразу же послал фотокорреспондента, а теперь и сам выезжает в госпиталь. Гордей решил приберечь эту новость и поделился ею только с Людой.
Была суббота. Андрей собрался в парк на прогулку. Он спросил Людмилу, сможет ли она пойти с ним? У нее была важная и срочная работа, но пообещала прийти в парк через полчаса.
Уже почти около парка Оленича догнал Эдик. Фотокорреспондент был весел, в приподнятом настроении, не казался таким пройдохой и нахалом, как при первой встрече. Поздоровался, пошел рядом:
– На вокзал? – спросил он.
– Нет. В парк.
– А я – встречать шефа. Приехал для контроля: проверять, чем я занимаюсь. Разве я могу уехать отсюда, не побывав у вас на вечере? Тем более, что Людмила Михайловна в последнее время заинтересовалась мною. Черт возьми, какая женщина! Вы, капитан, тоже попали под ее чары? Да, от нее с ума сойдешь, стоит ей пройти мимо! Вы не обижайтесь, капитан, на мои слова: красота никому не может принадлежать, все принадлежит ей самой. Правильно я говорю?
– А что? Пожалуй…
– Ну, пока! Побежал к шефу в объятия.
Громоздкая фигура Эдика скрылась за деревьями, а где-то еще дальше гудела станция и слышалось громыхание подходящего поезда. Оленич присел на скамейку и откинулся на спинку, подставив лицо солнцу. День клонился к вечеру, от узенькой речушки тянуло прохладой.
Наконец в конце аллеи показалась Люда. Андрей пошел ей навстречу, взял под руку и, увлекая в глубь парка, стал говорить о своем счастье, что она его самая дорогая и самая любимая женщина на свете, его единственная судьба.
Неожиданно до него дошло, что она молчит, не проронила ни единого слова. Больше того, по ее лицу совсем не заметно, чтобы она обрадовалась его признанию, напротив, стояла подавленная и грустная. Он осекся и тоже замолчал, обессиленно повиснув на костылях.
– Да, конечно, нелепо… Нашло, извини, пожалуйста.
– Нет, ты и теперь не свободен. Ты не можешь освободиться от самого себя. – Все это Людмила проговорила негромко и укоризненно.
– Не понимаю, о чем ты?
– Поймешь. Скоро все изменится. Только что мне Гордей сказал, что твоя первая любовь – Евгения Павловна Соколова – жива, работает врачом в Киеве. Больше того, Колокольников отлично ее знает, она училась у него. И в свой последний приезд он обращался к ней за консультацией. Ее идея отправить тебя на жительство в причерноморские таврические степи…
– Люда, пощади, – проговорил Андрей. – Все это так же невероятно, как если бы у меня отросла нога!
– Я не выдумываю. И совсем скоро ты убедишься в этом: наверное, она приедет сюда…
– Этого быть не может!… Все прошло, Люда. Все сгорело, дотла.
– Мне бы не хотелось чувствовать себя виновной в том, что ты сам себя обманывал. И не хотела бы себе счастья за счет счастья других. Давай посмотрим, что нам уготовила судьба. Пусть устоится вода в нашем роднике – сейчас она помутнела…
По дорожке прямо к ним шли двое мужчин – Эдик, а рядом с ним высокий, стройный человек с кудрявым, седым, почти белым чубом. Но глаза у него молодые, живые – смелые и лукавые. И вроде смеющиеся.
«Почему он смеется? – подумал Андрей, вглядываясь в знакомое лицо. – Кто он? Где мы могли с ним видеться?» Но человек поднял руки и кинулся к нему, и только в самое последнее мгновение он узнал его: это был Николай Кубанов.
Двое закаленных в битвах мужчин, уже поседевших от всяческих треволнений и фронтовой жизни, вдруг растрогались до слез, встретившись после стольких лет разлуки. И Людмиле, и даже Эдуарду было неловко смотреть, как топчутся друг возле друга два бывших солдата и как стесняются своих слез и нечаянно срывающихся нежных слов. Людмила взяла Эдика под руку и повела в сторону, негромко говоря:
– Оставим их. Сейчас им не до нас. Пусть повспоминают, успокоятся… Им есть о чем поговорить.
– Мы тоже можем кое о чем поговорить, – произнес Эдуард, заглядывая в напряженное и задумчивое лицо женщины.
– Ну, нам-то говорить, собственно, и не о чем. Пока что мы для них помеха.
– Но мы друг для друга не помеха, а как бы дополнение.
– Эдуард, прошу, перестаньте со мной разговаривать в таком тоне, иначе поссоримся. Вы меня путаете с какой-то своей девицей… Я вас увела от них, чтобы не мешать им поговорить, но не для того, чтобы выслушивать ваши трали-вали. Пошло все это. Зная, что мне все это противно, все-таки пристаете!
– Ладно. Пока не стану вам надоедать. Но ведь придет время, когда все равно придется нам поговорить на эту тему.
– Буду надеяться, что этого не произойдет. У меня есть друг, есть надежда, жизнь. И ничего мне больше не нужно.
Криницкая быстрыми шагами удалилась по боковой аллее.
Эдик стоял, не зная что делать – то ли идти в гостиницу, то ли ожидать Кубанова. Но вот в его сторону взглянул Николай Григорьевич, махнул рукой; жест означал, чтобы подождал.
Они оживленно беседовали, и Эдик, прислушиваясь к их разговору, сделал для себя неожиданный вывод: Оленич и Кубанов давние дружки и становиться ему между ними – не резон. Но и к отцу было сочувствие. Старик пообещал даже что-то для подарка Людмиле.
А Кубанов между тем упрекал Оленича:
– Но почему ты никого не искал? Ни Женю, ни меня?
– Как тебе сказать? Я на вечном излечении… Зачем я Жене? Я ведь и не знал, что с ней и жива ли она? Ну а тебя я помнил всегда, ты был всегда со мной, во мне… Та наша прежняя дружба уже повториться не может. Мы ведь стали совсем другими. Ты вон из лихого казака-рубаки и разведчика сделался журналистом, писателем. А я журналов не читаю и поэтому не мог даже предположить, что ты станешь вот таким… Что с Женей? Как она?
– Живет, работает, заведует клиникой, специалист по психиатрии. Замужем. Ее фамилия – Дарченко. Это ее муж – Дарченко. Фронтовик. Она его подобрала и выходила где-то под Берлином. О тебе знала, что ты погиб в Карпатах. Вот и все… Не тужи, она, узнав о тебе, чуть поплакала и смирилась. Жизнь продолжается, брат…
Долго молчал Оленич, шагая рядом с Кубановым. Уже к ним присоединился Эдик, хотя шел немного позади, чтобы не мешать их беседе. Молчание нарушил Кубанов.
– Ты сильно разволновался. Может, тебе это вредно? Смотри, лицо побледнело, на лбу пот…
– А, к черту все на свете! – резко выкрикнул Оленич. – Говоришь, жизнь продолжается? Но до сих пор она шла по ложному следу. Для меня. Понимаешь, Николай, я все эти годы был связан по рукам и ногам не только болезнью.
– Не понимаю…
– Клятвой верности Жене Соколовой был связан. Как цепями.
Кубанов вдруг остановился и ошарашенно посмотрел на Андрея:
– Ты сохранял верность Жене?
– Да.
– Ну и ну! А жизнь распорядилась по-своему и давно все поставила на свои места. И только ты один не подчинился ее законам. Ты сам себя заковал, и твоя жертва какому не нужна. Состарился, жизнь катится к закату… Да что там говорить!
– Ну, хватит причитать! Тебя-то я знаю, ты с женщинами сходишься и расходишься, как ветер с облаками. Куда подуешь, туда они плывут – то к тебе, то от тебя. Я даже не думаю, что ты живешь с Марией.
– Конечно нет. Она ведь вышла замуж в своем хуторе еще во время войны. Написала мне, что любила другого, и все.
– Ты сейчас женат?
– Развелся. Тоже как-то не сложилось… Лет семь или восемь прожили. А потом она сказала, что от меня пахнет чужими духами… И ушла.
– Ты все такой же: шуточки, прибауточки… Не унываешь!
– Надо жить легко, Андрей. Легко, радостно. Иначе зачем волынку тянуть? – И вдруг спохватился, что городит черт знает что, начал выкручиваться: – Нет, я не за легкомыслие или там за беззаботность. Но вот я здоровый, жизнерадостный человек, все мне удается, все я могу, чего хочу. А желания у меня всегда по моему росту: я никогда не замахиваюсь на звезды или даже на журавля в небе. Я просто живу на полный свой рост. Пойми, я не хочу тебя ничем опечалить: у тебя трудная, можно сказать, страшная жизнь. Наверное, судьба знала, что тебе придется пережить, и поэтому дала тебе такой железный характер. Я всегда тебе завидовал. Хотя ты мне тогда, еще в сорок втором году, не раз говорил, что завидуешь мне, моей удачливости, завидуешь, что у меня такая красивая девушка – Мария. Но на самом деле завидовать надо было тебе: ты человек из кремниевой породы… Да, постой, а кто эта смуглянка? Какая стройная и гибкая, на испанку похожа, словно Кармен. Та, которую ты завоевал?
– Она.
– Все! Ты победил меня на всех дистанциях! И что моя удачливость и легкость походки? Все цветочки-лепесточки. Ты – фундаментальный человек, Андрей. И не бойся ничего, бери жизнь за недоуздок, как когда-то взял Темляка. Это конь был! То твоя настоящая первая любовь, Андрей! А эта женщина – вторая. А в промежутке, считай, ничего не было.
– Ты хорошо сказал, Николай. И я благодарен тебе.
19
Возвратившись в гостиницу и не найдя в номере отца, Эдик слегка перетрусил: уж не угодил ли предок за решетку? Но Крыж вошел в комнату через несколько минут с пухлым саквояжем.
– Почему днем выходил на улицу? Мы так не договаривались! Не мог дождаться вечера? Еще не хватало, чтобы ты напоролся на Оленича! Невольно задумаешься: стоит ли связываться с тобой?
– Не наскакивай на меня, сынок. Я сам могу прижать тебя к стенке. У меня тоже сомнения возникли: а не морочишь ли ты мне голову? Выманишь у меня золотишко, камешки, а там – катись, батюшка, в дальнюю дорожку! – ехидно ответил Крыж, пряча баул под кровать.
– Должен тебе сказать откровенно: боюсь я твоих похождений – и прошлых, и нынешних. Стою на гребне, а по обе стороны пропасти. Шагнуть некуда. И опоры нет. Вот что я хочу тебе сказать. Да ты ведь и сам сейчас так перепуган, что ничего не соображаешь.
– Да, боюсь: вдруг Оленич махнет в Булатовку?
– Не думаю. Если и поедет, то не сегодня и не завтра. У тебя есть время перепрятать свои богатства в другое место, а потом залечь и замереть. Почему бы некоторое время тебе не пожить где-нибудь подальше от этого городка?
– Здесь близко граница.
– А чем Одесса не граница? Там затеряешься, как песчинка на пляже.
– Что ж, возможно, ты прав…
Для Крыжа сейчас было жизненно важно, чтобы рядом был надежный человек, а кто может быть надежнее сына? Как ни крути, а нужно полностью раскрыться перед ним и потом начать совместные действия. Иного выхода нет.
– Эдик, сынок, видно, пришло время нам с тобой договориться: или заключить союз, или разойтись. Дело наше не терпит затяжки. Ты не прав, назвав меня паникером. В этом ты ошибаешься. Просто я сейчас особенно осторожен – и перед тобой, и перед своими заклятыми врагами. Стараюсь сделать шаг без малейшего шороха, пройти между людьми незаметно, слово вымолвить неслышно, исчезнуть бесследно. Подытожим, что на сегодня для меня самое опасное? Дремлюга – раз. Оленич – два. Ты – три. Не обижайся, я должен учитывать все. Вдруг ты не пойдешь со мной? Значит, будет оставаться опасность, что ты выдашь меня. С теми двумя мне управиться труда не составляет. С тобой – трудно. Ты мой сын. Мне больше всего на свете хотелось бы заключить с тобой дружественный союз. Со своей стороны, я бы обязался не вмешивать тебя в свои опасные дела, чтобы на тебя не падала моя тень. Но я хотел бы знать, что ты все сохранишь в глубокой тайне, будешь помогать. И вот я спрашиваю тебя, сынок: какое ты примешь решение? Только не спеши и обдумай все, прежде чем свяжешься со мной али разорвешь нашу связь. Но знай: как только я избавлюсь от этих двух свидетелей, так ты станешь очень богатым человеком и перед тобой откроются такие возможности, о которых можно только вычитать в сказках. Я обладаю золотом и драгоценностями на сотни тысяч рублей. Чтобы ты поверил, я даю тебе эту вещицу…








