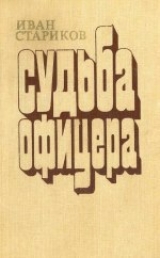
Текст книги "Судьба офицера. Трилогия"
Автор книги: Иван Стариков
Жанры:
Роман
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 28 страниц)
– Послушай, постыдись: люди вокруг ходят, а ты девушку лупишь!
Парень было рванулся, но из рук Эдика вырваться ему оказалось не под силу. Сразу притих и обмяк:
– Откуда ты взялся!… Эта стерва заслужила тумаков!
Заметив, что девушка притихла и смотрит на своего дружка без обиды, даже в глазах не видно слез, Эдик укорял парня:
– Она же любит тебя, чудак, а ты ее бьешь.
– У нее сегодня стипендия, а мне червонца не дает.
– Всего-то червонца?
– У меня плохое настроение, а ей, видишь ли, туфли нужно купить. До зарезу ей нужны туфли.
– Настроение можно всегда поправить, а вот туфельки обязан ты ей купить. Понял? Тогда она тебе не один червонец даст. А так на что ей рассчитывать, если на тебя нельзя? Тут рядом закусочная, зайдем? Я угощаю. У меня как раз сегодня хороший день. А ее отправь.
– Да, в этом деле она не товарищ. Ей сподручнее клизмы, утки, бинты. Студентка, будущая лекарка. Галя, иди в общежитие, я вызову, когда понадобишься.
– Сегодня не приходи – не выйду.
– Посмотрим.
Она ушла по аллее в направлении городской улицы, а Эдуард и парень повернули в обратную сторону, где в конце парка высилось здание магазина, а рядышком была пристроена закусочная, работавшая до полуночи.
– Как звать? – спросил Эдик.
– Богдан Дудик.
– Работаешь?
– Кто не работает, тот не ест… а пьет, – засмеялся Богдан.
– А кто работает?
– Тот и не ест, и не пьет.
– Чушь.
– Между прочим, на тракторе работаю, – уже серьезнее сказал Богдан.
– Девушек бьешь по совместительству?
– Всех, кто попадается под горячую руку. Могу и тебя отлупить.
– Ну и ну! Я его веду угощать, а он мне же грозится!
– Вроде ты мужик свой, а вид у тебя интеллигентный, кулака просит.
– Интеллигенты разные бывают.
В закусочной они взяли бутылку водки и два бокала пива, яйца, лук. Но Богдан с жадностью выпил стакан водки, закусывал плохо. Вскоре опьянел и начал жаловаться:
– Понимаешь, Эдик… Вижу, ты парень мудрый, сообразишь, что к чему. Галка мне нравится, мы с ней давно любовь крутим. Но вот она стала учащать в госпиталь, помогать убирать, лекарства подавать, одежду штопать, письма писать – от инвалидов, которые там. Ее и еще одну медичку прикрепили к одному капитану, а у того есть приемыш. Понимаешь, паренек оказался такой чистенький да интеллигентный. Учится, на заводе работает, в армию готовится. Так мне все время кажется, что Галка к нему может переметнуться…
– Но она ведь тебя выбрала.
– Меня! Она-то знает, что со мной – это временно, а с ним можно навсегда связаться. Оказался шустрый. Раньше-то – мы с ним сироты – вместе бродяжничали, а теперь он в инженеры или в офицеры метит. Ну, доберусь я до него когда-нибудь, навешаю ему «погон»!
– А кто его приемный отец?
– Да там капитанишка – полуживой-полумертвый… Оленич.
– Андрей Петрович?
– Так ты тоже его знаешь?
– Был сегодня у него. По-моему, его дело – труба.
– Галка говорит, что он живучий. Хотя мне он не помеха.
– Правильно. Ну, Богдан, допивай, а то мне еще к отцу надо: ждет не дождется сына своего непутевого.
На прощанье Богдан сказал:
– Если нужна будет помощь, свистни. Я в твоем полном распоряжении. Ты мне помог, и я тебя выручу, когда скажешь.
По пути к гостинице Эдуард зашел в магазин, купил выпивки, набрал консервов и поднялся на третий этаж, где была его комната. Отец сразу набросился на него с упреками, где шляется, почему не спешит сюда, зная, что тут старик с нетерпением ждет первых вестей. Но Эдик не торопился с отчетом, ему необходимо было собраться с мыслями, взвесить все увиденное и услышанное – чтобы и себе не в убыток. Первым делом сказал, что пойдет в ресторан на втором этаже и попросит принести в номер ужин. Потом нужно будет дать отцу выпить: честно говоря, Эдик боялся, чтобы отца не хватила кондрашка от рассказа про Оленича. Если это действительно тот офицер, который расстреливал его, то тут можно ожидать самой болезненной реакции. И как ни проявлял нетерпение старый Крыж, как ни хватал сына за грудки, Эдик все время одергивал его:
– Да не спеши ты, сейчас начнем ужинать, и расскажу все по порядку. Видишь, я занят приготовлением стола: ты ведь голодный как волк. Целый день небось крошки во рту не было.
– Ты только одно скажи: он или не он?
– Хочешь правду? Так слушай: это он.
Крыж схватил стакан, налил водки и залпом выпил.
– Правильно, старик! – одобрил сын отца. – В самый раз выпить, потому что разговор впереди, но главное ты знаешь. И теперь тебе придется поворочать мозгами.
Наконец они уселись за столик, и Эдуард сразу же налил стаканы, но как только отец взялся за стакан, сын остановил его за руку:
– А теперь не спеши. Главное ты знаешь. Стакан водки уже выпил. А пока не опьянел, давай выкладывай все об этом Олениче. Я должен знать все. Иначе мне будет трудно с ним разговаривать, а я намерен втесаться в эту компанию, как я понимаю свою задачу. Внедриться, так сказать. По всем правилам разведки. Ты – разведчик? Только не таись.
– Твоя настойчивость мне понятна. Но я ведь и побаиваюсь тебя: откроюсь тебе, а ты предашь меня.
– Я мог бы это сделать уже сегодня.
– Но ты не сделал этого, поскольку ничего не знаешь обо мне.
– Достаточно того, что ты рассказал мне об Олениче. Но я так понимаю, что это лишь незначительный эпизод в твоей бурной жизни.
– Допустим. Но в разведке я не работал и сейчас не занимаюсь шпионажем в пользу какой-нибудь иностранной державы. Я шпионю только для себя лично. А теперь – ради тебя.
– Все это совсем не то, чего я хочу. Если ты мне не доверяешь, я ничего не смогу для тебя сделать. Давай разойдемся в разные стороны. На том и покончим обоюдную любовь.
– Циник. Но хватка у тебя – моя. Вцепишься в горло – не выпустишь живым. Ну, так слушай… Война мне была не по душе. Сначала я прикинулся сектантом и отказался воевать. Пригрозили трибуналом. Пошел на фронт. Но я чувствовал, что Советам приходит конец, я молил бога, чтобы это произошло скорее. Я сидел в окопе и читал молитву, но наскочил Оленич, вытащил меня из окопа и приказал стрелять по немцам. Оленич ушел к своему подразделению, а появившийся капитан Истомин приказал нашему ротному поднимать бойцов в атаку. Понимаешь, это уж совсем не входило в мои планы а желания. Ну, в общем, я убил того капитана и хотел скрыться, перейти на ту сторону, к немцам. Прыгнул с обрыва, но меня заметили. Доложили Оленичу, ну, он и послал в меня пулю. Я упал, и они решили, что я убит. А вечером, когда немцы разгромили всю оборону краевых, меня отвели к их фельдшеру: они ведь видели, как я хотел перебраться к ним, и потом пощадили.
– Капитан тебя расстрелял, а враги – воскресили? Так?
– Вот именно. Они поняли, что я буду служить им верно и преданно. Потом я прошел инструктаж, курсы, меня отправили в тыл, в наши родные края. Там действовал партизанский отряд, с которым немцы не могли справиться. Моя задача состояла: проникнуть в отряд и выдать его карателям Хензеля.
– Не понимаю, почему ты опасаешься Оленича? Он ведь стрелял в тебя, значит, покарал, ты кровью искупил вину.
– Забываешь убийство офицера, капитана Истомина, который командовал там всей обороной. Такое не забывается. Тут срока давности нет: есть только одно – расстрел.
– Ну, а еще что?
– Много, Эдик, я содеял зла, много пролил ихней крови. Но есть еще одно, что страшит меня. Пока я считаюсь погибшим партизаном и мое имя высечено на обелиске в селе Булатовка. Это недалеко от Тепломорска. Там живет моя сестра.
Эдик даже присвистнул:
– От одного рассказа можно задохнуться. Неужели это только цветочки, а?
Опьяневший старый Крыж хвастливо проговорил;
– Рассказов моих хватит не на один вечер, сынок.
– Прямо Шехерезада! – воскликнул Эдик. – Интересно послушать.
– Нет, не сейчас! На сегодня достаточно, переваривай пока эту порцию. Лучше выкладывай мне все про того недобитого капитана Оленича. Вот теперешний мой интерес. И я не успокоюсь, пока он живет на этой земле.
– Мне показалось, что он долго не протянет. Я ему кинул лишь несколько резких фраз, а на его лбу бисером выступил пот. Нервничает. А меня предупредили, что его нельзя тревожить, потому что совсем недавно пришел в себя после очередного приступа, а с ним такие припадки случаются всегда, если его тревожат. Но сохранилась ли его память, пока мне установить не удалось. Вот навещу несколько раз, думаю, что сумею все разузнать. И пока он в госпитале, тебе бояться нечего.
– Дай бог…
– Но вот одна неприятность для тебя все же есть. Сначала я не придал ей значения, но после твоего рассказа я понял, какая опасность возникла для тебя. Дело в том, что госпиталь намеревается выписать Оленича и отправить на морское лечение в Таврию, в Тепломорский район. И не исключено, что именно в село Булатовку. Оттуда уже приходило письмо про какого-то Дремлюгу…
– Погоди, погоди! Какой Дремлюга?
– Не знаю… Говорят, дезертир. Все время сидел в яме под печкой. Недавно вылез, когда мать померла, кормившая его. Голод выгнал его из подземелья.
– Идиот! А я ломал голову, куда запропастился мой Глеб Дремлюга? А мать его, старая карга, притворилась, что не знает, куда подевался сынок! Ну вот еще один мой враг. И очень опасный. Может, пострашнее Оленича…
– Ну, ты даешь! Да тебе и по земле страшно ходить: кругом встречаешь опасных врагов!
– Вот теперь начинается настоящее дело! – вдруг воскликнул Крыж и наполнил стаканы. – Давай, сынок, выпьем за удачу.
– Что ты тут можешь? Ты же всего боишься!
– Да, боюсь. Поэтому и надо действовать быстро и бесшумно. Первым делом, не допустить, чтобы Оленич выбрался из госпиталя. А потом ликвидировать Дремлюгу.
14
Оленич поправлялся быстро. Даже Гордей удивлялся и сначала считал, что это результат удачно примененных методов и препаратов, но после очередного тщательного анализа наблюдений неожиданно пришел к выводу – восстановление и укрепление жизненной деятельности организма обеспечивает высочайшая организация и взаимозависимость физиологических процессов и психики. Сколько вокруг возникает нежелательных по вчерашним меркам событий, раздражителей, которые могли бы вызывать отрицательные эмоции, а он выдерживает и с каждым днем чувствует себя лучше и жизнерадостнее. Может быть, идеи той киевской знакомой Колокольникова – Евгении Дарченко действительно таят в себе исцеляющие возможности при правильном их применении? Ну, во всяком случае, сейчас для Оленича сложилась очень благоприятная ситуация и медперсоналу остается только поддерживать нарастание энергии в организме больного, как поддерживают огонь в костре на ветру. Уже через несколько дней главный врач разрешил Андрею выходить из палаты и делать небольшие прогулки во дворе, в саду и даже на улице.
Оленич же успел проведать всех больных, с которыми поддерживал дружеские отношения, побывал у Белояра, у Георгия Джакия, у Негороднего. Он хотел порасспросить про таврическое Причерноморье, какой там климат, какой уклад жизни, что за люди там живут, но Петр вдруг сам заговорил:
– Послушай, Андрей, я тебе доверю сейчас очень важную вещь. Ко мне приезжают земляки, из родного села – Булатовки. Понимаешь, они хотят меня пригласить домой. Но я-то знаю, что домой мне ехать нельзя. Я еле-еле держусь на плаву. Ты должен их предупредить, чтобы они не болтали лишнего…
– А что они могут разболтать? Про твою девушку? Так ты знаешь давно. Я вот о своей фронтовой любви ничего не знаю – где она, что с нею? Из бывшей части, куда я писал в сорок пятом, мне не ответили…
– Мы – фронтовики и потеряли своих девушек на фронте. Но я не за себя боюсь, Андрей. Поберечь бы Гордея Михайловича! Ты знаешь, что Таня…
Но в это время в палату вошел Криницкий, и Негородний, сразу же узнав его по шагам, замолчал.
– А, вот ты где? – обратился Гордей к Андрею. – Пойдем, есть важное дело.
– Хорошо. – Оленич прикоснулся рукой к руке Негороднего и пообещал: – Я зайду еще к тебе.
Оленич и Криницкий спустились во двор и пошли во флигелек, зашли в биллиардную и уселись в кресла.
– Давай говорить откровенно: как ты смотришь на фотокорреспондента? Понимаешь, тут такая ситуация складывается: по всему видно, что его послал к тебе друг, но кто-то хочет использовать этого необузданного парня в злых целях. Не могу объяснить, откуда у меня такое предубеждение против него, но предчувствую в его появлении зло. И боюсь…
– Не беспокойся, Гордей. Мне тоже приходят примерно такие же мысли, но нам ли с тобой бояться?
– Может быть, отправить его? Он проявляет непонятный мне интерес к госпиталю. Хочет остаться на недельку-две, а я против его присутствия. И к Людмиле начал прилипать. Кичится своей оригинальностью суждений, принципов не имеет, и ему все равно, кто попадется под руку… Извини, рядом с таким и сам станешь нести похабщину.
– Не гони его. Он мне нужен.
– Для чего? – удивился Гордей.
– Для борьбы. Мне надо бороться не против своей болезни, а против враждебного мне духа. Хочу проверить себя. Борьба, чувствую, мне поможет преодолеть многие уязвимые в моем здоровье места. Пока под твоей опекой, надо все испытать.
– Ну, смотри сам. Честно говоря, мне с самого начала не понравился корреспондент. Он будто выпал из чужого гнезда.
– За меня будь спокоен: я жажду встреч с ним. А вот Люду ты напрасно примешиваешь, – Андрей нахмурился и встал с кресла. – Она умница, разберется без нашего вмешательства.
Смущенный упреком Андрея, Криницкий тоже поднялся и направился к двери, но остановился:
– За тебя-то я спокоен: ты равнодушен к Люде. А вот она, кажется, любит тебя.
– Об этом не надо, – повторил резко Оленич. – Если у нее и есть ко мне чувство, то оно развеется, я из тех, кто не приносит счастья. И вообще, об этом не будем говорить.
– Ладно. Пусть будет так. Только здесь никакая логика, никакие решения и расчеты не играют роли. Любовь сама приходит и утверждает себя в любом человеческом сердце. И уходит, когда ей заблагорассудится.
Гордей быстро вышел. Андрей остался в биллиардной. Он стоял возле стола, опираясь на кий, словно на палку, и смотрел на зеленое поле и на золотистые шары. Он слышал, как в груди гулко и часто билось сердце. Неосторожно брошенное слово оказалось заклинанием, сосуд открылся, и наружу, на волю вырвался джин, который может преобразить всю жизнь, толкнуть человека в царство обманов и волшебства. Люда любит его, Андрея? Смешно и горько.
Как быть в этой ситуации? Убегать ли от нее или кинуться ей навстречу?
Дом Криницких стал для Оленича самым родным очагом, где втроем они подолгу жили единой семьей, где им всегда было покойно и интересно. Иногда посещали театр, ходили в кино, выбирались на природу к Днестру, выезжали в недалекие горные леса, а вечерами устраивали себе праздник для души. Гордей часто пел: он любил старинные романсы и исполнял их очень трогательно, хотя немного на цыганский манер. Люда в шутку называла его «цыганским бароном». Андрей был по-настоящему счастливым, хоть и мучился, скрывая свою влюбленность.
Как же быть дальше?
В одно мгновение все изменилось: оставаться дальше в этом доме стало неловко, совестно. Ежедневно видеть Люду рядом с собой, терять над собою власть и знать, что и она любит его, но не хочет этого показать, а это всякий раз останавливает его порыв сделать шаг ей навстречу. Это мучительно. Так ведь жить нельзя, для него просто невозможно!
Машинально поднял кий, ударил по шару и промахнулся. Прицелился и снова ударил: кий зацепил шар вскользь. Руки дрожали, кий колебался, шары раскатывались в разные стороны, и ни один из них не попадал в лузу. Но все же Андрей постепенно сумел взять себя в руки и немного успокоиться. Наконец-то он забил шар! Удар был сильный, шар со щелчком влетел в лузу. Андрей выпрямился с видом победителя и… увидел в дверях Людмилу.
Она стояла на пороге и смотрела на него с улыбкой. Потом подошла к нему, посмотрела в лицо внимательно и ласково:
– Пойдем, Андрей, к Негороднему приехали земляки – односельчане. Послушаем их. Может, тебе действительно придется съездить туда к ним, на берега Черного моря, и пожить, укрепить здоровье…
Оленич так был растерян, что покорно пошел за нею следом.
Дверь в сорок восьмую палату была приоткрыта. Людмила и Андрей почти неслышно переступили порог, чтобы не мешать беседе. Но Петр Негородний, слепой и недвижимый – у него не было обеих ног и руки повреждены, – все же узнал, кто вошел.
– О, мой капитан! Молодец! – радостно воскликнул Негородний. – Я уже хотел послать за тобой… И Людмила Михайловна? Вот спасибо! Я учуял еле уловимый аромат ваших духов. Никогда в жизни мне не приходилось встречать такой аромат, и поэтому не знаю, с чем его сравнить… Ну, да вы и сами ни с кем не сравнимая, как говорит мой друг Андрей.
– Не болтай лишнего! – проговорил Оленич. – Меня предупреждал, а сам разошелся. Ошалел от радости?
– Есть такое, Андрюха! Земляки, из родного села… Дядька Федос, вечный чабан, хозяин Таврии. И Варвара… Такая девчушка росла – веселая, голенастая и горластая. А как только где гармошка заиграла – она руки в бока и пошла танцевать. Варя, сколько тебе было перед войной? Ну тогда, помнишь, когда я собрался в армию?
– Ходила в Тепломорск в шестой класс, – застеснявшись, но счастливо глядя на Петра, произнесла полная женщина с обветренным лицом. Цветной платок упал с головы на плечи, и в темных густых волосах уже просвечивали белые нити.
– Извините, товарищ полковник, – проговорил Негородний, пошевельнувшись телом, словно пытался подняться, – вас я не сразу опознал.
– Ну ясно, со мной у вас связано мало приятного, – с улыбкой отозвался подошедший Гордей. – Одни боли да страхи. Так ведь?
– Не совсем, товарищ полковник медицинской службы! Вы для нас – барометр нашей жизни. Если вы приходите в окружении врачей и сестер, то жизни, как говорится, с заячий хвост. Ну а когда вот так, как сегодня, вроде на огонек, – значит Негороднему можно подыскивать невесту. Вы не только надежда, вы – уверенность. Ваши спокойные слова проясняют мозги, а когда голова светлая, жить легко.
– Какое восхваление! – хмуро сказал Криницкий. – Такое слушать только девушке на выданье.
Людмила вмешалась в разговор и обратилась к старому чабану Федосу Ивановичу:
– Мы не помешали вашей беседе? Нам ведь так интересно увидеть людей, близких нашему Петру. Как вы там живете?
– Жить живем, да мало жуем! – сказала Варвара.
– Цыть, Варька! – прикрикнул на нее дядька Федос. – Ишь, какую вывеску цепляешь на нашу жисть! Какой сами сделали, такая она и есть. Чем ты обижена? Рази что мужика бог послал непутевого. Дак сама и виновата.
– Мужик! Тоже забота, – протянула Варвара. – Может, где лучше имеются? Ха, мужики! Штаны да бутылка.
Негородний засмеялся и восхищенно начал рассказывать:
– В Булатовке женщины ершистые да насмешливые, острые на язычок. Скажет слово, словно бритвой полоснет. А красивые!… Со всей Таврии к нам в село наезжали женихи, наскакивали красавцы – гордые да дерзкие, а наши девушки быстро их обрабатывали, словно малых детей пеленали.
Тут и дядька Федос поддакнул, погладив седую бородку и усы:
– Петро правду говорит – черти, а не бабы. Ведьмы хвостатые! Но хороши собою, истинный бог. Глянет на тебя – пропечет насквозь, отвергнет – всю жизнь будет сниться, а полюбит – на край света, в ад за тобой пойдет. Вот его, Петрова, Любка…
Старик повернулся тщедушным телом к Гордею и Андрею, глаза у него блестели гордостью:
– Ну, да вы, наверное, знаете их историю.
Варвара, чернобровая и по-селянски несколько полная, сидела разомлевшая от духоты в палате, щеки ее горели маковым цветом.
– Может, тогда парни были такие, что за ними ж в ад пойдешь, – проговорила она, играя глазами, и со вздохом приложила палец к полным розовым губам. – А что у меня был за мужик? Куражился только. Выпьет, бывало, наскочит и давай права качать, а скажешь ему одно-два соленых словца – и наповал. Валяется в ногах… Ну а жизнь у нас налаживается. Вот хотим пригласить Петра домой – прокормим, приютим и обогреем. Я доярка, так обязуюсь давать ему молоко от лучшей коровы – Красавки. Жирность четыре процента! Враз поставим на ноги.
Дядька Федос даже заерзал на стуле:
– Хвалю! Тут ты, Варвара, в самую точку! Стыдно нам, булатовцам, что наш солдат, пострадавший на войне, находится в чужих краях, а не дома. Пора тебе, Петро, возвращаться. Как на это посмотрят доктора, а?
Защемило, видно, в душе Негороднего, зацепило само» больное, самое чувствительное в солдатской душе – мечту и думы о родном доме, о близких людях, о земле. Об этих потаенных думах никакими словами не расскажешь, потому как здесь всякий понимает, что уже никогда не вернется домой, но этой мысли не допускает в душу, ибо тогда погаснет светильник жизни, свет которого поддерживается с таким трудом. Все заметили, как бледность разлилась до его лицу, как ему трудно было сдерживать волнение, а еще труднее – говорить. Но он все же сказал:
– Эх, дорогие мои земляки! На крыльях бы полетел в родной край, да крылья мои обожжены. Вот вы приехали и привезли с собой запах нашей степи. И я счастлив. Что человеку нужно? Чтобы помнила его родная земля, чтобы любили его люди. А уж я так помню все до малейших подробностей – и бескрайнюю степь, и огненные наши зори, и изменчивое, вечно манящее море, смоленые шаланды и плоскодонки. Как мы ходили с Борисом Латовым да с Ильей Добрынею за кефалью и скумбрией. И как мы все чуть ли не передрались из-за вашей Оксанки… Каждого человека помню.
Неожиданно Негородний умолк, невидящие его глаза словно искали кого-то среди присутствующих, потом извинительно сказал:
– Неосторожно я зацепил ваше сердце, Федос Иванович, но не вспомнить Оксану – грешно. Простите.
У старика слезы на глаза навернулись:
– На тебя гляжу, а ее вижу. Вы же – зернышки одного колоска. Сожженного колоска…
– Вот вернешься и вроде от имени всех не вернувшихся с войны придешь, – убеждала Варвара.
Людмила наклонилась к Оленичу и прошептала:
– Надо помешать: они уговорят его. А ему же нельзя. Нельзя.
– Не будем вмешиваться. Все идет правильно. Они этим выражают ему свою любовь и уважение, и всем тем, кто не вернулся в село.
А Петро говорил:
– Я не вернусь уже домой: не доеду. Вот хочу предложить капитану Оленичу поехать к вам. Заместо меня. Ему нужно полечиться возле моря, а где же море лучше для лечения, как не у нас? Гордей Михайлович, вы слышите меня? Посылайте его в Булатовку. Не пожалеете.
– Подумаем над этим. Это далеко от Тепломорска?
– Да почти рядом: пятнадцать километров.
Варвара сразу с допросом:
– А вы, капитан, одинокий или есть семья?
– Ну, какой же из меня кормилец? Я могу быть только обузой. Так что приобретение для вашего колхоза небольшое…
– Мы не выгоды ищем, дорогой товарищ! – с достоинством произнес старый чабан. – Мы берем часть забот на свои плечи, чтобы государству легче и нашим душам светлее.
– Приезжай к нам, капитан, – приподнялась и поклонилась Варвара, – не пожалеешь. Невесту тебе подберем ласковую да заботливую. Народ у нас характерный, с выкрутасами, но в общем-то добрый.
– Да, интересно бы у вас пожить, – сказал Андрей. – Один Дремлюга чего стоит. Кто написал так лихо о нем, не знаете?
– Как не знаем? – подняла голову к Оленичу Варвара. – Написала дочка учителки Татьяны Павловны. Мать померла, а Ляля сироткой выросла…
– Варвара! – крикнул Негородний.
Людмила и Андрей, потрясенные новостью, повернулись к Гордею, который все время стоял позади них у самой двери, но его уже не было.
– Значит, у нее дочка сиротой осталась? – почти простонала Люда.
Негородний укорил землячку:
– Что ты, Варя, наделала! Здесь никто, кроме меня, об этом не знал. Хотел же тебе, Андрей, сказать на всякий случай, да не успел. Ах, как нехорошо вышло!
– Да что получилось-то? – Растерянная Варвара поглядывала на всех присутствующих, не понимая своей вины.
– Наш главный врач, – объяснил Андрей Варваре, – полковник Гордей Михайлович, любил Татьяну Павловну. Уехала она от него…
– Ой, и впрямь вышло нехорошо… Но ведь я ж ненароком!
Федос Иванович выждал, пока все умолкнут, произнес успокоительно:
– Чего завели такую секретность? Девочка выросла. Там такая писаная красавица! И не знает, что у нее есть отец. И отец не знает о ней ничего. Житейские дела… А вы завели военные тайны. Надо немедля все рассекретить, пусть знают друг о друге.
– Ну, так это же совсем другой вопрос! – обрадованно воскликнул Оленич. – Мне есть смысл ехать туда… Все дороги ведут к вам, словно в Рим.
Людмила потянула его за рукав и прошептала:
– Пойдем, Андрей, пусть они о своем поговорят…
В коридоре она спросила, задыхаясь от своего вопроса:
– Неужели поедешь? – И тут же сама себе ответила, как выдохнула свою затаенную боль. – Поедешь! Тебя не остановишь ничем…
Он не успел ей ответить: она сорвалась и побежала по коридору, потом скрылась в своей сестринской палате.
15
К знакомству, перешедшему в любовный роман с Таней Рощук, Гордей Криницкий относился не слишком серьезно, казалось, эта связь долго не могла продолжаться, и мысль о браке даже в голову не приходила. Но девушка ему по-настоящему нравилась, была в ней какая-то загадка, которая привлекала и подогревала интерес. И еще одно, что вызывало любопытство, – цельность натуры, присущая и самим Криницким. Вроде появилась какая-то дальняя родственница…
А началось все с того первого дня открытых дверей в госпитале, с четверга, когда учебные заведения города решили взять шефство над инвалидами войны, прислали юношей и девушек, чтобы хоть чем-то помочь, чуть-чуть облегчить существование искалеченным людям. Учительница из первой средней школы привела группу учеников и распределила по палатам, а в сорок восьмую, где обитал лейтенант Негородний, ребят не хватило. Тогда Татьяна Павловна решила, что на некоторое время возьмет нагрузку на себя.
Как потом выяснилось, она вначале рассказала инвалиду о городе, где находился госпиталь, о горах Карпатских, о реке Днестр, о бандеровщине и о смерти товарища Сталина, об общем по всей стране голоде. Картина вырисовывалась не совсем радостная, но офицер требовал правды, и Татьяна Павловна с горечью про себя отмечала, что эта правда – не бальзам для больного человека. Потом он попросил написать письмо от него в родное село, чтобы узнать, как живут его земляки и какие послевоенные беды свалились на них.
– Неужели они бедствуют и голодают? – тихо, с болью в голосе спросил Негородний и, не дожидаясь ответа, продолжал: – А какие места богатые у нас! И земли родят хорошую пшеничку, и овцам да птицам простор, и море у нас рыбное! Не должно бы быть голодухи…
Гордей Михайлович, обходя больных, зашел и в сорок восьмую палату.
– О, к нам зашел наш главный! – сразу же воскликнул Петр.
Со стула поднялась довольно высокая, стройная молодая женщина лет двадцати пяти. На Гордея Михайловича глянули большие глаза, лихорадочно блестевшие. Голос у нее оказался тихий, вкрадчивый, подкупал искренностью:
– Помешаю вам? Я, наверное, много времени отняла? У вас ведь работа! Мне уйти?
– Ну что вы так всполошились! Сидите.
– Мне очень неловко…
– Все равно на улице начинается дождик, так что не торопитесь.
– Ой, я побегу! У меня так много работы!
Негородний приподнял голову:
– Спасибо вам, Татьяна Павловна! С вами было очень интересно! Пожалуйста, придите еще, а?
– Хорошо, хорошо. Я приду, приду обязательно, – проникновенно звучал ее голос.
Гордей Михайлович вышел с нею на улицу. Уже темнело. Накрапывал дождь.
– Разрешите вас немного проводить? – спросил Гордей Михайлович.
– Если вам позволяет время, пожалуйста.
А через несколько минут хлынул сильный дождь.
Гордей Михайлович схватил Татьяну Павловну за руку, сорвался на бег, увлекая за собою. Девушка охала, протестовала, но бежала и роняла слова:
– Да вы же совсем промокли! И зачем вы пошли! Как вы назад в таком виде вернетесь?
Потом, когда уже остановились у дома, где она жила, нерешительно промолвила:
– Мне жалко, что вы из-за меня терпите такое. Может, ко мне войдете?
Видно было, что она пригласила из вежливости, и теперь боялась, что он согласится. Но Криницкий не обратил внимания на ее смущение и пошел следом.
Жила Рощук в одной маленькой комнатке, забитой книгами и подушками. «Странно, – подумал Криницкий, – зачем подушек столько?» И спросил ее об этом напрямик»
– Это мое приданое, – равнодушно отозвалась она. – Осталось после мамы.
– Собираетесь замуж?
– Из-за подушек? – Покраснела вдруг и призналась: – Еще никого не любила и даже не дружила ни с кем… Чаю горячего выпьете?
Криницкий с удивлением разглядывал ее. Теперь, когда она переоделась за ширмой и была в одном платье, он увидел, что ноги у нее тонкие, но стройные, бедра высокие, грудь полная. Необъяснимая гармония была во всей ее фигуре. А лицо не улыбчивое, и глаза не лживые.
– Что так? Не повезло или не хотите заводить семью?
– Н-не знаю… Не поверите… – Вдруг она остро глянула ему в глаза и с каким-то отчаяньем выпалила: – Панически боюсь любви! – Отвернулась к письменному столику, склонила голову и глухо прошептала: – Извините, у меня так много работы, а я уже устала…
Гордей ушел. Но через несколько дней он встретил Таню на улице при солнечном свете. Ее красота еще больше поразила его. Но лицо Тани было очень бледным… Они разговорились, и снова он довел ее до дома. Тут же уговорились встретиться в субботу вечером возле кинотеатра. А после кино Гордей повел ее к себе, познакомил с Людой и Андреем. Таня как-то сразу вошла в семью: она всех понимала и всем нравилась. Она была хорошо образована, обо всем имела свое мнение, хотя немного меланхоличка. Но Люда и Андрей сразу заметили: Таня влюблена в Гордея. И Людмила Михайловна говорила Андрею: буду молиться богу, чтобы и он полюбил ее и обрел, наконец, семью.
Но однажды Тане стало худо, и Люда увела ее к себе в сестринскую. Они оставались там несколько часов. Позже, когда Таня ушла, Гордей допытывался у Люды, но та отмахнулась:
– Это вас, мужчин, не касается.
На том и закончился эпизод.
А вскоре Таня объявила, что дотягивает учебный год и уйдет из школы – поедет поступать в аспирантуру.
Гордей Михайлович к решению Тани отнесся довольно спокойно и только попросил написать ему, где она будет жить и как устроится. И только в тот день, когда она пришла к нему домой сама, без приглашения, и провела с ним всю ночь, он невольно подумал, что все же жалко, что она уезжает: Таня все больше нравилась ему. А в то последнее утро она была такой веселой, такой красивой: по щекам разливался румянец, возбужденный голос звучал сердечно. Глаза ее были слишком внимательны и пристальны, и нежность она проявляла так неистово, что он почувствовал: Таня прощается.
Но ушла она не простившись, как-то буднично, словно еще не раз вернется сюда.








