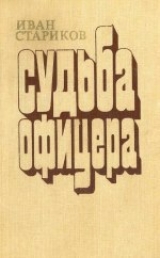
Текст книги "Судьба офицера. Трилогия"
Автор книги: Иван Стариков
Жанры:
Роман
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 28 страниц)
Оленич ни разу не выходил на улицу вечером и не знал, что делается в центре – возле конторы колхоза, клуба, магазинов и чайной. Надел китель, офицерские брюки навыпуск, нацепил протез, но вышел не с палочкой, а на костылях. Постоял возле ворот, глядя вдоль улицы, в конце которой виднелось море. Вода до самого горизонта играла бликами предвечернего солнца, и было такое впечатление, словно улица вела в царство золотых рыбок. А направо улица тянулась далеко, в густую синеву, где обозначались контуры молочнотоварной фермы.
Позвав Рекса, Оленич, медленно переставляя костыли, пошел по узкому тротуару, вслушиваясь в предвечерний гул села. Людей встречалось мало, но людские голоса доносились и со дворов, и со стороны так называемого центра. Уже почти у самой чайной раздался грозный человеческий голос. На ступени из раскрытых дверей выбежал, закрывая лицо руками, Григорий Корпушный, муж Варвары.
– Что там такое? – спросил Оленич.
– Да вот… нарвался на пьяного Бориса…
– Погоди…
– А ну его! Не связывайтесь, проспится, на том и кончится. Все равно нет на него управы…
Григорий бросился к колонке, умылся, вытерся рукавом и пошел прочь. Только Оленич ступил на первую ступеньку к двери, как вывалился огромный, с помутневшими глазами, с расставленными в ярости руками Латов.
– Матрос Латов! Отставить мордобой!
На мгновение от неожиданного властного окрика Латов остановился. Оленичу даже показалось, что моряк отрезвел и как-то растерянно спросил:
– Ты кто? – Но потом, вдруг увидев и поняв, что перед ним инвалид, презрительно кинул: – Ты против кого, несчастная пехтура? Да я кровью утру твою морду! – И выставил вперед беспалые руки в черных чехлах.
И в этот миг, словно пантера, бросился на Латова Рекс, встал на задние лапы, упершись передними в грудь матроса, раскрыл пасть, грозно рыча. Теперь пьяный дебошир окончательно протрезвел и пришел в себя, в страхе глядя на собачью пасть. Но пес опустился на землю, отошел назад и сел рядом с Оленичем, но зорких, немигающих глаз не сводил с человека, который угрожал хозяину.
– Что же ты, братишка, приумолк? – Оленич был спокоен и не улыбался, хотя его слова были насмешливыми. – Или ты молодец против овец, а против молодца – сам овца? Давай сядем за столик да поговорим.
– Пускай с тобой палач говорит! – нехотя произнес Латов, но в голосе уже не было ни ярости, ни злобы.
– Ну, о палаче мы еще поговорим. И ты напрасно так бездумно произносишь это слово: твой палач недалеко бродит!
– Не цепляйся! Видишь, пьяный человек…
– Человек? Это ты смело говоришь, Латов. Был ты человеком, это верно. Давно был, да сплыл с морской пеной. Люди вон где – в селе, в домах, в поле, на фермах. Люди окружают тебя, но ты перестал быть их сыном, братом, другом. И терпят они тебя не потому, что ты такой страшный, а лишь из уважения к твоей морской форме, которую ты позоришь.
Оленич заметил, что буфетчица, официантка, повариха выглядывают из-за прилавка и штор: для них было невиданное зрелище, чтобы кто-то осмелился стать наперекор Латову! Такого еще не бывало!
– Да что с тебя возьмешь, когда ты стал хуже предателя…
Латов, который все-таки присел на стул, схватился и рванулся с воплем на Оленича:
– Я не посмотрю на твою псину! Ты не смеешь мне такие слова говорить!
Но Рекс зарычал, зашевелился, и матрос снова сел и умолк.
– Не прыгай передо мной, Борис. Я хотел тебе сказать правду о тебе самом, кем ты стал. Но я твердо знаю, что ты и сам все понимаешь, а дебоширишь потому, что потерял власть над своим диким нравом. Свой разум ты убиваешь водкой и потому ничего не помнишь и не хочешь помнить: ни Оксану, ни любовь свою и молодость, ни даже то, ради чего ты сражался. Я тоже калека, но я остался человеком, а ты – нет. Увидели бы тебя братишки с твоего корабля! Если бы они поднялись со дна морского, то судили бы тебя как предателя. Ты предал их честную смерть. И народ думает, что все матросы похожи на тебя.
– Какого черта! Сам еле тянешь ногу, а туда же, воспитывать! Тебе амба. Ты не герой нашего времени. Сегодня ты – нуль без палочки. Пойди по селу и посмотри, как твои настоящие люди относятся к таким, как мы с тобой. Тогда и ты поймешь, что нам амба…
Оленич отметил про себя, что, может быть, Латов и не был сильно пьян, а лишь давал волю буйному нраву и сейчас, немного успокоившись, начал рассуждать, в общем-то, правильно.
– Есть доля правды в твоих горьких словах, Борис. Не отрицаю. Вот об этом и будем говорить завтра в сельсовете. И чтобы ровно в двенадцать часов ты был там.
Оленич пошел к выходу. Борис поднял голову и спросил вдогонку:
– Погоди! Откуда ты знаешь об Оксане?
– Мне очень многое известно. И нам с тобой придется разыскать того, кто расстрелял твою невесту и ее мать. Ты когда-нибудь задумывался над тем, что, может, палач ходит рядом? То-то же, матрос! А бьешь невинных, несчастных и больных людей. Эх ты, братишка!
Много думал Оленич об этом человеке. Судьба явно не благоволила Латову и даже простым сочувствием не облегчала его существование. Ему уже под пятьдесят, а он до сих пор в форме, строен и красив. Ему бы еще красоваться, жизнью упиваться, радость семье дарить, дочери любовь посвятить, но обиды, нанесенные ему, поразили в его существе все, что было лучшего. Так сильный человек превратился в безвольное путало. Да вряд ли он и сам себя уважает или считает свое поведение нормальным.
Латов буйствует, Латов выпускает пары наружу, а сколько искалеченных людей все невзгоды, все несчастья переживают молча, замкнувшись в своей хате, в своей семье, в самих себе. И чем облегчить им жизнь? Как внести в их обиженные души свет радости? И кому дано это?
13
В хорошем настроении Оленич на другой день пришел в сельсовет, где уже начали собираться инвалиды. Почти все были в старом военном обмундировании, при наградах. Оленич удивился: все из одного села, а чувствовали себя чужими друг другу. «Заброшенные люди!» – резануло по сердцу. И эта заброшенность, материальные лишения и недуги обособили их, и они уже свыклись с тем, что жили только в своем личном – труд, ном и горестном мирке. Они свыклись с тем, что никому нет никакого дела до них.
– Ольга Коровай не пришла, – сказал кто-то.
– Да, не пришла. Подождем немного. Вот и Латова еще нет, – произнес Оленич.
Кто– то хмыкнул, кто-то проговорил:
– И слава богу, что нет! Тише будет.
– Да он и не придет, небось уж напился и затевает где-нибудь дебош. Потерянный человек, – пробасил высокий, усатый мужчина, назвавшийся Устином Орищенко, с которым Оленич еще не был знаком.
За окном протарахтела мотоколяска: это подъехал Тимофей Потурнак. Он остановился, заглушил мотор и крикнул:
– Отворите окно, чтоб я все слышал! – Орищенко потянулся и раскрыл обе створки. – Кто там уже пришел?
– Да собрался народишко… Денис Гречаный здесь, Яким Поричный пришел, Савва тоже с нами. Да зачем тебе всех? – Орищенко сел на скамью и уже не оборачивался к окну.
Но Потурнака не угомонить. Он громко спросил:
– Капитан, ты там?
– Да, здесь.
– Чего ты нас собрал? Может, какие новости есть? Для инвалидов вышло воспомоществование какое, а?
– Новостей пока нет. А поговорить нам есть о чем.
– О чем тут болтать! – скептически отозвался Поричный. – Словами даже пуговицу не пришьешь.
Поричный подорвался на минном поле под Варшавой, но остался живым. Ему повредило позвоночник и таз, и теперь он ходит с двумя палками, все время наклоняясь вперед, словно высматривая что-то на земле. У Дениса нет ноги и руки, и он, даже сидя на стуле, не выпускал из-под мышки костыль. Савва никогда не снимал черных очков, хотя они ему не нужны – он был почти слепой, лишь одним глазом чуть-чуть замечал брезжущий свет. И все остальные, сидевшие сейчас в кабинете Оленича, были нетрудоспособными. Те, кто хоть как-то мог трудиться, ушли на работу. Но кое-кто из них обещал заглянуть в сельсовет. Тоня составила список давших согласие явиться в сельсовет: их насчитывалось семнадцать человек. Сейчас же в комнате было лишь двенадцать.
– Может, начнем? – спросил Орищенко.
И неожиданно в кабинет ввалился Латов. Невольно все отпрянули от него в разные стороны. Он вошел, и перед его мощной фигурой почему-то все показались маленькими и беззащитными. Он хмуро поздоровался:
– Здравия желаю!
Удивленные и заинтригованные, инвалиды смотрели на него робко, лишь Орищенко спросил Оленича:
– Капитан, чем ты его заманил сюда?
– А чего его заманивать? Сказал, что все собираемся, вот он и пришел. Ты же пришел?
– Так то я! Ну и ну…
– Ты, дед, не нукай. Еще никого не запряг, – буркнул Латов.
– Тебя запряжешь!
Орищенко мог так смело говорить с Латовым, потому что сам был матросом, да и старше вдвое. На восклицание старого моряка Борис не отозвался, а взял стул возле дверей, принес его к столу, поставил рядом и уселся – крепко, по-хозяйски, смело обвел всех дерзким взглядом.
– Вообще-то, мне нужно поговорить с капитаном один на один. Но я не спешу. Высказывайтесь все, чего кому надо. Так ведь я понимаю твою задачу, капитан?
– Можно и так сказать. Это задача номер один для всех. Да и для тебя. Ну, начнем хотя бы с того, как ваше здоровье? Кто нуждается в медицинской помощи?
Все заговорили наперебой: у каждого были болячки, каждый нуждался в помощи, в лекарствах. Незаметно перешли к разговору, что трудно поехать в райцентр в поликлинику – председатель не дает транспорта. Софья Константиновна, здешняя фельдшерица, не может всех принять, да и задача-то ее оказывать лишь первую неотложную помощь. Кто-то сказал, что за лекарствами приходится ездить в райцентр и тратить по целому дню, возвращаться разбитым и еще более недужным. В домах у инвалидов в зимние месяцы холодно – не хватает топлива. Если уголь и выделяет райисполком, так привезти не на чем. А дрова вообще не продаются, и колхоз не может выделить: если есть древесные отходы, то их забирают те, кто работает на стройке, на пилораме, в плотницкой. Коров позабирали, а молока купить негде. Которые похитрей, как Потурнак или Кошевар, пооставляли своих буренок дома. Однако с кормом плохо. У Тимофея корова не накармливает семью.
– Это верно! – послышалось в окно с улицы. – Надо чтобы колхоз нам выделил корм. И вообще, чтобы поддерживал наши хозяйства – выписывал бы поросят, цыплят, утят, зерновых отходов бы давал. Жить-то надо и нам!
А в комнату входили все новые люди – с палочками, на костылях, уже толпились возле окна, и голос Потурнака часто тонул в гуле возбужденных голосов многих инвалидов, ветеранов войны да и просто пенсионеров, которые пришли к сельсовету, прослышав, что кто-то интересуется их жизнью. И вдруг выступил Устин Орищенко:
– Ты приезжий человек, еще и прижиться не успел, а вот уже взялся верховодить среди нас. Вроде бы зовешь куда-то… А куда? Какая твоя программа? Не покажемся ли мы смешными, вроде того Дремлюги: вылез из норы к жизни, которую знал, а она переменилась? Он оказался и чужим и ненужным.
Оленич почувствовал, что настал серьезный момент: надо людям объяснить, чего он хочет от них, собравшихся здесь, в какой степени это отвечает их чаяниям и интересам. Поэтому он внутренне мобилизовался, готовясь к горячему спору.
– Смешными покажемся, говоришь? Неужели смешно, если вы вот так же дружно, как сегодня собрались, возьмете и пройдете по улице вашего села, чтобы люди увидели вас: вы есть, вы живете на свете, вы их старшие товарищи, братья, отцы, наставники, а не какие-то подколодники пли выжившие из ума. Разве будет смешно смотреть на ваши протезы и костыли, смешно увидеть беспалые руки Латова, которыми он сжимал древко знамени своего корабля, глядеть на ваши ордена и медали, которыми наградила вас Родина в дни войны за то, что не прятались в норах, смело били врага, не жалели себя? А если вы сами, Устин Сидорович, возьмете и расскажете, как штурмовали Сапун-гору и как черные бушлаты устилали траву и камни, обагренные кровью, изрытые снарядами и бомбами склоны? Вот вы ходите прямо, выпирая грудь, но не потому, чтобы показать свое молодечество, а оттого, что вам осколки повредили крестец и ваши кости склеивали лучшие хирурги военных госпиталей.
Орищенко даже привстал, слушая Оленича, он был взволнован, но все же держался с достоинством, а потом вновь спросил:
– Ну а все же, какова твоя цель?
Оленич даже засмеялся от настырности старого морского волка:
– Я ищу такое, что объединило бы нас и чтобы мы могли стать полезными. Разве этого мало? Мы ведь люди! Советские люди. Есть среди нас партийцы. Разве мы, с потерей руки или ноги, потеряли разум, совесть, душу? Но как мы живем? Неужели не обидно, что вот собрались, а у нас обид больше, чем радостей. А мы же победили в такой страшной войне! Где же наши радости? Неужели нас списали? Или мы сами себя посчитали выброшенными за борт? Да, я не могу сесть за руль трактора. Да, вы не сможете ходить по полям или там, скажем, копаться на колхозном огороде… Да, Яким Поричный не сможет класть стену дома или крыть крышу… Но у нас есть много возможностей быть полезными. Вот скажите, разве мы не можем внести свою лепту в воспитание молодого поколения? Кто из вас выступал в школе, рассказывал о своем участии в боях? А скажите, не могли бы мы заняться поисками пропавших без вести односельчан? Да если захотим, то найдем себе работу и более конкретную: народный контроль, помогать сельсовету навести порядок в селе. Мало ли чего можно сделать, чтобы люди сказали спасибо. Вы посмотрите, народ становится все равнодушнее ко всему на свете, ко всей жизни. Неужели мы не сможем разбудить людские души? Это было бы великой помощью нашей партии.
Многое хотелось бы сказать, но он понимал, что если слишком много слов, то уменьшается их воздействие. Он заметил, что люди прислушались к его словам, даже дотошный Орищенко задумался. Когда умолк Оленич, он сказал:
– Значит, как я понял: каждый должен иметь свою платформу, полезную обществу.
– Вы совершенно правильно поняли! – обрадовался Оленич, он даже сам не смог додуматься до такой концентрированной мысли.
– Да и кто нам поможет, если мы сами не начнем помогать друг другу? – спросил Денис Гречаный. – И насчет подрастающего поколения правильно сказал Оленич.
– Всего, конечно, здесь не перечислишь. Но главное для нас – вырастить себе замену. Вы посмотрите, кого посылаем в армию? Наша армия вооружена первоклассной сложнейшей техникой – ракетами, реактивными самолетами, атомными кораблями. А что могут наши призывники? Да ничего. Даже среднее образование получают не все. Вот вам и задача! Кто-то должен думать о защитниках Родины… Или такое щекотливое дело. Стоит у нас обелиск с именами погибших. В селе живет командирская вдова Пронова. Почему же нет его фамилии на обелиске? Кто из вас поинтересовался, а?
– Сама виновата: молчит, – обронил кто-то.
– Может, она говорила, да никто ее слушать не захотел?
В разговор вмешался Борис Латов:
– Все, что мы здесь говорим, – Магарову до лампочки! Так что заткнитесь вы со своими благими намерениями. Как он скажет, так и будет. Даст – будем иметь. Выделит транспорт – поедем. Построит больницу – будут нас лечить. И все другое также зависит от его верхней губы.
– Значит, надо идти к нему! – решил Оленич. – Побеседовать всегда полезно. Согласны?
14
Старая Прониха стояла на пороге хаты и молча наблюдала, как землеустроитель Дмитрий Шевчик, хмурясь, замерял ее подворье, огород, что-то записал в тетрадь, потом вытащил из сумки несколько свежевыстроганных колышков и позабивал их посредине огорода. Затем объяснил хозяйке:
– Такое решение Магарова, Евдокия Сергеевна: половину огорода отрезаем. Ваша делянка – до колышков, дальше – колхозное.
Он пошел было к воротам, но обернулся и развел руками:
– Я-то считаю, что это несправедливо!
Женщина никак не отозвалась, стояла в оцепенении: она еще не могла сообразить, что же произошло? За какую вину отрезали у нее огород? И как она дальше будет жить? И так еле хватало картошки да овощей до нового урожая. Но самое страшное – лишиться той радости, которую приносили ей хлопоты по хозяйству и огороду.
Она вошла в дом, села на лавку и долго сидела склонив голову. Потом подошла к кровати, над которой на коврике, прибитом к стене, висела увеличенная уже после войны фотография мужа – Ивана Пронова.
– Тебе и горя мало, – стала ему жаловаться, – не заступишься, не защитишь. Слова не скажешь. Утешение ты мое бессловесное! Другие из могил повыходили, черт-те откуда повыпрыгивали, чтобы улечься в братскую могилу и оставить фамилию на памятнике. А ты жил незаметно и погиб в безвестности. И никакого следа не осталось от твоей жизни… Несправедливость людская – темная ночь…
Встала на кровать коленями, краешком вышитого рушничка, обрамлявшего рамку с карточкой, вытерла стекло. Вздохнула, слезла с кровати, подошла к окну и увидела несколько колышков на огороде. Голос задрожал:
– Наверное, излишек признали… Глупые люди! Излишней земли не бывает. Она не может быть лишней! Эх, Иван, Иван! Почему ты не разрешил рассказать правду о тебе, о нас с тобой? – снова повернулась к портрету. – Ты говорил, пока твои командиры не откроют правду, люди не поверят. А как мне молчать? Вон какой памятник погибшим… Каждого имя там, а тебя вроде и не было никогда на земле… Как мне молчать? Хоть бы в тени того памятника дали бы тебе место. Некуда мне голову преклонить… Одно дело – всем, а другое – тебе, моему соколику ясному… Не буду молчать! Сил моих нет! Смерть подходит, а я тебя еще не открыла людям!
Накинула на голову темный платок и вышла из хаты. Она шла по широкой тихой улице, не торопясь и не горбясь, и смотрела зорко вперед, точно видела цель и к ней устремилась. В селе привыкли к тому, что она по улицам пробегала, сгорбившись и не глядя по сторонам, и люди так и говорили: «Прониха прошмыгнула!», а кое-кто даже ведьмой ее называл, ею пугали детей. Да и взрослые не только недолюбливали ее, но и побаивались: в ее стремительной походке всегда было что-то тревожащее, беспокойное. Она и сама замечала, что за нею следят, не было исключением и это ее появление на центральной улице, куда она заглядывала редко – только в магазин да в клуб, где убирала. Шла и думала: «Забили колья в мою душу! Ишь, Шевчик считает, что несправедливо! А ты бы пошел к Магарову да ему сказал, а не мне!»

И вдруг она остановилась, пораженная и испуганная: из за угла со стороны сельсовета выходила цепочка инвалидов. Впереди шел в офицерском кителе человек без ноги, он шел, опираясь на костыли. На его груди сверкали медали и орден Красной Звезды. А за ним, постукивая палочкой о дорогу, шел Савва Затишный в черных очках, и рядом с ним – мощная фигура Бориса Латова! Это невиданное зрелище: Борис идет смирно в ряду с калеками войны! Потом она увидела Устина Орищенко, Гречаного, Поричного. Шла в ряду со всеми и Ольга Коровай. А в конце шествия тарахтела мотоколяска Тимофея Потурнака. И все при орденах, и все приодеты в чистое. В чистое, но не новое – в старое и выношенное, и от этого было еще горше смотреть на эту жалкую кучку людей.
Пронова схватилась костлявыми руками за седую взлохмаченную голову и закричала. Ее крик был криком отчаяния и беды и, казалось, пронесся словно черный столб смерча через все село. И как только эхо ее крика закатилось куда-то в степь, так послышался стук протезов и стук костылей, слабый перезвон металла наград, покашливание да трудное дыхание идущих по пыльной сельской улице. Жуткая процессия двигалась медленно, и было такое впечатление, что идут люди в своем последнем параде. Кто в селе не знал их, инвалидов, каждого в отдельности? Наверное, знали все. А вот вместе их еще не видели. И поэтому от двора ко двору понеслось-полетело: инвалиды идут! И этот возглас возвращал память людей в прошлое, когда кончилась война и все ждали своих воинов – кого из действующей армии, кого из госпиталя, кого из плена. Слова «Инвалиды идут!» звучали с потрясающей силой. И как прохладный ветер с моря остужает разгоряченное тело и наполняет свежестью дыхание, так и это событие пронеслось очистительным, вызывающим милосердие ветром. Настежь раскрывались окна и двери, народ выходил на улицу. Женщины стояли, пригорюнившись и подперев пальцами щеки, а дети бежали следом за вереницей старых воинов, убеленных сединами и украшенных блеском наград. Мальчишкам особенно было интересно: ведь они раньше не видели орденов и медалей у дедов их села. И никто в селе вовсе даже не предполагал, что у того же матроса Бориса Латова может быть три ордена и пять медалей!
Шли бывшие воины по селу, держали они путь к колхозной конторе, тихо переговариваясь между собой, и вроде совсем не замечали, что делается вокруг них. Правда, они дивились, что возле правления уже собрался народ – возбужденный, ожидающий, настороженный. Люди, которых все считали просто калеками, предстали в ином виде! Незаметно на лицах булатовцев улыбок, не слышно было насмешек, наоборот, в каждом взгляде притаилась незнакомая, а может, уже забытая задумчивая грусть, размышление над своей собственной жизнью. Слышались вздохи, какая-то из женщин всхлипнула. И не в одном сердце шевельнулось: рядом живем и не знаем, каково им, этим нашим старикам-инвалидам? И не одной женщине подумалось: здоровые, молодые мужики пьют водку, ленятся работать, растаскивают потихоньку колхоз, а эти вот, забытые и забитые, наверное, горюют при виде всего, что делается в селе. И каково им, построившим и отстоявшим на войне ее, эту жизнь, видеть все в таком состоянии. И какой бы она ни была раньше, но то была их жизнь, и она была для них трудной, но понятной – они преодолевали трудности и недостатки, переносили голод и выстояли в войне, жили с надеждой на лучшие времена. Как им понять нынешние недостатки, и отверженность, и всякие иные трудности? Неужели нет даже надежды и нечего ждать?
Оленич раньше думал, что ветеранам, и в особенности инвалидам, тяжело оттого, что они как неприкаянные: колхоз, село обходятся без них. И надо только их поддержать оптимизмом, найти что-то такое, чтобы каждый увидел, убедился, что его жизнь прошла недаром, что все хорошее, что есть, пошло от них к молодым. И он, Оленич, поможет им обрести этот оптимизм и уверенность, что все здоровые силы села – правление колхоза во главе с Магаровым, сельский Совет с депутатами, партбюро и комсомол – обратят больше внимания на них и скрасят остаток их дней. С этим он шел во главе колонны, за этим он вел инвалидов. И ему казалось, что ведет он их к жизни, уводя от раздумий о своей ненужности и о смерти.
На крыльце конторы колхоза уже стояли, предупрежденные об уличном шествии инвалидов, Магаров, Добрыня, Пастушенко. Оленич поздоровался с начальством, сказал Магарову:
– Впервые собрались эти старые воины вместе. Решили посоветоваться с вами, как жить дальше? Много у них накопилось трудностей, жизнь не очень их балует. У вас, конечно, забот хватает, но и забота об этих людях тоже входит в круг ваших обязанностей, как я понимаю.
Магаров стоял мрачный и бледный, он сдержанно поздоровался с пришедшими, потом сказал Оленичу, еле сдерживая гнев и раздражение:
– Кто тебя просил устраивать эту демонстрацию? Попугать людей? Настроить их против руководства? Без согласования с партбюро, да и сельсовет, как я понимаю, не предусматривал этот поход.
Магаров смотрел на Оленича требовательно, сурово, в черных зрачках его серых глаз сгущался затаенный гнев, даже ноздри шевелились, словно вот-вот повалит из них дым и пламя.
– Да не смотрите на меня с таким негодованием! – воскликнул Андрей. – Простая вещь происходит – люди не по одному идут к вам со своими заботами, а пришли все вместе, чтобы посоветоваться, сообща решить, что делать, чтобы улучшить житье-бытье инвалидов войны. Или прикажете нам разойтись?
Добрыня, видимо, понял, что перепалка может принять нежелательный оборот: колхозников возле конторы собирается все больше и больше, и если в разговор вмешаются все, тогда не сладишь с ними.
– Поговорить есть о чем. Но не на улице же? Николай Андреевич, приглашайте инвалидов в кабинет.
Но Магаров не понял маневра секретаря партбюро и отрезал:
– Нечего делать в кабинете! Выкладывайте здесь, что вам нужно? И не мутите людей, а то по головке не погладим.
– Мы и не думали мутить людей, – начал Оленич и не заметил, как его голос приобретал твердость и категоричность. – Мы хотим только, чтобы всем миром создать нормальные условия для жизни этой вот горстке людей. Разве эта просьба кого-то обижает, кроме самих инвалидов? А еще мы бы хотели, чтобы ваши сердца не были холодными и равнодушными к горестям и бедам других, не забывайте годы войны и то страшное лихолетье. Детям и внукам рассказывайте, что довелось пережить и перетерпеть нашему поколению. Если мы забудем о погибших братьях, если станем равнодушными к искалеченным, то потеряем и честь, и совесть, и не останется у нас ничего святого.
По толпе пронесся шепот. Женщины уже смотрели на инвалидов жалостливо и милосердно. Пастушенко, чтобы перебить Оленича, вставил несколько слов, которые должны были смягчить резкость только что сказанного:
– Мы помним. Вон какой памятник высится на площади!
– Да, памятник и вправду достойный. Но нельзя им откупиться. Да и воздвигнут памятник не для мертвых, а для нас, живых. Был у меня друг, вместе лежали в госпитале, вместе мечтали о жизни. Но он умер. Это ваш земляк, Герой Советского Союза Петр Негородний. Вы присылали за ним делегацию, он не поехал, вместо себя послал меня. Но почему о нем никто не вспоминает? Почему не перевезти прах Петра в родное село и не похоронить его в братской могиле?
Старая Прониха, присоединившись к толпе, слушала внимательно и напряженно, и как только Оленич произнес слова о Петре Негороднем, она, возвышавшаяся и так на целую голову над толпой женщин, привстала на носки, выкрикнула:
– И Ивана Пронова!
Народ качнулся сразу вроде от нее, потом все повернули головы к ней, а она двинулась через толпу к крыльцу, и люди расступались, давая ей дорогу. И все видели, может быть, впервые за много лет ее глаза, и печаль в них, и какую-то внутреннюю боль.
– Ты, солдат, будишь людскую память, – остановилась перед Оленичем, как судья перед истцом. – А как быть с такими, как я? Я ничего не забыла, что было со мной и что было со всеми. И своего мужа – красного командира и коммуниста – не забыла. А вот все на селе – забыли. Как быть мне, что нет в народе памяти о моем муже, погибшем… расстрелянном фашистами. Я уж не говорю про себя… Что я перед ним? Лишь частица его судьбы. Но и мне выпало… Да и всем нам – булатовским женщинам – досталось. Но и это забылось. Кто из молодых помнит как мы, голодные женщины, впрягались в плуги и бороны? Забылось, как мы ели лободу и тонконог, сушеные да толченые, но пахали и засевали поля! А сейчас Магаров прислал ко мне землемера и отрезал огород. Отмерил, как на могилу, и забил колья – не сметь ходить по земле! Вишь как, солдат, у нас расправляются с такими. Да ты погоди, и с тобой произойдет то же, что и со всеми: не перечь! Не мешай творить зло. Видишь, как вышло начальство к народу – настороженное, а вдруг пошатнется то, к чему привыкли? Оно словно говорит нам: «Мы лучше знаем, что вам надо!»
Добрыня, стоявший спокойнее других, перебил ее:
– Докия, чего ты колотишь людей? И с тобой разберемся.
Но Пронова не стала слушать его, повернулась и ушла сквозь толпу, расступившуюся словно вода.
Магаров пробормотал угрожающе:
– До тебя у нас тихо было.
Оленич огрызнулся:
– Кончилась тишина!
– Посмотрим!
Но не придал Оленич значения угрозам Магарова, он думал о Проновой, о ее судьбе и судьбе близких ей людей – мужа Ивана Пронова, офицера Красной Армии, и брата Феногена Крыжа – предателя. Знала ли она о том, что Феноген предатель, каратель, что он чинил расправы над советскими людьми и что до сих пор жив? Почему она неуважительно отзывается о брате? Потому, что знает, кем он был, или потому что знает, что он жив? О муже говорит, кричит о нем, а о брате молчит, ни слова. Не знает или утаивает?
«Надо обязательно, не откладывая, поговорить с нею, – решил Оленич. – Уверен, что с нею еще никто по-человечески не разговаривал о ее бедах и душевных страданиях». Но Магаров отвлек его от размышлений о Проновой:
– Вот что, деды и бабы, инвалиды и не инвалиды. Идите-ка по своим домам и не слушайте никаких баламутов. Колхоз наш делает для вас все, что может. А чего не может, того не делает. И требовать от колхоза больницы, топлива и пенсии – пустое дело…
У Оленича эта черствость Магарова обожгла всю душу, и он, чувствуя, что краснеет от гнева, не сдержался и на высокой ноте спросил:
– Как это – пустое дело инвалиду войны взывать о помощи? Вы, товарищ Магаров, забываете, что они воевали, защищая нашу страну! По призыву партии бились, не жалея себя! Кто же их будет лечить, если не сама Родина? Кто же починит им жилье, если не родной колхоз? Кто же обогреет им жилище, если не тот колхоз, землю которого они пахали и сеяли, впрягаясь в и сеялки вместо скотины?
– Ты мне тут не закатывай истерику! Тоже мне нашелся радетель за чужой счет.
– Мне лично от вас ничего не надо. Мне дано все что положено. Обидно за этих людей: вроде они помеха советской власти…
В это время к толпе подкатила «Волга», из нее вышел первый секретарь райкома партии. Он прошел на крыльцо, спросил у Магарова:
– Митинг? По какому поводу?
Магаров даже обрадовался, что приехал первый, и, указывая на Оленича, объяснил:
– Да вот приезжий инвалид мутит людей.
– Так пусть уезжает, откуда приехал.
– На постоянное местожительство к нам. На учет стал. Райком же дал ему прикрепительный в нашу парторганизацию.
– Так чего ему не сидится? Приехал лечиться, пусть лечится. И не лезет в колхозные дела. – Нашел глазами Оленича, поманил пальцем к себе, но Андрей почувствовал неблагоприятную для себя атмосферу, не стал подходить, а остался стоять на краю крыльца, возле бокового столба-опоры. Тогда секретарь громко спросил: – Кто разрешил собрать людей?
– Инвалидов войны разрешил собрать сельсовет, – твердо ответил Оленич, смело глядя на секретаря.
– Какое ты имеешь к ним отношение?
– Я такой же, как они! – с вызовом проговорил Оленич и подошел ближе к инвалидам.
Он видел, как секретарь райкома наклонился к Магарову и что-то сказал, но не слышал его слов. А сказано было такое:
– Он что, ненормальный? Может, шизик? А?
Магаров только поднял и опустил плечи в ответ, не сказав ни слова.
– Товарищи, – обратился секретарь к инвалидам, – все вопросы в одном селе, в одном хозяйстве не решить. Мы знаем трудности жизни инвалидов. Обещаю вам, соберем всех вас со всего района и поговорим обо всем наболевшем. Только всем районом, как говорится, всем миром можно что-то сделать. Расходитесь спокойно по домам.








