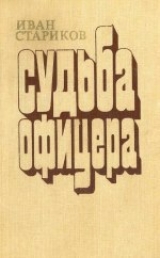
Текст книги "Судьба офицера. Трилогия"
Автор книги: Иван Стариков
Жанры:
Роман
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 28 страниц)
– Неужели ничего нельзя сделать? Ты ведь все можешь!
Тогда Гордей впервые обратился к Колокольникову. Изучив историю болезни капитана, профессор потребовал привезти больного в клинику.
В душе Люда лелеяла мечту окончить институт и специализироваться по профилю нейрохирургии, заняться научной работой и в конце концов разгадать загадку Андрея, помочь ему обрести радость настоящей, полноценной жизни, без тревог за будущее, без боязни, что коварная болезнь снова подкосит его и бросит в пучину бредовой ночи. Но не всегда мечты воплощаются. Находясь рядом с Гордеем, наблюдая за течением болезни и ходом лечения Андрея, она взрослела разумом и набиралась драгоценнейшего опыта ухода за ранеными, обогащалась такими практическими знаниями, каких не даст ни одно учебное заведение. Все это сделало ее незаменимой в госпитале.
Были и у нее очень трудные времена, судьба нанесла ей жестокий удар, и выстоять под этим ударом ей помог не кто иной, как Оленич… Ей было уже двадцать пять лет, когда с военного аэродрома в госпиталь прибыла группа пилотов: они приехали проведать своего сослуживца. Это они носились на реактивных самолетах в высоком небе, взрывая городскую тишину. Молодые, красивые, мужественные – они покорили своей красотой Людмилу. Да и то сказать: на фоне искореженной массы обитателей госпиталя, в обстановке постоянных операций, крови и смертей эти веселые парни поражали своей юностью и жизнерадостностью, как молодые боги. Словно вдруг перед нею предстал иной, прямо противоположный мир! А один из них, Вадим, особенно пришелся ей по сердцу. Он налетел на нее, как весеннее половодье. Сверкающие серые глаза сразу нацелились на нее. Он чуть ли не с первых слов попросил своих товарищей выслушать его:
– Друзья! Вы знаете, почему я до сих пор не женат? Искал вот эту девушку. Извините, мои боевые товарищи, но я решил жениться.
Людмила, гордая и непреклонная, возмутилась такой смелостью красавчика-пилота, но он почти не обратил на это внимания. И добавил, чтобы все ждали приглашения на свадьбу. Его бурные ухаживания, ежедневные приезды в госпиталь, его бесконечные дорогие подарки, ежевечерние приглашения в кино, в театр, в ресторан, к кому-то в гости – то к художнику, то к поэту, походы в парк на танцы – все это было похоже на атаку, на штурм, на осаду. Она никуда не могла спрятаться от него. Она ничего не могла противопоставить ему. Она вся пылала, словно стог, подожженный со всех сторон. А он бегал вокруг нее, как в ритуальном танце. И после месяца такого напора состоялась свадьба. В ресторане собрались офицеры полка, был Гордей, было несколько медиков. А через неделю в первом же после отпуска полете Вадим погиб. Людмила надела черные одежды…
Пятьдесят седьмой был черным годом для них всех…
Она не заметила, что в те дни, когда она поддалась чарам Вадима и по сути капитулировала – не помогли ей ни гордость, ни непреклонность, развеялось ее возмущение бесцеремонной настойчивостью жениха, а даже наоборот, сама увлеклась им, да так, что забыла обо всем на свете. И в это время с Оленичем произошел второй рецидив странного заболевания, да такой, что даже Колокольников не решился взять в свою клинику, а добился направления в Кремлевскую больницу. К счастью, в этой больнице капитан был недолго – через три месяца он уже вернулся в свой родной госпиталь. Когда вошла Людмила в его палату, он сразу заметил черное платье под белым халатом и черную ленту в волосах.
– Уж не по мне ли носишь траур? Так я жив покуда, – попробовал он пошутить вместо приветствия, но на его лице не было и тени улыбки.
А Людмила села на стул возле кровати и, упав головой на простыни, заплакала. Она рыдала, а он молчал, не мешая ей выплакаться. Когда много теряешь, то надо хотя бы вволю наплакаться. Но он так и не понял, что все-таки она оплакивала и по кому носила траур. Что погиб Вадим, он узнал уже в Москве, в больнице. Искренне сочувствовал ей: жестоко, безжалостно обманула ее судьба! Обреченная жить в печальном мире военного госпиталя, однажды увидела просвет – солнечный луч щедро брызнул ей в лицо, ослепил глаза, разгорячил сердце, наполнил все ее существо сладкой мечтой, что за все свои и чужие муки и страдания, за ночи, проведенные с болью в душе, за нерастраченную нежность и за тягостное одиночество она увидит, наконец, новый блистательный мир, для которого родилась, – мир семейного очага и материнского счастья, и вместе с тем завидного положения независимой, самостоятельной женщины. Но все оказалось слишком кратким, как вспышка молнии. Несправедливость к ней была столь жестока, что жить дальше не имело смысла. И прав, тысячу раз прав доктор Колокольников: над нею слишком властвует чувство преданности делу. Дала себе клятву: жить для других, для всех этих людей, искалеченных войной. Как Гордей, который пожертвовал всем личным во имя профессионального долга.
Да, Гордея она любила беспредельно, преклонялась перед ним, но и Андрей умещался в ее сердце. И вот однажды она поняла, что не представляет своей дальнейшей жизни без Гордея и без Андрея. И когда возвратился Андрей из Москвы, она оплакивала не только себя, но и всех несчастных, ее рыдание было молением о прощении. Она считала, что совершила грех, и потом корила себя и долго мучилась.
Время текло, унося боль. Кажется, все устоялось – с потерями смирилась, раны зарубцевались. Жизнь взяла свое! И Людмила уже снова мечтала о своем личном очаге, о материнстве, и сердце ее жаждало разрядки. И ежеминутно охватывала потребность видеть Андрея, быть рядом с ним…
Хоть бы скорее поправлялся!
Вдруг омрачилась, вспомнив, что Данила Романович надумал выписать Андрея из госпиталя на волю, «на гражданку», в деревню. Убедил Гордея в необходимости этого шага, привлек какую-то лекарку из Киева, которая даже посоветовала место, куда следует направить капитана, рекомендовала вместо лекарств позитивные эмоции и всяческие радости – солнце, воздух, воду, женщин, любовь и созидательный труд. Это Андрею созидательный труд? И хоть бы вспомнили о ней, Людмиле! Как будто она не рядом и ее мнение никому не интересно! И что самое страшное: он поедет! Андрей послушает их и поедет туда, куда укажут Колокольников и Гордей.
«Неужели настал срок возвращения долгов? – испуганно подумала Людмила Михайловна. – А что? Теперь Андрей покинет меня, и покинет навсегда! Десять лет назад я отреклась от него, ухватившись обеими руками за краешек грезы! Нет! Это невозможно! Этого просто нельзя допустить! А как же мы с Гордеем? Неужели мы для него ничего не значим? Как они, Гордей и Андрей, могут расстаться? Такая дружба, такое братство!… Ох, голова идет кругом, мысли путаются…»
Потом она подумала, что это и стало причиной ее беспокойства, и поспешила в четырнадцатую палату. Может быть, Андрей и не решится вот так сразу, после катастрофического приступа, ехать искать новое пристанище? И она уже успокаивала себя как могла. Мелькнула мысль, словно свет в глаза: «Ему и нельзя уезжать: а вдруг новый приступ? Ведь там никто не знает, как оказать помощь. Да он же без меня и без Гордея, как без костылей! Он останется! Останется! – И сама ужаснулась: – Как я могу такое желать? Да я спятила! Эгоизм приведет меня к новым потерям, и может быть, более трагическим… Господи, помоги мне, помоги!…»
Она зашла в палату тихонько, чтобы не разбудить больного. Притворив дверь, неслышно села на стул. Но Андрей услышал ее и открыл глаза.
– Хорошо, что пришла, – тихо проговорил он. – Когда ты вошла и вздохнула, я понял: воскрес! Недаром тебя называют солнышком.
– Не нужно, Андрей! – нахмурилась она. – Если другие больные зовут меня так, то им можно простить – У большинства из них действительно сумеречные судьбы, беспросветные. Они живые, и им хочется всего человеческого. Для тебя же хочу быть самой обыкновенной… женщиной.
– Нет, Люда, ты для меня, как и для всех, – и свет, и воздух, и радость, и надежда. Но кроме всего, ты еще и начало всех начал. Я познал не только как умирает человек, но и как рождается. Воскреснуть – это заново родиться. И ты для меня – мать, сестра, невеста.
– Так много обязанностей! Не справлюсь. Да ты еще и не воскрес, дорогой. Ты лишь очнулся. Воскресать тебе еще предстоит.
– Все равно я – живу. И ты – рядом. Ты ошиблась, когда говорила, что в госпитале не рождаются.
– Что ж, я рада за тебя…
8
Сердце Людмилы Михайловны радостно забилось, когда принесли телеграмму: профессора вызывают в Ленинград для подготовки делегации на международный симпозиум. Люда поднялась в кабинет брата, где Данила Романович и Гордей решали судьбу Андрея. С плохо скрытым удовлетворением она подала Колокольникову листок голубоватой бумаги и запричитала:
– Как мало вы у нас были! Когда теперь свидимся!
Данила Романович подозрительно покосился на молодую женщину и, заметив блеск в ее глазах, чуть-чуть прикрытых густыми ресницами, отозвался насмешливо:
– Мне приятно оставлять тебя в таком игривом настроении, – сказал старик и покачал головою. – Ишь, как заворковала… Но не задерживайте Андрея, быстрее отправляйте его…
И тут старик вдруг увидел, как молниеносно изменилось выражение лица Люды – из улыбчивого и хитроватого оно сделалось панически растерянным. «Так вот в чем, дело! – облегченно подумал Колокольников. – Значит, она против того, чтобы капитана отправлять куда-то». Понял это и Гордей.
– Капитана мы будем готовить к выписке. Как ни грустно расставаться с ним, но прежде всего – здоровье! Дарченко подсказала нам хорошее место. Когда-то я проезжал те места по пути в Крым. Благословенные, скажу, места!
Людмила никогда не вмешивалась в разговор брата с профессором, не высказывала собственных суждений, если они не совпадали с их мнением, но на этот раз не сдержалась:
– Наивные люди! Или – жестокие! Где вы в наше время найдете благословенное место? Где вы найдете заботливых людей? Разве вы никогда не ездили поездами, не бывали на вокзалах и не видели искалеченных и нищих инвалидов войны? Разве вы ни разу не подавали в стыдливо протянутую руку свои медяки? И не слышали раздирающее душу: «Сражавшемуся под Берлином подайте ради Христа!», «Искалеченному на Балатоне окажите милосердие…». Вы хотите Андрея пустить по миру?! Вы его убьете! Он офицер, гордый человек!
Гордей Михайлович оторопело смотрел на сестру и, никогда не повышавший на нее голоса, вдруг резко прервал ее:
– Опомнись! Как ты разговариваешь с Данилой Романовичем! Он же для нас – отец.
– Потому и позволяю себе быть откровенной.
– Уйди отсюда! – строго сказал Гордей.
Но Колокольников движением руки остановил Криницкого:
– Ей все прощается. Женщина в своей тревоге за нас, мужиков, всегда права. Их беспокойство – святое, материнское. И это не банальность, не фраза. Жизнь! А ты, Людмила Михайловна, не волнуйся так: мы принимаем свое решение не ради того, чтобы избавиться от больного, приносящего нам столько хлопот. Нет, он, если хочешь, нам даже интересен: он учит нас нашему ремеслу. Своим недугом он словно упрекает нас: зоветесь докторами, а как мало знаете! И это правда. Пойми, мы не капитану враги, а его болезни. К ней мы беспощадны. И тут уж ничего не поделать.
Людмила, сдержанно попрощавшись, вышла из кабинета.
– М-да, история! Вот ведь как, а! – воскликнул удрученно профессор, крепко потирая большими ладонями свое крупное, чуть покрасневшее от волнения лицо. – Ну, в этом состоянии ей не докажешь, что главнейшая наша задача – вылечивать людей и выписывать их из госпиталя! Тут не богадельня, где содержат людей, пока они не помрут. Здесь госпиталь, лечебное заведение. Ах, разве ей сейчас до этого?
– Что вы имеете в виду? – насторожился Криницкий.
– Люда любит Андрея.
– Не больше, как брата.
– Неужели показалось? Старые люди всегда излишне подозрительны. Но в данном случае трудно ошибиться. Как эта женщина угрожающе распростерла свои могучие крылья, как взъерошила перышки, бог мой! Прекрасно!
Данила Романович разволновался еще больше. Всегда неспокойный, всегда разгоряченный, даже одержимый, сейчас находился в упоении своим открытием. Поднялся со стула и начал ходить по кабинету.
– Да ты знаешь, что только сейчас произошло? Ах, Гордей Михайлович, Гордей Михайлович! Ну как можно быть спокойным, когда на твоих глазах совершается такое! Это даже меня, старого, повидавшего на белом свете множество всего преудивительнейшего и невероятнейшего, и то буквально потрясло. Вот та моя старая знакомая доктор Дарченко, с которой я разговаривал по телефону, чуть ли не упала в обморок, услышав фамилию Оленича. Как допытывалась про него! Она задыхалась, у нее дрожал и срывался голос. Видишь ли, она знала Андрюху на войне. Более того, у нее с ним был фронтовой роман, и она чувствует себя виновной перед прошлым. Вот ведь какие грибы-ягоды! И это несмотря на то, что у нее ведь своя семья и другая любовь… Да и здесь вот тоже – поди разберись! Почему Людочка всполошилась, когда дозналась, что мы с тобою надумали Андрея послать к морю? Чувство опасности выдало ее! Она решила, что мы отнимаем у нее надежду. Налетела на меня как разъяренная соколица! Гордеюшка, а разве ты не замечал, как преображается лицо, как оживают глаза у нашего огнеупорного капитана, как только предстанет перед ним твоя сестричка? Оглянись на себя, молодого! Я ведь помню, каким ты был, когда исчезла Таня.
– Ну, то все было мимолетно… Татьяна, как бабочка-однодневка, мелькнула и пропала.
– Не греши, сынок: ты сильно горевал от разлуки с Таней. И Люда боится разлуки… Вдруг останется, как ты, бобылкой?
Гордей Михайлович настолько был обескуражен предположениями и открытиями Данилы Романовича, что не знал, как отнестись ко всему этому. Одно невероятнее другого, предстоящее опаснее прошлого! Он не знал, как поступить, что предпринять. Во-первых, почему-то стало жаль Людмилу. Гордей в данный момент не понимал причину жалости, просто защемило где-то, как говорят, под сердцем. И протест. Против чего? Он не знал еще, просто протест против создавшегося положения вещей.
Потом он подумал об Андрее. Неужели не замечает того, что увидел Данила Романович? Не может быть чтобы такой умный мужик не почувствовал любовь Людмилы. А может, он знает, да не подает виду? Почему?
Колокольников, точно отгадав мучительные раздумья Гордея, присел наконец рядом:
– Давай договоримся: никому об этом ни слова. Пока, по крайней мере, не прояснится ситуация. Ладно? Ни Андрею, ни Людмиле. Мы не знаем, как оно будет дальше, и вмешиваться нам не только неловко, но даже грешно.
– Трудно предсказать, как известие о фронтовой подруге может повлиять на Оленича. Но думаю, обстоятельства заставят меня выписать Оленича побыстрее.
– Месяц-два покорми его хорошими продуктами и лекарствами, укрепляй нервную систему, заставь его больше пользоваться протезом. Приспосабливай его к самостоятельному существованию, без прислуги, без аханья и оханья. Он солдат, и воспримет все твои назначения правильно, без капризов. И поймет, что приближается час его выписки. Здесь – фронтовики, братишки, раны, стон, смерть, как на фронте. Это усугубляет, растравляет и угнетает безысходностью. Скорее его туда, к морю, в Таврию!
Гордей Михайлович вспомнил, что Андрей в Таврии в сорок третьем был ранен. Интересно, как отнесется к этому совпадению Колокольников?
– Профессор, вы знаете, Оленич в Таврии был ранен. А главное, ранен в ту ногу, которую потом отсекли. Что-то мистическое. Ранение вроде вещевого знака: принести ногу в жертву войне.
– Действительно, невольно задумаешься, что есть что-то роковое в судьбе этого капитана.
– Там же, где-то в днепровских степях, каратели Хензеля распинали комиссара Белояра. И Андрей часто вспоминает те места и очень тяжело переживает все, что там случилось: ему пришлось вступить в бой с карателями, в бою был убит его политрук в двух шагах от своего дома.
– Да, ужасные вещи, – согласился Колокольников. – И тем не менее именно туда ему и нужно, если верить Евгении Павловне: кол вышибать колом!
– Хорошо, Данила Романович.
Вошла Людмила и сообщила:
– Андрей Петрович в полном порядке. Вы бы с ним поговорили, решая его участь.
Гордей нахмурился: он не забыл вызывающего поведения сестры и, защищая Колокольникова, отрезал:
– Врач не обязан советоваться с больным, какое лекарство и какой метод лечения применить.
Людмила поняла брата – она тоже была строптивой.
– И напрасно! – бросила, вся вспыхнув.
– А все же моя правда! – торжествующе сказал Колокольников, обращаясь к Гордею Михайловичу. – Посмотри, что с ней делается!
– Со мной все в порядке, – проговорила Людмила и вышла.
– Может, надо радоваться? – тихо спросил Гордей.
– Радуйся! Это в ней жизнь неистовствует! А теперь – к нему. Как считаешь, обрадуем или опечалим его?
Оленич сидел на кровати и подрагивающими руками держал чашку с горячим чаем. Лицо его порозовело, к высокому лбу прилипли пряди светлых волос. Когда в палату вошли Колокольников и Криницкий, Андрей поставил на тумбочку чашку, вытер салфеткой лицо и утомленно улыбнулся:
– Здравствуйте, профессор. Видите, ожил ваш колодник.
– Ну, этим ты меня не удивишь. А я тебя удивлю: скоро ты отпустишь меня, прикованного к тебе цепями. Верую – ты скоро станешь на ноги.
– У меня такое же ощущение. В сорок втором, в Баксанском ущелье, после трех суток схваток с малярией, я так же облегченно почувствовал себя.
Колокольников захохотал – искренне и заразительно.
– Малярия? Слышишь, Гордей Михайлович? У него ощущение, что он переболел малярией! Эх, ты ж, мятежная твоя душа. Мечешься между жизнью и смертью. Вынырнешь из тьмы к солнцу – и вновь кидаешься в бездну. А ведь я знаю, как ты мечтаешь вернуться к мирной жизни. Вот и возвращайся. Чуть подкрепись в госпитале, наберись физических сил – и в путь, к труду, к радостям жизни.
– Вы это серьезно, профессор?
– Разве легкомыслием или ложью лечат?
– Оптимизм тоже не лишняя вещь в преодолении болезни, – подключился Криницкий к разговору. – Есть, конечно, определенный риск в том, что мы готовим тебя к выписке из госпиталя. В чем риск? Могут встретиться очень сложные ситуации: очутишься среди незнакомых людей, в незнакомом краю, мало приспособленный к мирной жизни.
– А что побудило вас принять такое решение – отпустить меня?
Колокольников уверенно сказал:
– Потому, что ты должен уже начать выздоровление среди людей и в труде, в деятельности.
Криницкий же добавил, словно раскаленное железо бросил в воду.
– Мне досадно, что ты вбил себе в голову, будто похож на того Дремлюгу, просидевшего двадцать лет в подземелье. Так ведь?
– А откуда ты знаешь? – удивился Андрей. – Впрочем, так оно и есть. Народ тяжело трудится, чтобы страну поставить на ноги, а в госпиталях тысячи таких, как я, способных еще поработать. Сидим здесь как дезертиры… Впрочем, лично я себя чувствую нахлебником. – Он еще много чего хотел сказать им, что теперь, когда его обнадежили и в его сознании забрезжил свет надежды на исцеление и когда открывается реальная возможность начать иную жизнь в совершенно новых условиях, в новой среде общения и интересов, он постарается приложить и свои усилия к исцелению, потому что это самая главная его задача.
– Очень хорошо! – воскликнул Колокольников. – Сейчас для тебя положительные эмоции – лучший бальзам. Мне даже кажется, что все агрессивные силы, вызывающие твои всевозможные простуды, воспаления, упадок энергии, ослабление нервной системы, – от недостатка позитивных эмоций. Освободить тебя от негативных эмоций никто не в состоянии. Тебе нужно самому искать точку опоры и перевернуть себя.
В этот же день профессор Колокольников уехал в Ленинград.
9
Хотя Оленича до поздней ночи обуревали непривычные раздумья о том, что сообщили ему Гордей и Колокольников, в конце концов заснул он крепко, спал без сновидений до самого восхода солнца и пробудился сразу, без полудремы, без лени. Было хорошо на душе, бодро и ясно. Поднялся с кровати и, пошатываясь, словно разучился за это время держаться на костылях, подошел к окну и распахнул его. Чистый свежий воздух пахнул в палату, освежая тело, оживляя душу. Радостный мир вновь предстал перед его взором: небо чистое и бездонное, горы по-утреннему дымились, освещенные поднявшимся солнцем. Зеленый лес виднелся сразу за городскими окраинами. Сверкала узенькая серебристая ленточка Днестра. А в госпитальном дворе, прямо под окном, тянулась вверх тоненькая березка, и все время шевелила листочками, точно нашептывала о том, что было вокруг, пока он болел. Как славно, как хорошо!
Андрей Петрович ожидал Витю, но пришли студентки – Галя и Мирослава. Они вчера возвратились из поездки в глухие горные села, где в медпунктах и амбулаториях проходили практику. Обследовали население, укомплектовывали аптечки на пастбищах-половинах, в леспромхозе. Они переполнены впечатлениями, очарованы всегда неожиданной красотой Карпатских гор. Галина без конца щебетала о том, как ей нравится эта карпатская природа и что она мечтает остаться жить здесь; о том, что у нее есть парень – тракторист из межобластного дорожного управления Богдан Дудик, который ухаживает за ней, но ее пугает то, что он сильно ревнивый и может что угодно натворить: о том, что ей хотелось бы работать в городской поликлинике или больнице.
Мирослава же, напротив, все время молчала. Вскоре засобиралась, объясняя, что ей сегодня обязательно нужно быть в общежитии, что к ней приедет отец из села, но что она обязательно еще прибежит к Андрею Петровичу.
Но только ушла Мирослава, как появился Виктор. Оленич всегда радовался приходу своего приемыша, уверовав, что это действительно родственная ему душа. Истомленный одиночеством, он, давно искавший привязанности, чтобы излить переполнявшие его нежность и потребность заботы, так и ринулся навстречу неустроенной юношеской судьбе. И вот мальчик вырос! Галя относилась к нему как к равному, как к товарищу, но Мирослава еще не видела его. Хотя Оленичу давно хотелось, чтобы Витя и Мирослава познакомились. У них было что-то общее, как ему казалось может быть, стеснительность и мягкость в характерах, даже внешне они были похожи: смуглые лица, темно-русые вьющиеся волосы и паже глаза были схожи – отуманенные грустью и задумчивостью. Может быть, и их судьбы схожи?
Словно угадывая раздумья Оленича, Галя вдруг воскликнула:
– Как жаль, Витек, что ты опоздал! Тут была моя подружка, Мирослава. Вот бы тебя с ней познакомить!
– А что в ней особенного? – пожал парень плечами, явно смущаясь перспективой предстоящего знакомства.
– Да ты с первого взгляда втрескаешься!
«Все идет своим чередом, – вдруг подумал Оленич. – Витя уже вырос, пора ему влюбляться, настало его время жизни. Влюбится, женится, уйдет в свои семейные заботы, в свои радости и трудности, и он, Оленич, может, уже никогда не увидит в мальчишечьих глазах того восторга и преданности, которые замечал при каждой встрече. Разве что, когда пойдет служить в армию, вспомнит. Что поделаешь, от этого никуда не уйти, этого не избежать. Остается пожелать мальчику и любви, и семейных забот».
В палату вошла Людмила Михайловна и вопросительно взглянула на Галю:
– Галочка, знаешь, о тебе там допытывается какой-то молодой человек: уже три раза звонил. Ему объясняют, что ты занята, а он даже с угрозами требует тебя к телефону. Ты, пожалуйста, предупреди его, чтобы больше этого не делал.
– Наверное, Богдан! – вспыхнула Галя. – Да вы, Людмила Михайловна, не обращайте на него внимания: он же огнеопасный. Иногда такого нагородит… Страсть какой ревнивый!
– Но тон его разговора слишком агрессивный, – хмуро посмотрела на девушку Людмила Михайловна. – Тебе от него достанется, наверное.
– От него можно ждать всего.
– А почему он спрашивал, виделся ли с тобой Витя? Уже не ревнует ли тебя к нему?
– Что вы ему сказали, Людмила Михайловна? Ведь Виктор только что пришел.
– Не бойся, я не знала, что Витя в госпитале. Ты беги, иначе нарвешься на скандал.
– Пусть успокоится! Он как сдуреет, так ничего не соображает. Пусть побесится, а я подожду Славу. Витя, ты обязательно познакомься с этой гуцулочкой.
Когда вошла Криницкая, Оленич уже почти не слушал Галю: он смотрел на Людмилу с такой жадностью, словно не видел ее вечность. Про себя он отметил, что что-то изменилось во всем ее облике: то ли щеки больше запали и поэтому удлинился овал лица, то ли плечи опустились от пережитого, и поэтому кажется, что шея стала тоньше, а фигура стала стройнее и еще изящнее.
Об этом не надо думать! Он знал и понимал, что думать об этом нельзя, невозможно для него. И не только потому, что и Гордей, и Данила Романович выработали в нем боязнь волнений, сильных стрессов, а потому что он сам интуитивно предчувствовал грозящую ему беду. Он не разобрался да и не хотел разбираться, какую опасность принесут ему обжигающие грезы об этой женщине. Можно преодолеть обморочное состояние, можно победить немощь организма и отвратить даже последний шаг к беспамятству, что ему несколько раз удавалось, но проявить малодушие и открыться ей было невозможной вещью. И поэтому он боялся того чувства, которое давно уже возникло в нем и чуть ли не каждый день разрасталось, охватывало его как пламень. Да, он боялся, что однажды она ласково даст понять, что она не сможет ничего ему дать.
Людмиле и невдомек, что сейчас творится в душе у Андрея, какие мысли возникают в голове, какие чувства переполняют его. Если бы она хоть немного знала, сколько страданий и сколько счастья она приносит ему одним лишь своим присутствием!
– Тебе. Витя, нужно быть поосторожней, – нахмурясь, предупреждала Людмила Михайловна юношу. – Старайся не встречаться с Богданом. Этот задиристый ревнивец опасен.
– Разве ты его знаешь, Виктор? – удивился Оленич.
Витя засмеялся:
– Богдан и вам знаком, капитан: помните, как он избивал меня в парке за то, что я не хотел пристать к его воровской шайке? Вы так прикрикнули на них, что они разбежались.
– Так это был он? Ну, я думаю, теперь тебе его бояться нечего: ты вон какой крепкий и сильный! – Оленич на мгновение умолк, потом задумчиво проговорил: – Да, тот день я помню…
…Восемь лет назад Андрей возвращался из Кремлевской больницы в госпиталь. Уже на станции он вспомнил, что не дал телеграмму о своем приезде и его никто не будет встречать. Вещей у него было немного – неполный вещевой мешок. Поэтому он решил, что дойдет пешком: от вокзала до госпиталя не более километра. Он выбрал дорогу через старый парк – хотел посидеть в тени деревьев, по которым соскучился за время пребывания в Москве. Старые осокори, уже тронутые первой осенней позолотой, могуче раскинув ветви, встретили его прохладой и шепотом, такими знакомыми и волнующими. Хорошо вновь очутиться в месте, где тебе радостно, где дышится легко, где чувствуешь себя точно дома, где все зовет к жизни – и мечты, и желания, и ожидания. Никогда и нигде он не ощущал такой душевной полноты. Медленно переставляя костыли, шел он по дорожке, полнясь приподнятым предчувствием встречи с милыми Криницкими, с товарищами по госпитальной койке, которые тоже живут мечтами, желаниями и надеждами, И почти никто не думает о том, что все их самые скромные желания и надежды – неисполнимы. Об этом нельзя думать, иначе можно разувериться в жизни и обязательно придешь к заключению, что даром прожил свое время.
Изредка срывались пожелтевшие листья и медленно падали на зеленую траву, искрящуюся бисером дождевых капель. Дождь, видно, прошел недавно, каменные плиты на дорожке еще темнели мокрыми пятнами, а там, где на них падал луч солнца, поднимался легкой дымкой пар. Поскрипывали костыли, изредка долетал шум проходящих по мосту автомашин, а со станции доносились гудки паровозов. И вдруг Андрей услышал детские голоса, выкрики, даже вроде послышались ругательства. Он свернул на узкую гравийную дорожку и пошел по направлению к узенькой, мелкой речушке, проходившей по границе между старым парком и молодым, посаженным комсомольцами в День Победы.
На той стороне, на самом берегу под кустом орешника, крутилась кучка малышни лет по восемь-десять. Но вот они окружили одного худенького, нестриженого мальчугана лет десяти. Высокий, плечистый паренек лет двенадцати, с длинными патлами, был, наверное, вожаком – худощавое лицо хмурое, глаза обозленные. Он размахнулся и ударил мальчика по лицу.
– Получай, гнида! – взвизгнул подросток.
Но мальчуган не заплакал, а лишь пошатнулся.
– Все равно не буду красть, – упрямо проговорил он.
– Сейчас я тебе дам еще прикурить, – процедил сквозь зубы длинный и уже размахнулся, но капитан властно крикнул:
– Отставить!
И шагнул костылями в речку. Речка мелкая, дно песчаное, но все же костыли за что-то зацепились. Оленич пошатнулся и выпустил из рук свои «ноги», еле удержался на одной ноге, взмахивал руками, ловя точку равновесия. Ребята кинулись врассыпную, и остался только тот, которого били. Он стоял и смотрел широко раскрытыми глазами на человека с одной ногой, кинувшегося на выручку и попавшего в беду. Но в какой-то миг мальчик сообразил, что надо ловить костыли, и кинулся за ними. Поймал и принес инвалиду. Оленич выбрался на берег:
– Ну, спасибо тебе, парень! – сказал Оленич. – Как звать?
– Витя. Виктор Калинка.
– Местный?
– Нет, с поезда я.
– Ясно. И откуда же ты едешь и куда путь держишь?
– Туда, где лучше.
– Убежал из детского дома?
– Да.
– Возвращаться не думаешь?
– Никогда!
– Обижают там? Здесь вот не лучше. Видишь, каждый норовит унизить тебя, заставляют заниматься плохими делами… Как же быть?
– Хочу жить сам по себе.
– Но так в жизни не бывает. Человек не может жить в одиночестве. Жизнь станет бесполезной. Ты уже достаточно вырос, чтобы понять: жить только тогда интересно, когда другие видят твое существование и замечают, какой ты человек.
– Хочу найти дом. Свой дом.
– Но ты же – сирота! У сироты дом там, где его приветят добрые люди. Тебе учиться надо, парень, вот что я тебе скажу. В детдоме учили?
– Учили.
– Читать-писать-считать умеешь?
– Да.
– Может, в ремесленное? Как ты смотришь?
– Не знаю. Может, убегу и оттуда.
– Давай так решим с тобой: завтра попробуем пробиться в ремесленное. Тут есть хорошее училище при заводе. И общежитие прекрасное. Договорились? Мне ведь тоже надо еще устраиваться. У меня тоже, брат, нет дома. Я все время живу в госпитале для инвалидов. Вот устроюсь, и займемся твоим делом. Согласен?
– Ну, раз вы тоже вроде меня, бездомного, тогда согласен. Уж вы-то знаете, что почем… Может, я вам помогу сумку дотащить до госпиталя?
– Давай, Витек, тащи. Мне и вправду тяжеловато. Я после больницы, еще не набрался сил, чтобы таскать на себе тяжести. Смотри же, завтра подходи к госпиталю. Буду тебя ждать. Не подведешь?








