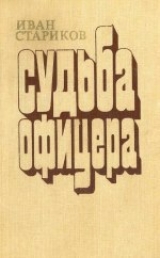
Текст книги "Судьба офицера. Трилогия"
Автор книги: Иван Стариков
Жанры:
Роман
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 28 страниц)
Она лежала в постели одетая, затаив дыхание, прислушивалась к непрестанно гудящей ночи и чувствовала себя так, точно лежала в гробу, заживо погребенная. Вдруг послышался осторожный стук в окно. Она сжалась вся в комок. Стук повторился. Схватилась: враг не будет стучать вкрадчиво, это друг стучится осторожно и просит помощи. Кинулась к окну, припала лицом к стеклу, но ничего не видели ее глаза. И тут она услышала его голос: «Докия! Докия!» Это Иван! Он, он просится в дом! Сердце прыгало в груди, словно камень, покатившийся с крутой горы. Испугалась его немощного голоса… Что с ним? Как он мог попасть сюда, так далеко от фронта? Но бросилась к двери, выскочила в чем была. Обрадовалась: Иван, живой! Подхватила его, вялого, тяжелого, с трудом втащила в комнату, занавесила окна и зажгла огонь. Ее поразило его измученное, изнуренное лицо. Увидела кровь на одежде. Бессильно висела рука, штанина на правой ноге – в крови.
– Ты ранен?
– Да. Быстрей перевяжи, Докия. Надо уходить…
И она вытащила из печи чугун с горячей водой, промыла раны, нашла чудом уцелевший йод, обработала рану. Хотела позвать Софью, но Иван запретил. Сама перевязала. Потом накормила, напоила чаем.
– Мне нужен конь.
– Но скоро день! Ты не проедешь и пяти верст. Поспи, наберись хоть немного сил, а я что-нибудь придумаю.
Иван настолько был бессилен, что уже не мог даже отвечать. Она его поместила в чулане за большим кованым сундуком – приданым Евдокии. А сама, соблюдая осторожность, побывала у Софьи, выпросила немного бинтов и флакончик йода. Вечером перегнала свою лодку к Лихим островам, рассчитывая дотащить туда Ивана, а оттуда на лодке вместе с ним выйти в море и уйти куда-нибудь в более глухое место.
Но к ночи ему стало еще хуже. Он был в полубреду и все повторял, что ему нужно доложить о гибели отряда.
– Все-таки я его дотащила до того места, где спрятала лодку. В последнюю минуту, когда уже надо было погружаться, он вдруг пришел в сознание и сказал, что лодка не нужна, ему необходимо немного полежать, чтобы окрепнуть и чтобы утихла боль. Полежав немного, начал рассказывать, что с ним произошло. Его с двумя бойцами – радистом и минером – с самолета сбросили в песчаных пустырях. Но в тумане летчик плохо рассчитал, и группа оказалась ближе к немцам, чем к партизанам.
Когда он все рассказал, то спокойно проговорил: «А теперь, милая Докия, пора прощаться. Спасибо за помощь. Я всегда любил тебя. И спасибо тебе за твою ласку и любовь. Прощай». Я в крик, я – просить, умолять, но он умер… И там же я его и похоронила. Выкопала яму, положила и засыпала землей. Потом множество раз я приходила к нему и все строила ему памятник – от себя. Таскала камни и обкладывала могилу. И вот каждый раз, когда праздник или когда свободная минута, иду сюда. Единственное место для утешения… Изолью все свои горести ему, выплачусь – и иду домой. Вот какая история с моим Иваном…
– Почему же вы никому об этом не рассказали, Евдокия Сергеевна?
Она вздохнула, покачала седой головой:
– Кто бы поверил мне? Сказали бы – дезертир твой Иван. Поди докажи!
– Все равно людям надо было рассказать: одни поверили бы, а другие, может, и сомневались бы… Но правду знали бы!
– Похоронки не было… А вот на Феногена была похоронка. Неужели без похоронки Иван не имеет права на память?
– Имеет! – Оленич подумал, что надо бы разыскать командиров Ивана. Может быть, что осталось от Пронова у его жены?
– Карточка есть. А еще он записку оставил…
– Где она?
– В патроне. Он так сказал: заложи в патрон и спрячь. Ты не успеешь передать, кто-то найдет, передаст…
– Вы покажете мне?
– Заходи, солдат. Тебе, конечно, дам почитать.
Она поднялась, отряхнулась, как старая взлохмаченная птица, хотела было идти, да вдруг наклонилась и шепотом сказала:
– Говорят, что Феноген живой. А? Григорий Корпушный в порту видел совсем недавно…
И она быстро пошла узенькой тропинкой через луг в направлении села. А Оленич с Романом сидели и смотрели ей вслед. Парень был просто ошеломлен услышанным: сколько живут в одном селе, а не знают, что произошло однажды осенью во время войны в их селе.
20
Наконец– то Оленичу удалось поговорить с Григорием Корпушным, мужем Варвары. Встретил на улице трезвого, попросил зайти. Григорий явился немного смущенный и даже вроде оробевший. Но он просто растерялся, когда капитан заговорил об Иване Пронове.
– Видишь ли, Григорий, какое тут деликатное дело… Можно сказать, ответственное. Ты был в дружбе с Иваном Проновым?
– Да, он был для меня учителем. Жизни учил.
– А знаешь его судьбу?
– Нет, мне ничего о нем неизвестно. Погиб и все.
– А как? Где? Почему?
– Ходили слухи, будто бы видели его здесь при немцах…
– Верно. Тяжело ранили его недалеко отсюда, в песках. А похоронен здесь.
– Как? Почему же никому об этом неизвестно?
– Откуда мне знать? Да ты ведь забыл того человека. И Петра Негороднего забыл. Каким же ты был солдатом, что забыл свой долг перед погибшими на фронте?
– Виноват я. Виноват по всем швам, капитан. Подскажи, что я должен сделать для памяти Ивана?
– Это стоящие слова. Давай найдем машину и поедем в соседний район, разузнаем кое-что о гибели партизанского отряда и парашютистов-разведчиков. Слыхал о них?
– Да так… Кое-что рассказывали.
– Где бы нам взять машину? Поедешь со мной за шофера? Ты ведь, говорят, первоклассным водителем был.
– Было дело… У нашего механика есть машина. Я поговорю с ним, мы же кумовья. Думаю, не откажет.
– Хорошо было бы завтра и выехать. За день управились бы.
Григорий сдержал слово, выпросил машину, и они поехали. До соседнего райцентра – шестьдесят километров, и через полтора часа уже были в районном архиве и городском музее, но документов о парашютистах не оказалось. Даже о партизанском отряде имени Фрунзе достоверных сведений было слишком мало. Но заведующий музеем подсказал Оленичу, что парашютистов убили возле села Пустошь.
Пустошь – степное село, расположено на равнинной полупустынной местности. В селе работала бригада чайковского колхоза. Бригадира Артема Загладного они нашли на бригадном дворе, в маленькой конторке, где сидели учетчик да агроном. Бригадир – фронтовик, и поэтому, узнав, кто такой Оленич и зачем приехал, охотно взялся помочь.
– О парашютистах люди знают, но рассказывают по-разному. Дети позаписывали много рассказов о партизанском отряде и о парашютистах, но фамилию Пронова я не помню.
– Никого из очевидцев не осталось?
– Да есть одна старуха, – проговорил нерешительно Артем, но потом поднялся и решительно сказал: – Пойдемте к ней. Я хоть и не доверяю памяти престарелых людей, но послушать ее не грех.
Старая женщина подслеповато смотрела на гостей, стоя на пороге хаты, потом узнала бригадира:
– Может, постояльцев привел?
– Да нет, Лукьяновна: в гости к вам зашли. Примете?
– В гости? Ну, ты же знаешь, что самогона не гоню. Или вы с казенкой пришли? Садитесь к столу: я пирожков с горохом напекла. И квас еще есть.
Но Артем спешил: у бригадира всегда дел по завязку, и ему некогда было рассиживаться за столом. Но все же пирожок взял.
– Люди интересуются, как погибли парашютисты. Вы помните то утро, когда тут стрельба стояла?
– А как же, видела все, пока туман не подступил. Да лучше бы и не видели мои глаза!… Вот здесь, у окна, я сидела. Уже рассвело, был виден весь выгон до самого леса…
Оленич подошел к окну, потом к другому. Рядом, метрах в пятидесяти, громоздилась куча мусора, виднелись какие-то руины, поросшие мощной лебедой да крапивой, дальше тянулся луг, или, как назвала старуха, выгон, а вдали виднелась низкая редкая лесополоса.
– А это что за развалины? – спросил он хозяйку.
– Да ведь это сгорело гадючье гнездо, – сказала она равнодушно.
Артем разъяснил:
– Стоял на том месте дом немецкого холуя Перечмыха. Во время оккупации лютовали его сыновья, помогали карателю Хензелю. Старый Перечмых держал в страхе село, старуха ненавидела всех в округе, два сына служили полицаями. Один убежал с немцами, другого убили здесь.
– Не ко мне постучали парашютисты в окно, а к кулаку, – проговорила старуха. – Деваться-то им некуда было, сбросили их на рассвете, когда начал подниматься туман. Метнулись они туда-сюда – пусто, ни куста и ни ямки. Пришлось к селу идти. И я видела, как они направились к кулацкой хате, как старик вышел и повел их в дом, как через минуту старуха побежала к сыновьям, которые дежурили в полиции. Вскорости примчались на машинах и мотоциклах каратели…
Задумалась-запечалилась старая женщина, опустила глаза. Память возвращала ее к тем ребятам, которые так неосторожно попали в ловушку. И, наверное, до сей поры у нее осталась боль за погибших ребят.
– Наверное, наши поняли, что их предали. Старого Перечмыха они прикончили и стали отступать. Я видела, как они побежали по выгону – двое вперед пошли, а третий отставал от них, вроде как бы охранял их. Но очень скоро его подбили, он упал и пополз в сторону, а за теми двумя погнались на конях и на машине… Их побили, они не успели добежать до леса… И как-то сразу поднялся густой туман, и я уже ничего не видела. Слышала только, как лютовал сын Перечмыха, как голосила старая змея. Ее-то, видно, пожалели наши ребята…
– А про партизан вы что-нибудь слышали?
– Про партизан? Как же, как же! За два дня… Да, за два дня до того, как сбросили тут парашютистов, партизан побили.
– Точно вы помните, что до парашютистов?
– Перед этим кулачиха бегала по селу и всем рассказывала, что теперь конец проклятым хрунзовцам, что пришел на них суд господний, что выловили их и на виселицу поцепляли. Был у них, у Перечмыхов, один, что выдал партизан. Видела я его – пьянствовал с сыновьями да и со старым кулаком.
– Какой он из себя? Ну, тот, который выдал?
– Антихрист! – убежденно сказала старуха. – Истинный антихрист. Громадный, лицо перекошенное шрамом, глаз острый, злой. Приснится, сразу проснешься от страха в холодном поту…
– Не слыхали, как его называли?
– Перечмыхи называли его – господин Шварц.
Время летело незаметно. Оленич и Корпушный решили побывать в Чайковке, где находился партизанский штаб. Село встретило безлюдьем и тишиной. Вот уже второй раз очутился в этом селе Андрей, а тут все так же пусто и глухо. Сельские хатки прятались в садах да под виноградной лозой, вьющейся на высоких шпалерах. На площади рос акациевый парк, и машиной тут не проехать – только мотоциклом или на велосипеде. Они поставили машину около клуба, а сами по аллее прошли к сельсовету. Полная, черноволосая женщина, которая помогла ему в прошлый приезд найти Степана Потурнака, мягким грудным голосом объяснила: тогда был слух; что Феноген Крыж был партизаном, но в селе мало кто этому верит.
Сразу же после возвращения из этой утомительной, невеселой поездки Андрей в сопровождении Григория Корпушного отправился к Евдокии Проновой. Привыкшая к замкнутой и всегда настороженной жизни, старая женщина и их встретила не очень-то охотно и радушно, хотя Оленичу казалось, что у них наладилось взаимопонимание после встречи на островах. Видно, глубоко засело в ее душе недоверие, и она, хотя и знала, что капитан расположен к ней и старается помочь, все-таки была сдержанной. «А что, если она не даст прочитать обещанную записку?» – засомневался Андрей.
– Евдокия Сергеевна, – начал он по-деловому разговор, – мы вот с Григорием ездили на место, где выбрасывали наши парашютный десант под руководством Ивана Пронова. Многое узнали, но в то время был там и Феноген. Я никак не могу связать в один узелок все это.
– Связать! – недовольно промолвила Пронова. – Ты развяжи! Узел-то, он существует давно, его развязать надобно.
– Может быть, записка прольет свет на всю эту историю? Вы обещали показать ее мне.
– Коли обещала, так не откажусь от своего слова. Хоть ты из нее мало чего возьмешь…
Она полезла в большой деревянный сундук, вытащила оттуда жестяную коробку из-под чая, а из нее – клочок пожелтевшей бумаги. Осторожно развернув, Оленич увидел несколько коряво написанных строк – бледных и полуразмытых. Наверное, сотни раз Евдокия разворачивала, читала-перечитывала, гладила-разглаживала пальцами, слезами поливала последний лоскут из общей с Иваном жизни. Написано было следующее:
«Передать командованию Красной Армии. Предназначено полковнику Стожару. Докладываю с горечью, что задание не мог выполнить: попали в засаду. В партизанском отряде был предатель. Отряд разгромлен. Наша группа погибла – радист и подрывник убиты, я умираю от ран. Когда мы отстреливались, то я слышал не только немецкую, но и нашу речь. Мне показалось, что засадой руководил мой шурин Крыж. Но это надо проверить. Передайте боевой привет товарищам по оружию. Старший лейтенант Пронов. Апрель 1943 года».
Оленич вернул записку Евдокии Сергеевне:
– Храните. Мы проверили: вашего мужа предал и убил Феноген Сергеевич Крыж.
– Я так и думала… Так и думала… Мама родная, кого ты породила?!
– Успокойтесь, Евдокия Сергеевна… – начал было Андрей, но старуха махнула рукой, мол, уходите, сама справлюсь.
21
Эдик был охвачен мальчишеским восторгом, что так легко овладел фотоархивом Дремлюги. Но то, что полоумный старик, длинный и тощий, с безумно выпученными глазами, перепугался насмерть, как только глянул на позднего гостя, не сулило ничего хорошего. Подумалось, что эта опасная операция – западня для него самого.
Бережно прижимая фотоматериалы, Эдик все еще не мог связать их со своим отцом – они будто бы больше относились к Дремлюге. Конечно, Эдик понимал, что Крыж – преступник, но это где-то далеко в прошлом. И еще не мог связать фамилию Крыж с немецкой Шварц. Вроде вычитанное где-то в книге. Все виделось и понималось лишь условно. Конечно, он прекрасно осознавал, что стоит ему посмотреть эти документы, как условность может улетучиться и жестокая реальность предстанет перед глазами. Осознавал, но не переживал. Возвратясь в дом матери, проверил, нет ли кого дома, потом заперся в горнице и, соблюдая осторожность, всю ночь исследовал пакеты, вытаскивая их из полуистлевшей полевой сумки: здесь было несколько стеклянных пластин, десятка два кассет с негативами и в отдельном плотном конверте несколько десятков пожелтевших, слежавшихся, склеившихся фотографий. Он не стал их раздирать, а решил где-нибудь в лаборатории попробовать рассоединить в воде, если не слезет эмульсия… Но на тех бледных отпечатках, которые отделились, он увидел ужасное – виселицы, трупы, изуродованные лица, нагие женщины с отрезанной грудью…
Эдик почувствовал, как загудело в голове, загорелось в груди, как что-то стало подкатывать к горлу, хотелось сорваться с места и бежать, но сдержался, осторожно сложив все, как было, и вышел из хаты, держа под мышкой полевую сумку. На рассвете, стараясь быть незамеченным, он пошел огородами в степь, а потом лощинами и оврагами направился в сторону райцентра Заплавного. Он надеялся по дороге обдумать все как следует и решить, что делать дальше. Одно время мелькнула мысль: взять бы да и отдать все это в милицию или в органы госбезопасности, но в подсознании возникало сопротивление этому шагу.
В Заплавном заведующим фотоателье работал его хороший приятель. Часто вместе выпивали, к девчатам ходили. Когда Эдик вошел в ателье, приятель был на месте.
– Пусти в лабораторию часа на три, – попросил Придатько.
– Что-то срочное по работе или девки?
– Всякое, – уклончиво ответил Эдик. – Но кое-что есть очень срочное для журнала.
– Бутылка будет?
– Вот тебе четвертак, иди в ресторан и пируй. Но сделай так, чтобы мне никто не помешал.
– Ладно, Эдик. Для тебя – все в твоем распоряжении. Люба! – крикнул заведующий ателье лаборантке. – Ты свободна.
Эдик остался один. Он изнутри закрылся и вывесил табличку с надписью: «Не входить!»
Начал более тщательно и внимательно разбирать все содержимое страшной полевой сумки. Профессиональный глаз отмечал, что многое снималось наспех, без подготовки камеры, дрожащими руками. Да и как удержать дрожь при виде того, что творилось! На полувыцветших, на полуистлевших фотографиях запечатлены сцены расстрелов, на которых сами палачи стояли, осклабившись и держа впритык к головам обреченных пистолеты… А вот клещами вырывают у человека язык… Здесь охваченная огнем хата, из окна пытается выскочить полунагая женщина с ребенком на руках, но в нее нацелен автомат человека в немецкой форме…
Эдика била дрожь. Он все время старался быть спокойным, но, увидев на очередном отпечатке озверевший взгляд отца или его садистскую самодовольную усмешку и стоящую перед ним на коленях полуобнаженную избитую девчонку, наверное комсомолку-подпольщицу, а может, и вовсе просто попавшую под руку, подозрительную, видя омертвевшее от страха почти детское личико, Эдик вскочил со стула, задыхаясь от бессилия что-либо изменить. Это было! Это факт! Это запечатлено! И это его отец!…
До сего времени, читая газеты и книги, смотря фильмы, он знал, что на войне были всяческие жестокости и были зверства фашистов на оккупированных территориях, но допускал, что писатели и кинематографисты, журналисты и очевидцы все-таки преувеличивают степень бесчеловечности. Но вот перед ним фотографии с натуры. Такой снимок не «организуешь», не поставишь. Невероятно! Убийственными казались спокойствие и равнодушие, с каким палачи расправлялись со своими жертвами. А те кадры, где каратели позировали во время казни, вообще туманили сознание…
Лихорадочно перебирая фотографии и негативы, всматриваясь в них все более осмысленным взглядом, он заметил, что в расправах над людьми принимали участие одни и те же каратели, и среди них всегда в центре – Крыж. Вот он держит за ухо старую женщину. Что он делает? Наверное, срывает сережку… На одной из фотографий он на груди у мужчины, которого держат два карателя, вырезал звезду. Крыж поднял в одной руке кусок человеческой кожи в форме звезды, а в другой руке держал финку. Но особенно приковывал внимание снимок двух женщин, стоящих в обнимку на белом снегу. Молодая вроде поддерживает старую и даже ладонью старается закрыть ей лицо от нацеленного на них автомата. Но сама девушка смотрит гордо и презрительно на палача – это был Феноген Крыж. Он целился и смеялся. С этой казни было три снимка – сам расстрел, потом снимок уже убитых и лежащих на снегу с темными пятнами, и третий снимок, на котором Крыж стоял возле трупа девушки, держа в руках длинную косу и гребень…
Наконец Эдик не выдержал и закричал:
– Зверь! Кровожадный зверь! Ты упивался смертью и муками людей! И меня хотел сделать таким?! Меня?! Нет, пора тебе расплатиться! Пора! Я не пойду за тобой, я пойду против тебя! И никакая родственная нить не привяжет меня к тебе, и нет зова крови, кроме зова к отмщению!
Эдик вспомнил капитана Оленича и подумал, что это единственный человек, перед которым он сам чувствует вину. И поэтому нужно было обязательно и поскорее снова повидать его и освободить свою душу от кошмара. Отобрав несколько фотографий, на которых особенно хорошо сохранилось лицо Крыжа, и те снимки с двумя расстрелянными женщинами, а это были, как понял Эдик, жена и дочь старика Чибиса, которого перепугался отец еще тогда, в гостинице на Прикарпатье, сложил все это в отдельный пакет и спрятал во внутренний карман, а остальное оставил в полевой сумке.
Выйдя из ателье, Эдик сразу же подался в ресторан, но есть не стал – его тошнило и качало, а выпил стакан водки. Потом решил проверить: выехал ли отец из Киева сюда или еще сидит и выжидает? По логике, трус должен бы еще сидеть и ждать вестей от сына, и только уверившись, что Эдику все удалось и что нет никакой опасности, он тронется в путь.
Заказав на почте срочный разговор, Эдик уселся в углу, подальше от людей, чтобы продумать предстоящий разговор, но телефонистка уже звала его к телефону.
– У меня все в порядке, – сказал он, не поздоровавшись и не назвав отца. – Ты приедешь?
– У тебя все в порядке? А у меня? Я могу быть спокойным?
– Материалы дома, могу подождать тебя.
– Подожди. Как мне ехать?
– Как обычно. Все очень просто: твой приятель ничего не помнит. Никого не узнает. Когда ожидать?
– Жди и все!
– Но мне и на работу надо.
– Отпросись за свой счет еще на несколько дней.
– Ладно.
Домой Эдик приехал вечером. Мать уже пришла с работы – в колхозе она не работает давно, но ее привлекает сельсовет к работе, правда, за деньги.
– Набегался? – недовольно бормотала она, ставя на стол ужин. – Как отец, вечно в бегах.
– Какой отец? Вы и сами его не помните, и днем бы не узнали.
Мать засмеялась – тихонько, хитро и бессовестно:
– Если ночью узнавала, то днем – подавно.
Много дум передумал Эдик за эту ночь, он снова почти не спал. И уже для себя решил: как только появится старик и он передаст ему фотоматериалы, так сразу же, не задерживаясь ни на минуту, поедет в Булатовку к Оленичу.
На рассвете послышался легкий стук в окно. Эдик слышал, как мать кинулась к двери, тихонько охая, но радостно и облегченно. Потом зажгла свет, задернула занавесочки. Крыж вошел в комнату – громоздкий, усталый и злой. Без всяких предисловий крикнул хозяйке:
– Ставь чего покрепче на стол! Да огурцов неси, помидоров…
Когда мать вышла из комнаты, потребовал:
– Ну, сынок, вставай! Хочу посмотреть на тебя.
Эдик вошел в кухню – он спал в горнице.
– А чего на меня смотреть?
– А какие изменения в тебе произошли?
– Смотри, если можешь что-нибудь понять.
– Думаешь, я ничего не понимаю в человеках?
– По тем карточкам, думаю, что тебе безразлично, какие люди. Ты только мог отличить живых от мертвых. Причем последние тебе были понятней.
– Ну, что же, правильно ты понимаешь. Хотя и обидно для меня. И жестоко. Но это лучше, чем если бы ты стал как-то юлить, чтобы и меня не обидеть, и себя не замарать… Садись, выпьем.
– Не хочу.
– Что так?
– Я пил. Предостаточно. Меня тошнило от всего этого дерьма. И я прополаскивал свой кишечник.
– Чем завтра думаешь заниматься?
– Поеду в областной центр, передам самолетом снимки для журнала. Не бойся, не это старье. Свои. В субботу и воскресенье я буду свободен. А что? Надеюсь, ты меня не потащишь с собой?
– Именно это я и хотел тебе сказать: поедешь со мной.
– Не могу. Я пообещал девушке… Нет, ты не думай ничего такого – это не пошлость, не баловство. Девочка еще юная, десятиклассница. Дочка председателя колхоза Магарова. Это в Булатовке. Я должен обязательно с нею повидаться.
Эдик заметил, как хмурое и даже мрачное лицо Крыжа разглаживалось и светлело, потом даже улыбка появилась на его губах:
– Отлично! Вот там мы и увидимся. Значит, так, поедешь завтра прямо из областного центра в Булатовку. В воскресенье, где-то после обеда, часа в три-четыре выйдешь к Лихим островам… Я увижу тебя. Хочу покупаться в последний раз в море, посидеть там, отдохнуть, ну и отыскать место клада. А вечером мы с тобой двинемся в обратный путь – прямо в столицу.
Эдик пожал плечами:
– Пусть будет так… Хотя мне и жаль воскресного вечера.
22
Через несколько дней Оленич договорился с председателем сельсовета, что необходимо срезать с обелиска фамилию Крыж и занести имя Ивана Пронова. Пастушенко поставил условие, что для решения исполкома нужны доказательства. И Андрей пообещал, что доказательства будут.
И в тот же день на очередной встрече с ребятами Андрей рассказал о своих поисках и находках. Но неожиданно в кабинет вошел начальник погранзаставы майор Отаров. Оленич скомандовал:
– Встать!
Спасибо майору, нашелся:
– Здравствуйте, товарищи допризывники!
Ответили не дружно, невпопад, но все-таки стоя.
– Вольно! Садитесь, – сказал капитан и улыбнулся.
Майор обратился к Оленичу:
– Позвольте мне сказать несколько слов? Очень тороплюсь. Ребята, вот капитан интересовался историей вашего земляка старшего лейтенанта Пронова. И даже занимался поисками. Хочу помочь ему в этом. Я связался с генералом Стожаром, который во время войны организовывал засылку наших разведчиков во вражеские тылы, поддерживал связь с партизанскими отрядами на юге Украины. Да, он помнит, как отправлял группу старшего лейтенанта Пронова. Пообещал посмотреть в архивах, и если что найдет, то расскажет вам… Он пообещал приехать специально, чтобы встретиться с капитаном и женой Пронова.
– Спасибо, товарищ майор, – взволнованно сказал Оленич.
– Капитан, может, к тебе приставить бойца на помощь?
– Зачем? Я же не лежачий инвалид. Да и помощников у меня хватает. А мой секретарь отлично справляется со всеми делами. Но за поддержку благодарю тебя, майор!
– Не благодари. Это не услуга, а долг. – Отаров козырнул и вышел из кабинета.
Но Оленич был благодарен искренне: это была первая поддержка. Он почувствовал прилив энергии.
– А почему нашего секретаря нет? – спросил он у ребят.
– Тоня поехала в область. Сказала, что решается ее судьба. Но, думаю, как всегда – пошутила, чтобы разыграть нас.
– Да нет, разыгрывать в таком деле, как судьба, она не будет, – задумчиво заметил Оленич. – Ну да ладно, узнаем. Не насовсем же она уехала…
Роман обратился к Оленичу с просьбой рассказать еще что-нибудь о войне. Андрей понимал, что их интересует не вообще война, а его личное участие, особенно жадно они слушают рассказы о трудных, жестоких и трагических эпизодах, когда из безвыходных ситуаций наши бойцы и офицеры находили правильное решение и побеждали противника.
– Хорошо, ребята, я расскажу вам одну историю. Мой рассказ будет состоять из задач с несколькими неизвестными, и вам предстоит понять суть и дать правильные ответы. Так вот, в один из самых трудных боев в наших рядах объявился трус. Когда на стрелковые окопы ползли фашистские танки, он, наводчик противотанкового ружья, спрятался на дно окопа, в надежде, что нас всех побьют, а он, целый и невредимый, очутится в тылу у немцев, а проще говоря, сдастся врагу и спасет свою шкуру. Но в это время передовую проверял командир. Он всегда шел туда, где было труднее бойцам. Он знал каждую огневую точку и заметил, что одно противотанковое ружье не действует. Проверил. Оказалось, наводчик, скрючившись, сидит в окопе и бормочет молитву. Командир заставил бойца выйти из окопа, установить ружье и вести огонь по машинам противника. Но только командир отошел от него на несколько шагов, этот трус схватил карабин и убил командира.
В это же самое время я спешил на тот же фланг: там шел яростный бой. Между первой и второй линией окопов я наткнулся на умирающего комбата. Перед смертью командир сказал, что стрелял в него изменник. Я вышел на передовую, и бойцы мне сказали, что пэтээровец прыгнул с обрыва в реку и, наверное, погиб от огня фашистов. Решив проверить, я нашел узкую расщелину, по ней подполз к самому обрыву и в нескольких шагах от себя заметил притаившегося в кустах изменника. Камешек сорвался с обрыва и покатился вниз. Он насторожился и повернулся ко мне лицом. Я нажал на спусковой крючок пистолета. Выстрел прозвучал почти неслышно, в одно мгновение лицо предателя залила кровь, и он свалился в бурьян. Я посчитал, что убил его, но ошибся: пуля прошла, видимо, через бровь и щеку. Но об этом стало известно через много лет.
– Он остался жив?
– Да. Он сдался гитлеровцам. Он стал у них в одном из карательных отрядов главным палачом. Он убивал людей жестоко, изощренно, наслаждаясь муками и страданиями коммунистов и комсомольцев, женщин, детей… Известно, что трусливые люди самые жестокие и беспощадные. Они словно мстят мужественным людям за свою шакалью трусость.
– Разве его после войны не поймали?
– Нет, он скрывается… Он заимел документ, что был партизаном. Живет тихонько, вроде скромно – получает маленькую зарплату, но на самом деле живет, тратя награбленные ценности.
И тут Леонид подбросил вопрос:
– А откуда вы это знаете?
– Я его ищу, – сказал Оленич, но понял, что не ответил на вопрос, добавил: – Возможно, скоро мы с вами увидим его… А теперь всем слушать внимательно: то, что я сказал о предателе и о возможности увидеть его – военная тайна. Больше чем военная. Это вопрос справедливости! Вы ни при каких обстоятельствах, никому, даже самым близким, не скажете об этом, пока не поставим точку в этой истории о предателе. Потом я вам расскажу гораздо больше… Даете мне такое слово?
Андрей внимательно посмотрел на каждого: как вытянулись их лица и посуровели, какие серьезные глаза и какая глубокая задумчивость наполнила их! Они, эти подростки, еще никогда не были такими ошеломленными и даже немного растерянными. Сидели, облизывали пересохшие губы, вытирали ладони о брюки. Это уже была не игра, а что-то настоящее, и оно поглотило их целиком. Они даже перестали перешептываться между собой, словно боялись проговориться о тайне. Лучше всех владел собою Леонид. Он потер ладонью рыжие вихры и спросил:
– А между собой можно нам говорить об этом?
– Конечно, можете обсуждать, постарайтесь все правильно понять и сделать выводы, потому что быть командиром в нашей армии не так просто и не так легко, особенно во время боевых действий. Люди с разными характерами, неодинаковым воспитанием в сложной обстановке ведут себя по-разному, и командир должен, обязан предвидеть, как поступит тот или иной его боец. Главное – учиться понимать людей. Командиру очень важно, чтобы в него верили подчиненные, верили без всяких сомнений и колебаний. Тогда люди поднимутся за жим и пойдут в атаку.
– Но как достичь, чтобы тебе верили?
– Задача не простая. Нужно начинать с себя. Готовишься стать офицером, проверь всего себя, как боевое оружие, чтобы нигде ни соринки, ни пятнышка и тем более чтобы ни точки ржавчины. И чтобы ты мог открыто и смело глядеть в глаза и подчиненному, и старшему начальнику. Если все у тебя в порядке, начинай думать о людях. Исходи из того, что ты всех в своем подразделении любишь, что твои солдаты – самые лучшие в части, что ты можешь ими гордиться. Никакой предвзятости, никаких поблажек одному и неприязни к другому. Помни всегда, что в твоем лице солдат видит командира, друга и судью – высшую справедливость. Ты можешь хорошо разработать план сражения и сумеешь поднять в бой взвод, роту, батальон и выиграть этот бой, не потеряв своих людей, а можешь необдуманно, лишь огласив приказ, кинуть солдат в сражение и погубить их. А чтобы правильно решить, как вести бой, умно разработать тактику ведения боя, нужно быть хорошо подготовленным, грамотным, знающим и уверенным командиром.
Вошла Тоня. Она была чем-то очень взволнована, возбуждена и даже не поздоровалась, а просто прошла на свое место возле стола.
– Извините, Андрей Петрович, за опоздание. Рассчитывала, что успею.
– Но ты же сказала, что едешь в область! – воскликнул озадаченный Роман. – Я так и Андрею Петровичу сказал.
Тоня с усмешкой посмотрела на него:








