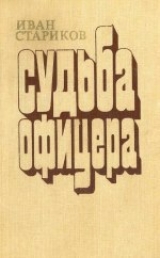
Текст книги "Судьба офицера. Трилогия"
Автор книги: Иван Стариков
Жанры:
Роман
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 28 страниц)
– Борис, – обратился Оленич к матросу, – поддай ему под другой бок! Чего сидишь? С той стороны у него уцелели ребра. Пересчитай их!
Латов молчал. Он вытирал пот с лица рукавом. И вообще, за время рассказа Чибиса Борис не проронил ни слова. Кто знает, что творилось у него в душе… Но вот матрос пододвинул свой стакан с чаем Чибису:
– Хрипишь, братишка. Отхлебни чаю, промочи горло.
– Да и у тебя голос немного сел, – заметил Оленич.
Латов протянул свои культи и опустил их на руки Оленича. лежавшие на столе:
– Положил ты меня на обе лопатки. Амба.
Оленич поднялся:
– Мы стоим на месте, где пролита кровь Марии Никитичны и Оксаны. Здесь они упали, сраженные из немецкого автомата. Здесь прозвучал последний крик матери, и здесь погасли прекрасные глаза Оксаны. Отныне и навсегда запомни: если еще хоть раз ты, Латов Борис, заведешь дебош, не смей подходить к этому двору.
17
В субботу произошло исключительное событие: на общеколхозном отчетно-выборном партийном собрании коммунисты неожиданно выдвинули Оленича в состав парткома. Этому предложению воспротивился председатель колхоза Магаров. Он сказал, что Оленич – приезжий человек, неизвестный никому. К тому же есть мнение, что он болен, что у него с психикой не все в порядке. Ему надо лечиться, а не лезть в колхозные дела. А Васько не только поддержал мнение Магарова о том, что Оленич надломленный человек, но и добавил:
– Мне говорил главный врач районной больницы, что у человека с такими травмами, как у Оленича, обязательно имеются в центральной нервной системе отклонения от нормы. Нам только и не хватало таких в парткоме!
Но неожиданно выступил Устин Орищенко, старый коммунист. Он волновался с непривычки, и его длинные белые усы и бакенбарды подрагивали, когда он говорил, сдерживая срывающийся на крик голос:
– Председатель, ты это что же порочишь человека? На себя погляди! Тебя в селе царем зовут. Это нормально? А Оленич всего лишь капитан. Царь против капитана? Конечно, если бы он был капитаном на нашем пароходе, он бы померился с тобою силой. А то ведь пехотный…
– Чего мелешь, старик? – подскочил Магаров. – Какой я царь?
– Об этом у людей спроси… А Оленича оставить в списках для голосования. И баста!
И это решило исход дела: Оленича почти единогласно избрали в состав партийного комитета. Таким образом, он как бы приобщался к руководству селом и колхозом. Во всяком случае, с его мнением обязаны будут считаться.
Домой возвратился в приподнятом настроении. Значит, он нужен людям, значит, его существование не пустоцветное, а полезное обществу. К этому же он и стремился, борясь за выживание, не жалея усилий, побеждал свой недуг.
С такими мыслями он уснул, спал крепким приятным сном, как спалось ему всегда, когда он выздоравливал и набирался сил. Утром он собрался на море, но с почты принесли телеграмму от Гордея:
«Симферополе состоится сбор военных врачей. Воскресенье проездом буду у тебя. Подготовь Лялю к встрече. Привет от Люды. Собирается к тебе. А может, ты вернешься? Обнимаю тебя и Лялю. Гордей Криницкий».
Пока Андрей радовался телеграмме, пока соображал, что делать, где его встречать, пришла Ульяна Петровна убирать в доме и во дворе. Он к ней:
– Петровна, большая просьба: как бы позвать Лялю? Может, вы найдете Романа, а он привезет ее?
– Да чего ты, милый, так горячишься? Сейчас позову.
Ульяна Петровна направилась к калитке, когда столкнулась с Варварой Корпушной. Оленич удивился, со дня приезда он ни разу не виделся с ней: уж не избегала ли она его? С чего бы это?
– Не думала, не гадала, что так неласково придется встретиться, – начала Варвара. – Вроде бы и радоваться надо, что вы приехали, что всегда будете нам напоминать Петра, а вот мается мое сердце.
– Что ты, Варвара! Или я чем огорчил тебя?
– Лялю мне жалко! Уедет ведь! А для меня она как дочка родненькая. Выпестовала я ее, свою душу в нее вложила… Об ее будущем думала ночами. Счастливыми глазами смотрела на нее каждое утро, со слезами благодарности к богу, что послал мне такую девочку, я укладывала ее в постельку…
Варвара плакала. От замешательства Андрей не мог ничего ей сказать. Подумал о Викторе: а если бы кто предъявил на него права? Если бы мать нашлась?
– Варя, успокойся, милая. Ты ведь совершила такое добро: воспитала хорошую девочку! Почему же не хочешь приумножить свое добро? Неужели оставишь девочку при себе, не пустишь ее к отцу? Зачем же содеянное тобой добро своими руками превращать в зло? У меня ведь тоже приемный сын. Служит в армии, в военном училище. Дорог он мне. Но если бы нашлась его мать? Разве я не отдал бы его матери?
Корпушная слушала, сдерживая слезы. Но потом вытерла белым передничком лицо, чуть-чуть улыбнулась:
– Сейчас она прибежит… Господи, да мы как узнали про телеграмму – переполошились все на ферме.
– Как же вы узнали про телеграмму?
– На селе люди узнают новость раньше того, кого она касается.
Ульяна Петровна обняла Варвару ласково, по-матерински и повела ее со двора.
А через минуту-другую прикатила на велосипеде Ляля. Девочка была смущена и растеряна, она смотрела на Оленича такими глазами, словно ждала спасения:
– Андрей Петрович, вы звали меня? Тетя Варя послала к вам. Говорят, вы получили от отца телеграмму?
Она говорила, заглядывая ему в глаза и все время стараясь схватить его руку. Оленич успокаивал ее как мог. В это время у двора остановилась медицинская легковушка. Андрей, стоявший лицом к воротам, увидел, как отворилась дверца и из машины, согнувшись, вылез Гордей. Вот он выпрямился, поднял голову и широким шагом пошел по дорожке, держа в одной руке небольшой чемоданчик, а в другой шляпу.
Увидев, что Андрей Петрович смотрит не на нее, а куда-то поверх ее головы, Ляля обернулась. Прямо к ним шел высокий, худощавый мужчина. Она увидела влажно блеснувшие темно-карие глаза и мягкую, добрую улыбку… Ляля узнала его! Кинулась к нему, и Гордей подхватил ее в объятия. Она почувствовала его сильные руки, и тепло разлилось по ее телу.
– Папа! Это ты, папочка! Приехал! Я узнала тебя!
Ляля уже не говорила, а как-то выдыхала слова. И Гордей, никогда не знавший, что такое родное дитя, впервые в жизни испытывал отцовское волнение.
– Доченька… Ах ты ж, милое дитятко мое!
Андрей хотел оставить их вдвоем, но Гордей удержал его:
– У меня совсем мало времени. Давай расскажи о себе, о самочувствии. Почему вызываешь Люду?
– Но ведь мы должны жить вместе!
– Это означает, что ты не собираешься назад?
– Видишь ли, дорогой мой Гордей, кажется, у меня здесь будет важная работа. Такая, от которой я никогда не уйду и не хочу уходить. Будем жить здесь. И Люде найдется работа: планируется строительство сельской больницы. Но ведь ты будешь иметь теперь помощницу не хуже Люды, только выучи ее.
Гордей посмотрел на Лялю:
– Нам еще предстоит с нею вдвоем решать, как быть. Поедет со мной, захочет учиться на медика, я буду счастлив. Хоть я уже счастлив оттого, что она есть у меня!
Два часа длилась их беседа. Гордей Михайлович, глянув на часы, решительно поднялся:
– Все, мое время кончилось. Через полчаса вылет из Тепломорска на Симферополь. Заскочу, когда буду возвращаться. Ляля, решай: поедешь со мной или еще останешься. Потом скажешь, что решила.
– Я поеду к тебе!
– Спасибо, доченька, – растроганно проговорил Гордей Михайлович и поцеловал Лялю.
Взяв чемоданчик и шляпу, он вышел из дому, помахал им рукой и уехал.
Ляля, прижавшись к Оленичу, прошептала:
– Я счастлива! И все благодаря вам, Андрей Петрович…
Девочка убежала. Андрей остался один во дворе.
Но вот издалека донесся женский голос:
– Андрей Петрович! Ау!
Он оглянулся вокруг и увидел: по ту сторону яра на крылечке своего домика-теремка стояла Софья Константиновна и махала ему рукой:
– Можно к вам зайти на минутку?
– Конечно, конечно! Что за вопрос!
Фельдшерица стала спускаться по крутому склону яра, на какую-то минуту ее скрыли заросли камыша, потом она снова появилась, уже на этой стороне. Преодолеть яр и речушку было для нее уже не по силам, она дышала трудно и прерывисто, и на белом лице пламенели пятна. Андрей взял ее под руку и провел к столику, посадил на стул.
– Был у меня разговор с одним человеком… Это районный психиатр. Интересовался вами, расспрашивал, вполне ли вы здоровы. И очень хотел бы посмотреть на вас, Андрей Петрович.
– Зачем? Что ему нужно?
– Это и я хотела бы знать. Я говорю вам на всякий случай. Я ведь тоже ничего не боюсь, как и вы, – Она вдруг засмеялась: – Мы ведь с вами – военные люди!
18
Феноген Крыж не мог сидеть на месте: его властно звали те заветные Лихие острова между Тепломорском и Булатовкой, и в то же время он смертельно боялся ехать. Очутиться на той земле, которую полил человеческой кровью, сейчас ему меньше всего хотелось: казалось, что там каждый человек опознает его, каждое дерево исторгнет проклятье, каждый камень завопит. Но ехать надо. Один-единственный раз, последний раз надо поехать и забрать то, что добыто в тот такой веселый, такой разгульный сорок третий год!
Эдик в последнее время стал сторониться его. Охладел к перспективе создать себе роскошную жизнь? Или боится за свою шкуру? Конечно, молодой, войны не видал, жестокостей не испытал, не знает, что такое власть богатства и богатство власти. Ту драгоценную мелочь, которая попала в его руки в виде женского гребня, видно, промотал с женщинами, а если снова попал к Ренате, то та высосет из него все, до последней нитки. Крыж знал, что есть только две настоящие власти, два могущества – власть оружия и власть денег. Сам он испытал это в полной мере и понимал, что придется расплачиваться за все и тоже сполна.
Решил рискнуть. Одевшись под сельского жителя, Феноген сел в поезд и поехал, чтобы раз и навсегда покончить со всеми таврическими делами – забрать сокровища, убрать Дремлюгу, если удастся – и Оленича, а потом сразу же уехать подальше от этих мест и попробовать перебраться за границу.
Сначала Крыж боялся встретить в поезде знакомых, но прошел почти все вагоны, посидел в ресторане, и ни одного мало-мальски опасного лица не заметил.
Но в речном порту он снова забеспокоился. Люди едут в Заплавное, в Тепломорск. А значит, вполне вероятно, что встретится хоть один, знавший Крыжа по прежним временам. Кассы располагались в полутемном помещении, и поэтому лица были плохо различимы. Приподняв немного воротник, Крыж занял очередь, кося по сторонам, чтобы вовремя укрыться от взглядов знакомых. Впереди стоял черноволосый мужчина в телогрейке. Видимо, он подвыпил, потому что все время заговаривал с людьми, поворачиваясь то в одну сторону, то в другую. Одна из женщин возмутилась и обернулась к вертлявому человеку:
– Чего толкаетесь! Если выпили, так идите проспитесь. – И перевела взгляд на Крыжа: – Хоть бы вы урезонили этого шебутного человека.
– Кто тут хочет урезонить меня? – Чернявый глянул через плечо на Феногена и нахмурил брови, потом заморгал глазами: – Да ты не земляк ли? Я где-то тебя видел…
– Вы ошиблись: я здесь впервые, – поспешно ответил Крыж и отвернулся.
– Да погоди ты, не отворачивайся: точно мы встречались! А где – надо вспомнить. Может, ты припомнишь меня – я Григорий Корпушный.
– Чего прицепился? Напился, так хоть молчи.
– А, ты вот как, землячок. Ну, погоди, я все же припомню…
Корпушный посмотрел по сторонам, словно ища знакомых, кто подтвердил бы, что человек со шрамом через все лицо знакомый, но не нашел. Гмыкнул и снова повернулся назад: а знакомого незнакомца уже не было. Григорий сплюнул и покачал головой.
Крыж, выбежав на привокзальную площадь, где стояли такси, сел в свободную машину:
– В аэропорт.
Через два часа он уже стоял перед дверью квартиры сына. Эдик удивился:
– Ты не поехал?
– Я уже возвратился.
– Не вижу радости и торжества на твоем лице. Ты не достиг цели?
– Я не ставил задачу сделать сразу все, но разведку произвел.
– Ты плохо выглядишь. Прими ванну, и будем обедать. У меня перед отпуском работы много…
Выйдя из ванной, старик, стоя у стола, выпил стакан водки и начал жаловаться:
– Тяжело мне переносить дальние дороги. А ехать надо… Чуть передохну и сделаю еще одну попытку добраться до своего клада. Деньги тают, скоро и жить не на что будет.
– Как же ты думаешь сбежать за границу, когда здесь трудно передвигаться?
– Граница покуда отодвигается, сынок. На некоторое время залягу в нору, как Дремлюга, пережду малость. Но настанет мой час, и я сделаю рывок. Самый последний и самый главный. Потом уж свобода полная. Можно затеряться в большом городе, где меня никто не знает, можно уехать в места поглуше… Да, ты когда едешь к матери? Будешь там, попробуй узнать что-нибудь про Дремлюгу. Может, не так страшен черт, как его малюют? Жалко, что ты не воспользовался своей командировкой. Ведь был же там! Почему не нашел этого крота? Струсил? Конечно, струсил!… За его материалы, сынок, я отвалю тебе столько, что даже с твоей буйной фантазией трудно вообразить. Понял? Соображай. Теперь твои монеты и камешки отодвинулись до следующей твоей поездки в те края. Найдешь – будешь халифом, а струсишь – ползай в грязи, как червь: я ничем не смогу тебе помочь.
– Да, я понял, но понял и то, что они меня и погубят. Камешки твои камнем лягут на мою могилку.
– А, ерунда. Тебе ничто не угрожает во время визита к Дремлюге: профессиональный интерес… Коллега приехал к коллеге… А если он вдобавок еще и чокнутый, то и трогать его не нужно. Забрать материалы – и все. Только старые фотоматериалы. Только это.
– Неужели ты думаешь, что я смогу обыскивать его берлогу?
Крыж задумался, но не надолго:
– Чистоплюй! И, пожалуйста, не крути: если трусишь, так и скажи. Понял? Было бы обидно, чтобы мой сын оказался трусливым зайцем.
– Брось! Ты сам не из храбрецов.
Эдик загонял Крыжа в глухой угол.
– Даю тебе еще один шанс. Пока ты еще ничего не сделал для меня, да и для себя тоже. Будешь у матери, не забудь о Дремлюге. Все.
– А если он не сохранил ни фотографий, ни негативов?
– Все может быть. Но ты должен убедиться. Как? Сам подумай. На месте соображай, как поступить. Тебя никто там не знает, можешь действовать смело. Даже родная тетка тебя не знает.
– Ха, есть у меня там знакомые: Оленич.
– С ним тебе проще: ты посланец его друга, фотокорреспондент! Тебе все двери открыты. Собирайся и вечерком загляни ко мне на квартиру. Сегодня Зойки не будет, дежурит в ночную смену.
Сдав снимки в отдел иллюстрации в художественного оформления уже в конце рабочего дня, Эдик сел на троллейбус и поехал к отцу. Тот сразу же приступил к делу:
– Когда выезжаешь?
– Наверное, завтра вечером. Сегодня Рената пригласила.
– Хорошо. Есть время. – Крыж поставил на стол шахматную доску и раскрыл – новенькие белые и черные фигурки поблескивали и казались Эдику загадочными и таинственными: он не умел играть. Отец взял одну фигурку: – Что это?
– Хоть и не играю в шахматы, но это слон.
– Не обязательно уметь играть, имея такие шахматы. Это действительно слон, но не совсем обычный: он подкован. И подковки не простые, а золотые!
Старик отодрал с нижней части замшевую наклейку, и оттуда выпала золотая монетка.
– Червонец! – воскликнул Эдик. – Вот это фокус! И что, все так подкованы?
– Иначе зачем бы я их возил с собой? Возьми, это тебе командировочные. Можешь отнести любому стоматологу, он тебе отвалит не глядя триста рубликов. Можешь, конечно, через свою Ренату, но она комиссионные сдерет с тебя.
Не заезжая в село к матери и почти нигде не останавливаясь, Эдик поехал прямо в Тепломорск. Через двое суток он уже выпросил место в тепломорской гостинице, похожей на казарму, и пошел побродить по приморскому городку. На берегу увидел забегаловку, где жарили шашлыки и продавали водку. Устоять против такого соблазна Эдик не мог и вошел – водочные пары, запах жареного мяса и лука, горелого масла как будто бы обволокли его. Гул голосов, сизая дымка и все ароматы кухни напоминали портовые кабаки, где все были равны и где знакомились после первой чарки. Эдик остановился возле столика, за которым сидели двое, по всем признакам местные – скупые на закуску, не спешили с выпивкой ввиду скудности средств и в надежде на какого-нибудь знакомого ханыгу. Пожилой человек в полотняном костюме, хотя возле моря в предвечерье не так было знойно, как Днем, неспешно курил папиросу, шаря глазами по всему залу. Молодой, примерно одного возраста с Эдиком, сидел, пьяно свесив голову. Спросив разрешения присесть Эдик опустился на стул и осмотрелся.
– Как шашлыки? – спросил он, обращаясь к старшему. – Я тут впервые, еще не ознакомился с обстановкой.
– Шашлыки? – вдруг оживился старший. – Здесь, брат, шашлыки лучше кавказских! Только дороговато – по рублю.
– Ну, разве это цена для хорошего шашлыка? – спросил Эдик. – Во Львове в кавказском зале – по три рубля.
– Не для нас! – махнул рукой пожилой.
– Может, выпьем за знакомство? – спросил Эдик, – Подадут или надо стоять в очереди?
– Если бы ты сам по себе, то стоял бы как миленький. А с нами – полное обслуживание!… Аня! Убери со стола! – громко скомандовал мужчина, обернулся к Эдику и мелко, дрожащим голосом засмеялся: – Это такой условный сигнал – убрать и подать. Вот она: прошу любить и жаловать – Аня, наша разлюбезная Аня…
– Ну, раззвонился! Клиента нашел, что ли?
– Это я попросил! – вежливо сказал Эдик. – Для начала нам бы по шашлыку и бутылку водки…
– И пива, – добавил новый приятель.
– Значит, и пива, раз уважаемый Петр Иванович…
– Да нет же, Артур Химович!
– Ну да, раз уважаемый Артур Химович желает пива, то подать.
– У вас тонкое обхождение, э…
– Правильно, Эдик.
– Так вот, Эдик… Лучше – Эдуард! Король Эдуард Пятый! А? Я, брат, тонко понимаю красоту, Эдуард – это мощно, как армада кораблей! Сильнее, чем Нельсон. Извини, Эдуард, что я легкомысленно одет. Но наш приморский городок имеет свой норов и права. Оригиналов у нас, как и гениев, больше, чем в Одессе, но мы непризнанный город. Наше время еще не настало. Но оно придет, Эдуард! Наши отцы города – все, сколько их ни было, – превеличайшие оригиналы! Собачьи дети! Выпьем за свой норов – каждому! А? Звучит?
– Здорово! – Эдик искренне восхитился своим новым знакомым. – Аня, пожалуйста, убери посуду, – громко добавил он. Она подошла, хмуро глядя на подвыпившего седого, покачала головой. А Эдик уже командовал: – Пожалуйста, все еще раз, и вот вам за обслуживание три рубля.
– Молодой мой гений! Маэстро! Да вы здесь больше свой, чем я, проживший тут долгую творческую жизнь. Петька! – толкнул парня, но тот, молча и ни на кого не взглянув, встал и, пошатываясь, вышел. – Жидок еще парнишка. Жалко мне его. И ее надо бы ему пить, а вот сопровождает меня, учится.
Выпили. Собственно, Эдик старался не пить, но делал вид, что пьет.
– Слышал я о вашем городке. Говорят, что тут скоро будет большой курорт…
– Только не надо про Васюки! До Одессы мы не дорастем, но оригинальными будем дольше. Она настолько большая и настолько полна гениев, что их там уже никто не замечает. А у нас все будет долго новым и оригинальным.
– В автобусе мне рассказывали, что кто-то у вас тут двадцать лет просидел в пещере.
– Дремлюга, – схватил сразу нить разговора Артур Химович. – Но не двадцать, а почти двадцать три! Тоже оригинал!
– Вот бы повидать! Бутылку бы поставил, чтоб только поглядеть!
– Ты мне друг? Я тебя уважаю, как молодого бога, и поэтому все тебе покажу. Пойдем.
– Пойдем.
Поднялись. Артур вдруг посмотрел на стол:
– Нехорошо. Не убран стол. Надо бы допить, а?
– Давай.
Эдик разлил остатки водки…
Когда уже шли по вечерним сумеречным улицам, Эдик пытался разузнать о Дремлюге побольше, но так, чтобы Артуру это не запомнилось. А эта родственная Эдику душа сама шла ему навстречу.
– Говорят, что он тронулся умом в той яме? – спросил Эдик.
– Слегка чудит дед. Одни говорят, что спятил, некоторые думают, он придуривается. Чтобы его не трогали. Да ты сам можешь убедиться: иди по этой улице три квартала, справа увидишь улочку Короткую. На углу – хата его сестры. Он там живет. Но предупреждаю: слабонервному лучше не встречаться: Страшный, как Кощей, – глаза выпученные, борода длинная, до пояса…
– Интересна получается – на улице Короткой длинная борода!… Ну, я пошел в гостиницу, завтра встретимся на шашлыках…
– Эх, Эдуард Пятый, если бы ты там появился с утра! А?
– Приходи к семи.
– Что я тебе скажу, Эдуард, – тебе надо жить только здесь и нигде больше! Нам такие люди нужны, чтобы Одессу-маму перечудить.
Эдуард поспешил расстаться со словоохотливым свободным художником Артуром Химовичем, сделал вид, что пошел к гостинице, но, пройдя квартал и потеряв из виду своего спутника, повернул в сторону Короткой. Угловую хату он определил сразу, постучал в калитку. Вышла подслеповатая старуха, долго и подозрительно всматривалась в незнакомого человека, потом спросила не очень доброжелательно:
– Шляются тут… Чего тебе?
– Переночевать негде, бабуся, ищу, ищу и не найду, где бы переспать до утра. Деньги у меня есть, я бы не поскупился. Найдется у вас уголок? Я вам дам пять рублей за одну только ночь…
Глаза у старухи потеплели, и она открыла калитку:
– Никого не пускаю на квартиру, но ты можешь переночевать.
Завела она его в почти пустую и холодную комнатенку, скорее кладовку, чем жилье, показала на диван, принесла подушку и одеяло. Эдик вытащил из кармана трешку и протянул старухе:
– Может, купите где у соседей кринку молока да кусок хлеба: с утра ничего не ел.
– Эх, какое теперь молоко! Люди коров не держат… Разве Сагайдачиха продаст: у нее коза дойная.
– Вот и хорошо.
– Посиди тут, через час принесу, она, наверное, еще не доила…
Старуха ушла. Эдик решил осмотреть дом. Открыл дверь, и вдруг прямо перед ним запрыгал на тонких костлявых ногах высокий дед с длиннющей бородой. Лампочка горела слабо, и вся фигура деда казалась неестественной, призрачной. Вот, значит, какой Дремлюга! И вправду, если бы не знал, то обмер бы со страха. Привидение вытаращило белые глаза, приложило к вискам тонкие указательные пальцы с длинными закрученными ногтями и запрыгало вокруг Эдика, повизгивая и выкрикивая:
– Ты?! Шварц?! Ты – призрак! Хо! Хо! Изыди! Сгинь, сатана! Я – черт! Я – черт! – Вдруг остановился и спросил: – Ты чего, Феноген? А где твой шрам?
Эдик понял, что никакой он не помешанный, этот Дремлюга. Вон как испуганно смотрит! «Значит, он принял меня за Крыжа? Выходит, я похож на отца? От этих мыслей впору самому перепугаться…»
– А, ты с того света! Сгинь, сгинь, Шварц!
– Молчать! – грозно проговорил Эдик. – Где твой аппарат? Где снимки? Где негативы? Давай!
Перепуганный Дремлюга кинулся открывать крышку в подполье. Эдик вытащил из кармана фонарик и полез следом за хозяином вниз.
– Там… Там, – протянул дрожащую, костлявую руку. Вдруг упал на колени: – Не убивай! Все забирай, но не убивай!
– Не верещи! Давай все сюда…
Дремлюга подал полевую сумку, туго набитую бумагами. Но Эдику некогда было разбираться: вот-вот должна была вернуться старуха с молоком. И действительно, только он уселся у себя в каморке, как появилась она. Он наспех выпил молоко и сказал, что пойдет погулять на улице.
И только отойдя несколько кварталов, Эдик вздохнул свободно и облегченно: можно возвращаться домой. Мелькнула, было, мысль заехать в Булатовку и встретиться с капитаном, но подумал, что нужно все пересмотреть, перебрать.
19
В конце августа в районе была объявлена учебная тревога. Оленич не занимался подготовкой учений, но он все же успел до появления комиссии осмотреть, какие выставлены машины и механизмы, лично проверил, не сидят ли за рулем люди в нетрезвом состоянии. По спискам сделал перекличку, те ли явились на сбор, кому положено и кто получил повестки, – списки у него были, повестки вручал сельсовет. Без согласования с Магаровым вынужден был принять меры, потому что вместо двух бензовозов выставлен один, а из спецмашин не было техлетучки, у водителей автомашин не хватало комплектов запасных частей. С помощью завгара и главного механика заменил двух пьяных водителей, разыскал техлетучку, второй бензовоз. Это он все делал, пока Магаров, Добрыня, главный инженер и Пастушенко сидели в кабинете председателя, обсуждая условия учений, переговариваясь по телефону с военкоматом. И для них совершенно было неожиданным, когда явились трое проверяющих – один офицер из соседнего военкомата, один из области, а третий из отдела гражданской обороны райисполкома. Вместе с местным руководством они пошли на сборный пункт за селом, проверили и поставили оценку «отлично». Магаров и главный инженер сами себе не поверили, что требование военкомата обеспечено полностью.
Магаров неприязненно поглядывал на стоявшего в сторонке Оленича, но ничего не сказал по поводу такого невиданного самоуправства, зато секретарь парткома Добрыня, правда, уже на рассвете, когда объявили отбой, подошел к Андрею:
– Ничего не скажешь! Характер у тебя боевой.
– Скажи об этом Ростовскому.
– Ишь ты! Много хочешь! Не всегда такая инициатива на пользу тебе. Да и на этот раз еще посмотрим, что получится. Ладно, я тебя не пугаю, а защищать буду.
Усталый и расстроенный разговором с Добрыней, Оленич собрался на пляж, чтобы освежиться, отойти от напряжения. Но приехал Роман и предложил прокатиться к Лихим островам.
Купальный сезон был в разгаре, пляж за селом гудел от множества людских голосов: там все двигалось, мельтешило, и Оленич в последние недели все реже выходил днем к морю и все чаще просил Романа отвезти куда-нибудь в укромное местечко возле так называемых Лихих островов, хотя их когда-то называли Лебяжьими.
В это утро Оленич и Роман, оставив мотоцикл на пригорке, под старой маслиной, направились по узким троякам между зыбкими островами к морю. Прошли кустарник, миновали не очень тонкие места. Море шумело уже рядом. Оленичу идти стало трудно, и они свернули в сторону и вышли на сухой берег. Андрей уселся на останки старой, полусгнившей лодки, глядел на море и думал о своей жизни, о судьбе офицерской и инвалидской, о войне и о том, что было с ним и с товарищами по оружию – и старшими, и младшими.
– Слышите, капитан?
Оленич обернулся:
– Что?
– Прислушайтесь!
И Оленич услышал какой-то необычный голос, да сразу и не понять – человеческий или звериный? Вот снова всплеск голоса, как стон – протяжный, безутешный.
– Может, человек тонет? – спросил Роман.
Оленич поднялся. Надо было идти в сторону зыбкой земли, и он сделал лишь два-три шага: костыли глубоко утопали.
– Жаль, что протез не надел, – промолвил он, останавливаясь и вытирая лицо.
Стон, похожий на человеческий, повторился еще несколько раз и начал стихать. Но Андрей и Роман продолжали приближаться к Лихим островам: парень выбирал более твердую почву, Оленич шел, напряженно соображая: ясно одно, что стон был человеческий, возможно, с кем-то произошла беда, но могло быть и что-либо иное…
– Прониха! Она идет сюда. Другой дороги нет. Такая страшная! – прошептал Роман, выглянув из-за кустов.
И невольно они притихли в ожидании Евдокии Сергеевны. Она появилась из-за куста тамариска – в помятой и испачканной одежде, с седыми растрепанными волосами и заплаканными, ничего не видящими глазами. Узловатые пальцы больших рук все время хватали блузу, словно добирались до сердца.
Оленич шагнул ей навстречу, старуха отшатнулась от неожиданности.
– Здравствуйте, Евдокия Сергеевна.
Опустила руки, глаза прояснились, ожили:
– А, это ты, солдат.
– Да вот забрели случайно сюда с Романом. Присели отдохнуть…
– Нашли место, – пробормотала она, опускаясь на траву возле ствола вербы. – Видишь, как получается: тебя не пустила на квартиру, а теперь вот самой бы найти местечко в твоей душе.
– И я собирался к вам зайти. Хотел после выходного, да вот случай: встретились здесь.
– Думала, что гневаешься на меня.
– За что?
– А тогда, когда вы от конторы все пошли к памятнику, а я прошла мимо и не поклонилась святому месту.
– Так оно и должно быть. Вы единственная знаете, что среди имен героев есть имя предателя.
– Ишь ты какой! А откуда тебе знать, кто там святой, кто грешный? Не всевышний, не провидец, – насупилась было старая женщина, но все же успокоилась, и уже ее лицо посветлело и ожило. – Что ты можешь знать обо мне?
– Признаться, очень мало. И вы извините меня, что до сих пор не побывал у вас, не поинтересовался, как живете, какие обиды носите в душе? Да и выяснить кое-что нужно… И рассказать кое о чем.
Пронова уже доверчиво смотрела на Оленича:
– Откуда ты взялся? Что ищешь? У меня такое чувство, вроде ты и меня хочешь обыскать и ощупать всю: чего я затаила в себе?
Андрей мягко улыбнулся, как может взрослый сын улыбнуться матери, когда она его хвалит, объяснил:
– Вы правильно сказали, Евдокия Сергеевна, – я солдат. И это самое главное. Тут и ответ на ваш вопрос. Я солдат и не могу мириться с несправедливостью. И еще знаю, что я нужен таким, как вы, – обиженным, неутешным, забытым.
– Разбередил ты мою душу… Пришла я сюда оплакать свою долю, оплакать мужа своего – Ивана Пронова, погибшего на этом месте… Люди идут на площади, а мне выпало плакать, как сове, на болотах. Вот она, правда, солдат.
– Это не вся правда, Евдокия Сергеевна. Правда будет тогда, когда имя Пронова появится на обелиске, а имя Крыжа исчезнет. Исчезнет навсегда, на веки вечные!
Пронова удивленно смотрела на Оленича, даже побледнела от неожиданности: она не предполагала, что он что-нибудь знает о ее брате.
– Ты намекаешь, чтобы я о нем рассказала? – покосилась она на Романа.
– О Феногене? – переспросил Андрей. – Нет, о Крыже я все знаю. В тысячу раз больше, чем вы знаете о нем. А вот мало мне известно про Ивана Пронова.
Некоторое время она молчала, часто вытирая платком лицо и особенно тщательно глаза, наконец ей удалось справиться со своими горькими воспоминаниями и со своими печальными переживаниями:
– Чувствую, что станет мне, наконец, легче на душе, если хоть раз за много лет скажу все до конца, ничего не утаивая и ничего не боясь… Ты не станешь меня подозревать в измене и предательстве. Так ведь? Признаюсь тебе, думала, что моя тайна и моя правда уйдут вместе со мной в могилу. Но если бы правда касалась только меня, если бы бесчестье упало лишь на меня, я не стала бы ненавидеть весь мир, но позор мог очернить моего мужа – красного командира, большевика! Я жизнь не задумываясь отдала бы, лишь бы память о нем была чистой и справедливой…
– Расскажите о нем.
И Оленич, наконец, услышал горький рассказ о трагической гибели офицера-разведчика, посланного на связь с партизанским отрядом и для проведения подрывной работы в тылу врага. Представлялся тот роковой для Проновых рассвет. Ночь была черная и холодная, как все ночи Евдокии с начала войны.








