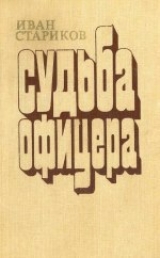
Текст книги "Судьба офицера. Трилогия"
Автор книги: Иван Стариков
Жанры:
Роман
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 28 страниц)
И руководство колхоза вместе с секретарем райкома пошло в контору. Толпа молчала. Оленич чувствовал себя виноватым перед теми, кого созвал, и перед теми, кто пришел посмотреть и послушать. Не сговариваясь, все молча пошли к обелиску. И только Пронова прошла мимо, не поднимая головы.
15
Это необычайное лето – солнечные, ясные дни, по утрам влажный морской ветер и степной сухой воздух, напоенный запахом трав и цветов, – казалось, никогда не кончится, и он, Андрей, с упоением наслаждался жизнью. «Тебе безумно повезло, капитан! – подбадривал себя Оленич. – Ты просто возрождаешься из пепла, как птица феникс!»
По давней армейской привычке утром он просыпался за несколько минут до шести. Быстро собирался и вместо зарядки спешил к морю, пока было мало людей. Но по утрам он долго не задерживался в воде – она была еще прохладной, и он побаивался, а вот по вечерам, когда вода за день нагревалась, он барахтался в ней подолгу и с наслаждением. Он загорел за эти месяцы, мышцы налились тугой силой, но силой иной, не похожей на ту, которая вливалась в его тело от укрепляющих таблеток а уколов, от усиленного питания. Это была сила самой природы, и он жил все время в предчувствии еще большего счастья.
Откуда– то послышались наигрыши гармошки… Кто это так рано? Он вспомнил, что надо отправлять ребят в армию. Первыми идут Генка Шевчик и Мирон Серобаба. Надо бы побывать у них на проводах. Одевался и обеспокоенно размышлял: еще только восемь часов, а уже песни и неуверенные переборы гармошки. Неужели сидят за столами?
По дороге к сельсовету в боковой улочке увидел празднично одетых людей, которые толпились возле двора Антона Серобабы, колхозного ветеринара. Двухрядка заливалась, выводила танцевальную мелодию, доносились возбужденные мужские и женские голоса. Посреди толпы образовался круг, в котором танцевало несколько молодых пар. Ворота были раскрыты настежь, во дворе стоял длинный, сбитый из досок стол, уставленный закусками и десятками бутылок и бутылей. Сидело человек пятьдесят – все пили, ели, громко разговаривали, а в конце стола – сам виновник торжества, Мирон. Вид у него был утомленный, все тянулись к нему стаканами, каждый старался наставить новобранца своим напутствием, и он кивал каждому и улыбался. А его отец, Антон Сергеевич, стоял на высоком пороге своего дома и следил за всем, что делается вокруг. Вот он увидел Оленича, заторопился ему навстречу, сияя от самодовольства и пошатываясь от выпитого:
– О, капитан! Проходи, будешь дорогим гостем.
– Свадьба? Или веселые поминки?
– Не обижай, капитан! Сам ведь знаешь: сына в армию провожаю. Ничего не жаль! Вот уже второй заход. Те, которые веселятся, уже были за столом… Может, удастся и третий раз садиться. Вот никак пятипудового поросенка не прикончим. Садись, капитан, помогай!
И Мирон, покинув гостей, подошел к Оленичу:
– Говорил я, что не надо бы этих проводов. Так отец и мать обижаются, говорят, что хочу их опозорить. Пожалуйста, не ругайте их! Посидите хоть пять минут, выпейте одну чарку.
– Нельзя мне, Мирон, – ответил парню Андрей. – Нельзя. Но я тебе желаю хорошей службы. Буду ждать от тебя вестей, благодарностей от командования. Служи!
– Постараюсь, капитан!
Он повернул было на улицу, где живет Шевчик, когда увидел, что навстречу ему идет толпа людей. Впереди Генка, рядом с ним Роман Пригожий, Тоня Магарова, а с другой стороны шел парень постарше, наверное, уже отслуживший свой срок, и нес графин с красным вином и всем встречным наливал по стакану. «И эти тоже пьют! – с горечью говорил себе Андрей и никак не мог примириться с тем, что он пока бессилен остановить это. – Ну почему, почему правление колхоза, исполком сельсовета, партийное бюро, наконец, не примут мер? Разве не понимают, что это ненормальное явление?»
А улица кипела. Людские голоса звенели над селом, и птицы в испуге улетали торопливо прочь. И здесь играла гармошка – Савву Затишного поддерживали под руки две молодухи, которые пытались подпевать, но у них плохо получалось – они сбивались, заливались смехом и снова пытались петь. Наконец высокий мужской голос крикнул:
– Ну-ка, девушки, давайте боевую, солдатскую! Когда нас на фронт провожали – больше плакали… А теперь пой! – На мгновение голос умолк, но потом снова прозвенел: – Подтягивайте! «Не плачь, девчонка, пройдут дожди, солдат вернется – ты только жди!»
Но вскоре призывники уехали. Народ постепенно стал расходиться, а Оленич стоял на крыльце, и невеселые раздумья омрачали его первую радость – радость отправки пополнения для армии.
С этого дня он решил встречаться с ребятами чаще, постараться еще до армии воспитать у них чувство собственного достоинства, чести, порядочности. Особенно нужно готовить хороших ребят к поступлению в военные училища: война не один раз доказывала – если в части хорошие офицеры, там меньше потерь, там меньше страдают солдаты. А современная армия, наверное, потребует не только высоких моральных качеств, но и огромных знаний. Надежды на то, что в этих благородных замыслах школа станет союзником, рассеялись после двух-трех встреч с Васько. Рассчитывать можно только на самих ребят: если пробудить в них интерес к военной службе, то можно достичь многого. Почему-то вспомнилась Тоня Магарова: жаль, что не мальчишка, вот был бы офицер! Девчонка, а волевая, смелая, принципиальная, и главное – уже мыслит самостоятельно. А пошла бы она на военную службу? Да, надо будет поинтересоваться у Ростовского: есть ли какие-нибудь военные училища для женщин?
Незаметно для него самого объем работы увеличивался, с каждым днем на него наваливались все новые и новые заботы. Однажды Андрей почувствовал, что не успевает делать то, что задумал раньше. Время шло, а он так и не поговорил с Проновой, с Латовым тоже еще не договорено до конца. Матрос хоть и притих после похода к конторе колхоза, но все равно пьет ежедневно. И у Потурнака-старшего не побывал, хоть намерение такое есть уже давно.
В один из августовских дней к нему в сельсовет пришел Добрыня с высоким, чернявым, аккуратно одетым, гладко причесанным, держащимся подчеркнуто официально мужчиной лет сорока. Добрыня объяснил, что бюро райкома приняло постановление о создании при Булатовском сельском Совете первичной парторганизации и что необходимо сегодня же провести организационное партийное собрание.
– Вас тут насчитывается пять членов партии – Пастушенко, фельдшерица Куница, председатель сельпо да еще шофер школы Лысков, – объяснил Добрыня Оленичу, не совсем понимающему, почему все это обращено к нему. – Да, вот у вас будет присутствовать представитель райкома партии.
Оленич смотрел на странного человека и недоумевал: почему он такой надутый, как индюк? Лицо словно маска, ни один мускул не дрогнет, даже глаза кажутся неживыми…
Партийное собрание было коротким. Только собрались все вызванные члены партии, Добрыня сразу объяснил причину и открыл собрание. Решение бюро райкома партии о создании первичной парторганизации при Булатовском сельском Совете уже было принято, и теперь осталось только провести организационное собрание. Значит, Магаров отгораживает сельсовет, а с ним и ветеранов войны, в том числе и инвалидов, от колхоза. «Но этот номер не пройдет! – подумал Оленич. – Ветераны войны и инвалиды – члены колхоза».
Но для Оленича было неожиданностью, когда Добрыня вдруг сказал:
– На секретаря первичной мы рекомендуем коммуниста Оленича. Стаж у него большой, опыт партийной работы имеет.
Андрей не стал отказываться: как бы это выглядело? То сам просил партийных поручений, а тут вдруг отказывается! Но и неожиданность эта ему не очень нравилась. Но еще больше его встревожило выступление инструктора райкома партии Блажкевича. Голос у него мягкий, вроде вкрадчивый, но в то же время сухой и бесцветный. В нем слышалось бесконечное равнодушие. А речь вся была пересыпана такими словами, точно он не выступает, а читает протокол:
– Поскольку я курирую партийную организацию колхоза «Верный путь», то буду опекать и сельсоветовскую первичную. В свете уставных требований и задач партийного строительства на данном историческом этапе необходимо поднять партийную работу среди сельского населения на новую ступень, доходить до каждого человека, но не забывать и про глобальные проблемы строительства развернутого социализма. Вы должны проводить свою работу, исходя из кардинальных задач, стоят: перед колхозом и сельсоветом. И на данном организационном этапе, который должен длиться оптимально краткий срок, секретаре парторганизации и коммунисты сельсовета должны достичь эффективности в идеологической и организаторской работе среди населения Булатовки.
Эта итоговая речь инструктора райкома партии просто вывела Оленича из себя: что же это такое?! Возможно ли, чтобы в современном райкоме партии работали такие чиновники? И тут же сам себя спросил: а может, «на гражданке» так и заведено говорить? Обо всем и ни о чем? Может, он, Оленич, привык к армейской краткости, точности и конкретности, и слышать такие пустозвонные речи ему в диковинку?
– Должен я признаться, что, может, вы ошиблись, избрав меня секретарем первичной, но все же постараюсь, чтобы парторганизация росла, стала помощницей сельскому Совету и депутатам. И чтобы каждый из нас лучше работал на своем месте. Вот и я постараюсь повысить к себе требования: навести порядок в военно-учетном столе, заниматься повышением мобилизационной готовности нашего села и колхоза, заниматься воспитанием молодежи, которой предстоит служба в армии.
После собрания и Добрыня, и Пастушенко, и Блажкевич поздравили Оленича и ушли в кабинет председателя, ушли и остальные члены партии, осталась только Софья Константиновна Куница, единственный медик на селе, сегодня избранная заместителем секретаря парторганизации. Она уже старенькая, и у нее пенсионный возраст. Но что ей делать на пенсии? И она продолжает работать. Вся она белая-белая, даже полное лицо кажется бескровным и стерильно чистым, и лишь на щеках чуть-чуть розовеют прожилки, как будто бы она никогда не видела солнца. Невысокая, располневшая, хотя и подвижная, она смотрела на него сердобольно и сочувственно.
– Рада с вами познакомиться, Андрей Петрович. Мы ведь соседи с вами – нас разделяет речушка. А почему вы ни разу не зашли в амбулаторию? Вам ничего не нужно?
Оленич смущенно и растроганно посмотрел на Куницу:
– Извините, мне бы, конечно, следовало в первую очередь к вам заглянуть. Но, видно, еще не припекло. Хотя я и под контролем военного госпиталя, но он далеко, а вы – рядышком. Значит, это ваш домик стоит на пригорке по ту сторону яра?
– Заметили мой теремок? – просияла старушка. – Вот и хорошо. Нам непременно надо поговорить!
И вдруг догадка! Словно ослепительная вспышка молнии осветила его разум:
– Есть еще одно, что я хотел бы выяснить. Может, вы хоть немного расскажете о смерти Чибисовых – Марии и дочери ее Оксаны?
Ласковое лицо Куницы посуровело, глаза погрустнели. Знала она и тяжко ей вспоминать об этом – догадался Андрей. Она вздохнула:
– Часто вспоминали их… Вот, понимаете, я много видела смертей, мученических, трагических. Много видела крови. Была не раз свидетельницей великого мужества людей. Но смерть Марии и Оксаны у меня всегда в памяти, всегда перед глазами. С этим трудно жить. Я думаю, что Федосу легче, нежели мне: он не видел, как они умирали, а я видела. Понимаете? После того рассвета я даже пыталась переехать на другую квартиру, – но было еще хуже. Почему? Да потому, что я здесь была рядом с ними и как будто бы переживала все вместе с ними, как бы облегчала их муки… Знаете, Андрей Петрович, есть что-то очистительное в том, что живешь рядом с тем местом, где погасли две светлые души. Вроде бы как вот стоишь перед Христовым распятием. Нет, нет, я не верующая, я самый что ни на есть безбожный коммунист! Но в каждом человеке есть, во всяком случае должно быть, что-то выше его забот, верований, чувствований, убеждений – нечто высокое и святое.
– Расскажите мне о том новогоднем рассвете.
– В двух словах не скажешь… Тут надо целую летопись составить. Дело в том, что Оксана и Боря были влюблены еще с юных лет. Я приехала сюда, их уже считали женихом и невестой. Когда я их увидела, то подумала: такие люди только в сказках да в романах бывают. Глаз не отвести! Оксана мне казалась царевной, какой свет не видел. Василиса Прекрасная! Сколько хлопцев приставало к ней, сколько драк было! Но при виде Бориса все отступали. Ни один не осмелился соперничать с ним. Парень был орлиной породы. И все его любили. Никогда никто не видел его злым, несправедливым, драчливым. Он просто был сильным – и физически, и духовно. И только один человек дерзнул пересилить Бориса: заготовитель кожсырья Крыж. Он появился в Булатовке за год до войны, сразу же, как говорится, положил глаз на Оксану, стал навязываться ей в ухажеры. Диковатый увалень, крупный телом, почти как Боря, заготовитель посматривал на всех снисходительно, чувствуя себя вольготно, словно все у него в долгу. Булатовцы были убеждены, что стукнутся лбами Борис и Феноген. Но Латова призвали служить на флот. Крыж продолжал появляться в селе, все настойчивей преследовал Оксану. Иногда он оставался и на ночь в Булатовке, засиживаясь на гулянках и вечерницах. Досыпать вваливался к Евдокии, сестре, но она убегала из дому и тайком приходила ко мне. Не любила брата, говорила, что он нехороший человек, член какой-то религиозной секты и чуть ли не главарь… Но призвали на службу и его. Началась война. Как Евдокия любила своего Ивана Пронова, как верила, что мы победим в начавшейся войне, как она работала в колхозе! Боже, она просто падала в борозде в прямом и в переносном смысле. И ждала, ждала своего красного командира…
Старая фельдшерица разволновалась, белые щеки на ее полном лице порозовели, а над седыми бровями высыпал бисер.
– В ночь под новый, сорок третий год забежала ко мне Оксана и принесла кувшин молока… Я ведь никакой живности никогда не держала. И еще поднесла десяток яичек и несколько пирожков с картошкой…
– Что она говорила? Говорила ли она о чем-нибудь?
– Ну а как же! Она вспоминала Бориса, вспоминала встречи с ним, жалела, что не сыграли свадьбу. Печалилась: хоть бы ребеночек был сейчас, мол, от него… Потом мечтала о том, как закончится война и как они с Борисом построят себе дом и разведут сад… Она ушла, а я долго не могла уснуть в ту ночь. Наконец задремала… Что-то встревожило меня, и я в страхе подскочила на рассвете. И тут же услышала тоскливое завывание собак, какие-то крики, грохот дверей и окон. Я хотела выглянуть в окно, но оно намерзло – покрылось толстым слоем льда и снега. Днем шел обильный снег, а ночью небо прояснилось, зато стоял звенящий мороз. Я оделась и вышла на крыльцо. Мне виден был двор Чибисов: там горел факел. Прозвучал выстрел, и Чибисов пес, заскулив, умолк. По двору сновали людские тени. В окнах дома загорелся свет. Но и свет мелькал, наверное, по комнате бегали люди мимо лампы. Я поняла, что там орудуют каратели. Я вся дрожала. Гитлеровцы вытолкали из хаты Марию Никитичну и Оксану, потащили ее за косы по снегу. Мария кричала, но Оксана тихо что-то говорила матери, наверное увещевала.
Мороз был такой, что казалось, воздух звенит. Голоса раздавались звонко, и слышен был каждый звук… Начало всходить солнце – огромное и красное. Оно осветило двор, и я увидела их – Марию Никитичну и Оксану. Девушка стояла босая в изодранной и окровавленной рубашке… На матери была юбка. Она кричала, плакала… И тогда я услышала мужской голос. Он был настолько знакомый, что я сразу и не могла вспомнить. Перебирала лихорадочно в памяти голоса булатовских мужиков, но, испуганная, потрясенная, не могла вспомнить. Подумала, что показалось. Но вот перед женщинами встал с автоматом сам Шварц. Я узнала его. Он резко и злобно говорил: «На колени, старая ведьма! На колени! Проси пощады!»
И вдруг мать начала опускаться в снег, и тогда Оксана подхватила ее под руки: «Мамочка, родненькая, – говорила она, – не надо… Прошу тебя, стань на ноги… Я не удержу тебя…»
Шварц выругался на них матерно и поднял автомат: «Подыхайте, черт с вами! Я свое взял».
Оксана успела закрыть ладонью глаза матери. Прогремела автоматная очередь, и обе – мать и дочь – повалились на снег возле подвала. Оксана, схватившись рукой за молодое дерево, попыталась подняться, но выстрелы свалили ее. Она упала, прикрыв собою мать.
Каратели покинули двор, загудела машина, и все стихло. Полуживая, еле сдерживая рыдания и чувствуя, как из последних сил колотится мое сердце, я спустилась с крыльца и бросилась по глубокому промерзлому снегу через яр, через поникший камыш, через Чибисов оледенелый и звенящий сад. Я бежала и надеялась, что в них теплится жизнь, что можно еще что-нибудь сделать. Я вошла во двор и сразу их увидела. Они лежали, их лица были обращены друг к другу, словно дочь что-то шептала матери в самое последнее мгновение… Они были убиты… Убиты! Вокруг снег уже был красным от крови.
Софья Константиновна вытащила из сумочки платочек и вытерла слезы, вздохнула, зажмурилась, и веки, почти прозрачные, с голубоватыми прожилками, трепетала словно лепестки увядающей розы. Казалось, что смерть коснулась ее лица.
Оленич не мог произнести ни слова. Он прилагал огромные усилия, чтобы не потерять самообладания, чтобы не дать проявиться своему недугу. Больше всего он боялся потерять власть над собой.
Наконец старая женщина, всхлипнув, успокоилась.
– Все это я рассказываю впервые. Никому не рассказывала, а вам – все, что видела и слышала, как на духу.
– И даже Федосу Ивановичу?
– А зачем ему такой страшный груз? Слава богу, живет, трудится, погибших помнит, горюет о них. А такую безмерную тяжесть свалить на него – для чего?
– Может быть, вы и правы, Софья Константиновна, может быть… Но вот мне же это нужно знать!
– Вы – военный, и для вас знать такое, словно получить новое оружие, а для Федоса – потерять последнюю опору.
– У меня есть еще одна задача, и тоже трудная, – сказал Андрей как-то нерешительно, словно сомневался, нужно ли спрашивать. – Вдруг поможете разгадать одну загадку? Относительно Рощук, учительницы. Ведь она здесь умерла? Таня любила моего друга, мы все думали, что сыграем свадьбу. И вдруг она ни с того ни с сего взяла и уехала.
– Нет здесь никакой загадки или тайны. По крайней мере для меня. Она очень любила вашего друга. Так любила, что боялась причинить ему малейшую боль…
– Но уехав, она принесла ему горе!
– Да, она это понимала. Но выбрала меньшее зло. Не хотела умирать на его глазах. Дело в том, что Таня знала о своей смертельной болезни. Знала, что скоро умрет. У нее была злокачественная опухоль… саркома. Это чудо, что она, родив Лялю, еще прожила несколько лет. Но никто не знает, какими были эти годы для нее!
– Бедная, бедная Таня! – тихо проговорил Оленич. – Всем нам она так нравилась! И что только мы после ее отъезда не думали! Пусть простит она всех нас…
Душевно угнетенный и как будто причастный к этим трагедиям вышел из сельсовета Андрей. Перед его глаза-Ми возникала страшная картина гибели двух женщин, нарисованная старой фельдшерицей. Он подумал: откуда у него чувство виновности? Да, конечно: это его промах! Он промахнулся в сорок втором, стреляя по изменнику и предателю, и вот они, плоды той оплошности! И враг до сих пор ходит по земле, а люди, оставшиеся в живых все еще плачут, вспоминая о страшных злодеяниях этого палача. И ему, Оленичу, приходится слушать душе. раздирающие рассказы о Крыже и ничего не предпринимать, чтобы найти, опознать и покарать. Надо немедленно ехать к Эдику! Где это? Погоди, погоди, да село Песчаное рядом с Чайковкой – они оба расположены на берегу Днепра…
16
Оленич сидел возле столика под абрикосом и чистил пуговицы на кителе. Вдруг зарычал Рекс: появился нежданный гость – Борис Латов. Он был чисто одет, матросская форма хорошо отутюжена, ботинки начищены, лицо – сильное, мускулистое и скуластое – чисто выбрито, глаза не такие дерзкие, как всегда, хотя настороженные и слегка бегающие. «Что это с ним? – подумал Оленич, лишь мельком взглянув на гостя. – Ага, голубчик! Не потерянный ты человек, пришел с повинной!» Вчера опять напился и дебоширил возле колхозного ларька. Причем так бесновался, что десяток мужиков ничего не могли с ним сделать. Они наседали на него роем, но он встряхивал могучими плечами, и они отлетали от него. И вдруг к нему подошла его дочка, Оксана, пятнадцатилетняя девочка, и попросила:
– Папа, пойдем домой. Мы с мамой ждем тебя, ждем…
И он сразу стих и пошел следом за дочкой.
– Капитан, явился я к тебе. Знаешь, зачем?
Оленич сделал вид, что ему это совсем не интересно, и продолжал суконкой начищать пуговицы на кителе, посматривая на них, подставляя лучам солнца, и казалось, сейчас для него не было дела важнее, чем блеск пуговиц. Однако сказал равнодушно:
– Коли объявился, скажешь сам, для чего.
– Хочу, чтобы ты и меня подраил, как пуговицы.
– Здесь тебе не быткомбинат и не химчистка. Поищи бюро добрых услуг в другом месте.
– Выслушай, я тебе серьезно. Напился я вчера…
– Что, рубль дать на похмелку?
– Не кусай. Помоги найти точку опоры.
– А где я тебе возьму эту точку? Она у каждого своя, браток. Если ты серьезно за этим пришел, то ищи в себе. Ты понял? Никто тебе взаймы точку опоры в жизни не даст: она каждому нужна, если кто, конечно, хочет жить по-человечески, а не по-скотски. Понял, братишка?
– Понял. Вот эти твои слова уже точка.
– Ну, так и бери… Только скажу я тебе: для настоящей жизни слов мало. Надо крепко стоять на земле. Крепко, чтобы никто не смог пошатнуть твою душу, твою совесть.
– Дай хоть один костыль.
– Не дам. Но есть у тебя один шанс. Он пока что твоя единственная точка опоры.
– Говори, что надо сделать?
– Ты сейчас пойдешь к Гавриле Федосовичу Чибису и попросишь его прийти сюда. И вы придете вместе, чтобы в селе видели Латова рядом с Гаврилой Чибисом. Понял?
– Это невозможно, капитан! У меня есть еще самолюбие…
– О, да! Этого добра у тебя, как навоза возле колхозного коровника. Вот только человеческого достоинства у тебя нет. А без этого – нет и не будет у тебя точки опоры.
– Мы с ним враги.
– Ты просто издеваешься над старым и больным человеком. Какой он тебе враг? Может, он получше тебя, Борис.
– Ненавижу тех, кто прислуживал фашистам.
– Кто тебе сказал, что он – прислужник фашистов?
– Он был в Германии…
– Как смеешь так о нем говорить? А знаешь ли ты, что настоящий фашистский прислужник расстрелял вот на этом месте Оксану? И на память об этом прихватил гребешок драгоценный. И ходит вон там, за огородами, и ухмыляется, как ты истязаешь ее брата. Так кто же ты, а, Борис Латов?
Борис подскочил со стула, просто взвился, как тигр в прыжке метнулся к Оленичу, но остановился, и его озлобленный голос прохрипел:
– Ты меня равняешь с гитлеровским палачом?! – Борис воздел кверху культи и сдавил ими голову. – Еще совсем недавно за такие слова ты дорого бы заплатил. Но теперь…
Оленич спокойно докончил:
– Теперь ты сам будешь платить.
Не знал Андрей, насколько пророческими окажутся эти его слова, протрезвившие Бориса. Матрос, склонив кудрявую голову к груди, молчал, и только вены на его открытом лбу напряглись: он думал, может быть, впер, вые над всем, что случилось в его жизни.
Поднял голову, посмотрел на капитана:
– Ты хоть понимаешь, чего требуешь от меня?
– Да. И ты это сделаешь.
– А если откажусь?
– Тогда я скажу тебе, в каком родстве ты состоишь с палачом Оксаны Чибис.
Латов заскрипел зубами. Его матросская неукротимость никак не могла угомониться, никак не хотела подчиниться необходимости выйти из привычного туманного состояния, подозрительности и озлобленности, с трудом постигала свою собственную несправедливость. Приложив руки к груди, он пошел по дорожке к воротам, остановился за калиткой, оглянулся на Оленича и решительно зашагал по улице.
Не один раз Оленич думал над судьбой Латова: в этом человеке сконцентрировалось так много того, что выпало на долю почти всех инвалидов Отечественной. Но еще хорошо, что в трудной жизни он удержался среди людей. И надо только благодарить всенародное великодушие и терпимость. И очень хотелось Андрею, чтобы просветлела душа и голова этого моряка, заплатившего высокую цену за победу над врагом. За минуты ожидания многое передумал Андрей – и о себе, и о Чибисах, и о Латове, и о Евдокии Проновой. У каждого человека своя трудная судьба, каждый пережил или переживает горькие дни, и все это было понятно Оленичу.
Латов отворил калитку и пропустил Гаврилу, словно гостя, хотя тот входил на отцовское подворье. Оленич поздоровался с Гаврилой Федосовичем, усадил обоих за столик и принес чайник:
– А давайте, братцы-фронтовики, попьем чаю. Как когда-то в передышках между боями…
– Фронтовики, да не все, – буркнул Борис и покосился на Чибиса.
Косой взгляд Бориса показался Оленичу мальчишеским, он засмеялся:
– Все фронтовики здесь, Борис, все! Где ты войну встретил, Гаврила?
– В первый день на западной границе.
– И сразу в плен попал?
– Нет, дошел до ровенских лесов. Там разрывная пуля остановила…
Оленич согласно кивал, потом спросил:
– Я слышал твою историю. Но вот не могу понять, как ваша рота держалась восемнадцать дней! Ведь у вас боеприпасы кончились уже на третий день окружения? Да ты покрепче наливай, пусть сегодня сердце хорошо поработает. Не бойся, от чая с ним ничего не сделается… Вы очутились в окружении, фронт откатился далеко на восток. Уже отгремели танковые сражения, немец пер на Киев… Я помню, ведь я тоже там воевал. Только я шел от Модрицкого леса через Дрогобыч, Самбор, и все время с боями, под бомбежками. А на вашем направлении еще труднее было.
– Нам помогали дремучие леса. Даже окруженные, мы для врага были опасны: стрелковая рота – не шутка. Мы нападали на отдельные подразделения, захватывали оружие, все время стараясь пробиться к фронту. Но нас оттесняли все глубже в тыл, сжимая кольцо. Каждый день отбиваться от преследователей мы оставляли двух добровольцев. Они были смертниками. Пришло время и мне остаться. Мне дали немецкий автомат, запас патронов и гранат. Нас было двое. Остатки роты ушли дальше, а мы сдерживали противника. Нам удавалось долго водить гитлеровцев по лесным дебрям. Потом погиб мой товарищ. Я остался один с единственной гранатой…
– Разрывной пулей тебя ранило в бок. Так? Но как же ты выжил? И как тебя не прикончили гитлеровцы?
– Так получилось, что я переменил перед этим позицию. Фрицы пошли дальше в поисках роты, а я остался в стороне, в высокой лесной траве. Меня нашел и приволок к себе лесник. Тот лесник был еще и коновалом. Ну, ветеринаром, словом… Он зашил мне бок, и несколько недель я валялся где-то на сеновале…
– Подними рубаху, – попросил Оленич.
– Да зачем это… Не надо!
– Подними, Гаврила Федосович! Некоторые считают, что они покалечены, что они пострадали, как никто другой. Ну!
И Чибис поднял рубаху. Весь правый бок был сплошным рубцом, словно сшит из десятков лоскутов. И выпирал большим сизым пузырем. Когда Гаврила вдыхал воздух, мешок еще больше вздувался, и видно было, как под тонкой кожей что-то колышется, переливается…
– Опусти рубаху, солдат. Опусти! На это невозможно смотреть. Рассказывай дальше, – негромко попросил Оленич, – как ты попал в немецкие «пуховые перины»…
Латов заерзал на стуле, чуть покраснел, но не отозвался ни словом.
– Полицаи дознались, что в лесном сеннике кто-то есть. Пришли, вытащили меня и отправили в лагерь. Я еще и ходить как следует не мог. В тот лагерь приезжали из Германии купцы. Они покупали рабочую силу для своих нужд. Рабов покупали. А в самой Германии перепродавали. Прихватили и меня туда. Выставили, как на базаре, даже бирку прицепили с надписью: «Двадцать марок». Но бауэр Ленц, покупавший меня, не давал двадцать. Тогда я, расстегнув вонючую шинелишку, поднял подол рубахи и, показав этот пузырь, говорю ему: одна эта шишка чего стоит! Бауэр размахнулся лозиной да как секанул по пузырю, я и свалился без памяти. Продали меня за десять марок. Да ведь и платить-то не за что было: на мне старая, вонючая шинелька, на босых ногах прикручены проволокой старые рваные калоши. Лицо у меня было черное, не бритое и не мытое. Привез меня Карл Ленц домой, его фрау вышла на ступеньки дома, глянула и всплеснула руками. Что-то спросила у мужа, тот что-то ответил ей и произнес мое имя – Гаврила. Фрау тут же повторила: «Горилла! Горилла!»
Так и осталось за мной: Горилла. Поместили меня в какой-то сарайчик возле коровника. Благо там были нары из досок, вроде полатей, старое тряпье. И стал я там жить. Хозяин объяснил мне, что я обязан смотреть за коровами, за четырьмя свиньями и парой лошадей. Фрау со мной не разговаривала, она возненавидела меня с той минуты, когда увидела. И делала все мне назло. Может, и погибели моей желала… У них в доме был огромный пес. Собака из дома выходила всегда вместе с хозяйкой. Фрау специально не кормила пса. Она первому подавала пищу мне. Приоткроет дверь, выставит оловянную миску с похлебкой и смотрит. Не успею я подойти, как выскакивал пес и съедал мой суп. А фрау хохочет. Так она приучила меня бороться за пищу. Подходил срок, и я стоял начеку, но и пес тут же крутился. Только отворялась дверь, только показывалась миска, я сразу выхватывал. Чуть зазеваюсь, пес уже вылизывает посудину и рычит на меня озлобленно. Такое унижение не придумывал нп один палач, я думаю… Но Карла призвали в армию. Пошел он на фронт, и мы остались втроем: я в сарайчике и фрау с псом – в доме. Хозяйство начало таять. Не стало свиней, потом коров, затем и лошадей. Одна лишь коровенка стояла в коровнике для пропитания фрау. Работы у меня почти не было, но и есть мне перестала давать хозяйка. Только раз в день, да и то собака успевала раньше очутиться возле миски… Фронт подходил все ближе, все чаще стали пролетать над нами самолеты, я начал примечать: сначала прилетали английские да американские, а потом стали появляться и наши. Да все чаще, да все больше. Бомбили наш городишко. Возликовал я. И однажды налетели американцы вместе с англичанами и разнесли в пух и прах большой город, что был невдалеке, а заодно пострадал и наш пригород. Только щепки полетели… Одна бомба ухнула прямо в дом. Кирпичи, стекло и тряпье разлетелись, как пух от дуновения. А я в своем сарайчике смеялся, и мой пузырь колыхался вовсю…
– Погоди, погоди, Гаврила Федосович! – остановил Чибиса Андрей. – Ты давай насчет перин, в которых ты выгревал свой бок.
Гаврила молчал, и только по худым щекам текли слезы.








