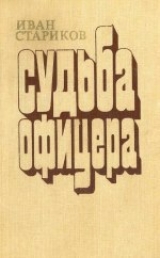
Текст книги "Судьба офицера. Трилогия"
Автор книги: Иван Стариков
Жанры:
Роман
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 28 страниц)
– Приду.
Возле госпиталя они расстались. Оленич долго смотрел мальчишке вслед и вдруг ощутил в себе потребность в этом маленьком человеке, в этой смятенной душе…
…Галя начала прощаться:
– Уже поздно, у нас еще самодеятельность. Я и так…
Вдруг дверь отворилась, и в палату вошла запыхавшаяся Мирослава:
– Галя, все тебя ждут. Меня послали… – И осеклась, увидев паренька, стоявшего между дверью и кроватью Андрея Петровича.
Галя хохотнула, заметив смущенный взгляд Мирославы, и тут же представила их друг другу:
– Славуня, познакомься: это Витя, сын Андрея Петровича.
Оленич заметил, как парень посмотрел на Мирославу заговорщицки-весело, потом приблизился к ней и, улыбаясь, протянул руку:
– Виктор.
Девушка подняла на него чуть-чуть удивленные глаза и подала свою руку, тихо прошептав:
– Чего ты? Мы ведь виделись на танцах… В парке. Два раза…
Вдруг лицо ее вспыхнуло, и она выбежала из палаты.
Галя озорно подмигнула Виктору, вышла следом за подругой.
Парень тоже стоял в полной растерянности, боясь посмотреть на Андрея Петровича.
– Витя, догони девочку. Что же ты? – спокойно произнес Оленич, словно не замечая его состояния. – Людмила Михайловна осмотрит меня.
Когда парень выбежал, Люда молча присела на стул возле кровати и привычным движением взяла руку Оленича за запястье.
– Сейчас начнет учащаться пульс, – с иронией произнес Андрей.
10
Внизу, в вестибюле, дежурила женщина лет пятидесяти, с проседью в темных волосах и с сострадательным взглядом небольших глаз. Она сидела в самодельном деревянном кресле и вышивала красным и черным манишку мужской сорочки. Когда вошел с улицы в вестибюль молодой, но большой и грузный человек, она внимательно посмотрела на него, словно хотела догадаться, кто он и что ему нужно. Вошедший держался свободно, будто в знакомой гостинице. В руках он держал довольно объемистый баул.
– Это здесь находятся инвалиды войны? – небрежным тоном спросил он.
Дежурная отложила вышивание и поднялась ему навстречу:
– Вам кто нужен? Начальника госпиталя сейчас нет.
– Я должен сфотографировать какого-то Оленича Андрея Петровича.
– Входить сюда без пропуска не разрешается.
– А где взять пропуск?
– Вот позвоните старшей медсестре. – Дежурная поставила на перила загородки телефонный аппарат.
– Как звонить?
– Поднимите трубку и попросите старшую медсестру. Только вряд ли вас пустят к капитану: он пока еще в плохом состоянии. У него недавно был сильнейший приступ. А все через того дезертира, который до этих дней сидел в яме под печкой. – И дежурная принялась рассказывать историю с письмом, из-за которого случился припадок. – Прилетал профессор из Ленинграда – еле-еле привели его в себя. И всякие встречи, волнения ему противопоказаны…
Людмила Михайловна в это время находилась в своем маленьком кабинетике, задумчивая и грустная: обследование Андрея просто повергало ее в ужас – так слаб его организм. Малейшее потрясение – и нервная система не выдержит. Обнадеживало только то, что Андрей все время бодрился, старался быть веселым, он даже к ней проявил неожиданное внимание, сказав, что если бы вместе с ней ехать, то он согласился бы в любое время и куда угодно. Он отлично понимал, что она единственная сопротивлялась его выписке из госпиталя, была убеждена, что ему рано отрываться от госпитальной койки, как бы ни велико было желание у всех отпустить его в здоровую, нормальную человеческую жизнь. И Гордей, и профессор Колокольников считали, что Андрей сможет мужественно вынести невзгоды и неудобства самостоятельной жизни – без нянек и санитаров, без ежедневного медосмотра и без готовой кухни, без постоянной тишины.
Телефонный звонок отвлек ее от раздумий. В первое мгновение она обрадовалась, что Андреем заинтересовался какой-то журнал, что его портрет может быть напечатан и о нем узнают тысячи людей. Наверное, это порадует и ободрит капитана, поможет ему быстрее стать на ноги.
Она спустилась на первый этаж: в вестибюле по паркету мимо домотканых дорожек тяжелыми шагами ходил мужчина лет двадцати двух, но он казался старше благодаря своему крупному телосложению, большой голове и высокому, выпуклому лбу, точно отлитому из гипса. Людмила Михайловна остановилась на последней ступеньке, и их взгляды встретились. Глаза незнакомца сперва показались неопределенного цвета и потухшими, но вот они ожили, вдруг цепко ощупали ее с ног до головы, удивленно остановились на ее лице, а потом широкое лицо начало расплываться в улыбке. Все было нормально, пока парень не осклабился. Но вот показались редкие зубы и все испортили: лицо сделалось приторно льстивым, неискренним.
Гость поправил галстук и, склонив голову, отчего упали прямыми прядями длинные влажные волосы, представился таким тоном, точно его знали и ждали здесь с нетерпением:
– Эдуард Придатько, фотохудожник журнала… Для вас – Эдик.
Криницкая хоть и не ощутила в себе симпатии к приезжему; но приняла его радушно и в душе надеялась, что этот человек принесет несколько хороших минут Андрею.
– Людмила Михайловна, старшая медицинская сестра. Мне доложили, что вы намерены сфотографировать одного из наших подопечных?
– Признаться, Людмила Михайловна, снимать больных людей – не мое амплуа. Я – эстет! Только прекрасное вдохновляет меня.
Вначале Людмила восприняла слова Придатько как проявление веселого нрава молодого человека, как способность шутить, но он смотрел на нее так пристально и так изучающе, что она невольно спросила:
– Почему вы так вглядываетесь в меня? Вроде прицеливаетесь. Что-нибудь не нравится?
– Вы, Людмила Михайловна, полное совершенство! И первый портрет – ваш.
– Думаю, это лишнее.
– Но ведь я поклоняюсь красоте! И если вы лишите меня удовольствия запечатлеть ваш образ, то вообще ничего не буду делать. Все остальное меня просто не интересует.
– Категорично как ультиматум! – Криницкая засмеялась и пошла наверх, пригласив жестом Эдика следовать за собой.
На втором этаже располагался довольно просторный зал ожидания. Туда и привела фотокорреспондента Криницкая. Они стояли посредине комнаты и молчали: Придатько рассматривал помещение, а она наблюдала за ним. На стенах висели две картины – зимний пейзаж и плотогоны на бурной, грозной реке. А в углу, недалеко от окна, приколот кнопками большой плакат с атомным грибом.
– Людмила Михайловна, прошу вас, станьте вот здесь, возле стены, лицом к окну. Нет, нет, не в профиль ко мне, а полуанфас… Имейте в виду, снимать буду на цветную пленку, поэтому будем тщательно выбирать освещение, позу, выражение лица, глаз, чтобы все со смыслом, со значением. Тут каждая деталь должна «стрелять». Вы понимаете меня?
Она сама дивилась себе, что так послушна, что так легко поддается нахрапистым командам фотографа, и все-таки делала то, что он требовал.
– Попробуйте глубже засунуть руки в карманы халата… О, хорошо, что халат так отлично выглажен, кажется, что он даже хрустит. Можете сделать глаза сердитыми? Попробуйте, пожалуйста. Разгневайтесь, что ли.
– А если не могу?
– Сможете! У вас такая красота, что выказывает сильную натуру: вы если любите, то до безрассудства, если ненавидите, то до смерти. Что, не так, скажете?
– Я сестра милосердия.
– Бросьте! Вы прикрываетесь белым халатом.
Криницкая вспыхнула: она действительно рассердилась на этого беспардонного молодого человека. Досадно было то, что в глубине души она почувствовала какую-то страшную правду о себе, которую никогда не допускала даже в мыслях, которой страшилась и которая была горька, даже спрятанная глубоко в недрах души. Жила только надеждой, а этот малознакомый человек врывается в госпитальную тишину ее души и разрушает надежду, отнимает иллюзию грядущих радостей.
– Как вы смеете! Занимайтесь своим делом и не лезьте в чужую душу!
– Наконец-то вам удалось то, что мне нужно. – Эдик словно не слушал ее гневных слов, даже, кажется, был от них в восторге. – Из вас вышла бы суперзвезда, попади вы в Голливуд.
Он разговаривал беззаботно, подходил, брал ее за плечи, поворачивал и так и сяк, он не обращал никакого внимания на ее сопротивление, словно она была просто манекеном, а не живым существом. Так долго готовился, а щелкнул затвором только один раз.
– Послушайте, Эдуард! Неужели вы не понимаете, что злоупотребляете моим терпением?
Он еще раз щелкнул затвором аппарата, улыбаясь довольно и снисходительно. Людмила не выдержала и выскочила из комнаты. «Но какой темперамент! Черт возьми, вот женщина!»
11
Андрей, как дисциплинированный военный человек, умевший и привыкший полностью подчинять себя правилам и условиям, начал готовиться к новому образу жизни. Это было для него трудно и сложно, как переквалифицироваться для службы в новом, незнакомом роде войск. Наверное, такое испытывал бы кавалерист вроде, скажем, Николая Кубанова, если бы его вдруг ссадили с коня и послали служить на подводную лодку, где ни простора, ни свиста ветра, ни лица врага, ни постоянного присутствия верного друга – коня.
Радуясь, что может думать о своей судьбе, встал с кровати, взял костыли, начал ходить по палате от окна к двери, от двери к окну. Но вскоре почувствовал слабость, началось головокружение, лицо покрыл пот. «Стоп! Отдых. Дышать очень трудно, и сильное сердцебиение… Позвать сестру? Стоит лишь нажать на кнопку, и сестра прибежит мгновенно, а потом запаникует, начнет искать старшую… Людмила разволнуется… Нет, не нужно. В селе кого звать на помощь? А волноваться и там придется не меньше, если не больше. Учись обходиться без милосердия».
Пришел Гордей. Только на первый взгляд начальник госпиталя всем кажется нелюдимым и неразговорчивым. Но за внешней отчужденностью скрывалась благородная душа, беспредельная любовь к своему делу, мудрое понимание людей, судьбы которых вверены ему. Благополучный, довольный своей судьбой человек – прост и понять его несложно, страдающий человек – это почти всегда неизвестный, непонятный и неудобный. Вот почему Гордею быть среди страдающих, до сих пор переносящих невзгоды войны и обреченных нести это бремя до последнего своего дыхания, казалось единственным смыслом жизни: он понимал их!
– У тебя усталый вид, словно ты теряешь последние силы. В чем дело? И пульс учащенный. Странно! – произнес озабоченно Гордей.
– Наверное, думаю о предстоящей жизни. Согласись, что это не простая штука, а?
– Во всяком случае, беззаботной жизни тебе не видать. Будешь отныне не только сам себе господин, но и сам себе слуга.
– Только что об этом размышлял.
– Но ты должен помнить, что после каждого провала в небытие тебе приходится много сил тратить на преодоление приступа болезни, и у тебя катастрофически быстро тают жизненные силы. И мне все труднее понимать, откуда ты черпаешь энергию? Знаю, что это, может, загадка твоей природы, а может, и твоя волевая энергия. Ты легко расстаешься с госпиталем? Или и здесь ты себя пересиливаешь, принуждаешь смириться с необходимостью?
– Видишь ли, Гордей… Все годы сознательной жизни я видел мир поверженный, объятый войною, переполненный людскими страданиями. И ясно, что хочется увидеть мир возрожденный, мирный… Ведь я его, по сути, и не знаю.
– А нет ли у тебя негативной самооценки? Чувства ущербности, неполноценности? С этим уходить отсюда нельзя, сам понимаешь, это для тебя ловушка.
– Ты сначала спросил, легко ли мне решиться покинуть госпиталь. Теперь спрашиваешь об ущербности, неполноценности… Я привык соразмерять себя со здоровыми людьми, но не могу соразмерять желаний с возможностями. Приходится многое подавлять в себе. И я мерзко чувствую себя, словно обманываю тебя и Люду… Неужели тебе невдомек, что именно это чувство и гонит меня отсюда? Может, это выход для всех нас…
Гордей от неожиданности даже привстал, потом снова сел на стул и тут же поднялся:
– Не понимаю. Почему я не задумывался раньше над этим? Наверное потому, что я привык к тебе и не замечаю твоей инвалидности. И Людмила не замечает.
– А может, вы с Людой снисходительны ко мне?
– Не веришь в нашу искренность? Зря хочешь нас обидеть или оскорбить. Но я могу понять тебя и твое самочувствие. И Люда понимает, и относится к тебе более ревностно, чем даже ко мне. И если хочешь, то мы с нею почти ничем не отличаемся от вас, приписанных к госпиталю на время излечения.
– На всю жизнь.
– Мы тоже здесь – навсегда. И если ты думаешь, что моя теперешняя жизнь приносит мне удовольствие, то ты жестоко ошибаешься. Я чрезвычайно устаю – и от общения с вами, и от своего одиночества. Устаю физически и душевно. И я все время нахожусь на войне. Все эти годы, дни и ночи, – как на передовой, в полевом медсанбате. И с каждым из вас бросаюсь в атаку. И вместе с Ладыжцем кричу: «Ребята, не стреляйте! Там же наши дети!» И с Георгием Джакия иду на таран и пробиваю машину гитлеровского стервятника. И вместе с лейтенантом Негородним подрываюсь на мине. И меня вместе с комиссаром Белояром каратели распинают на старой вербе… Чем, чем я отличаюсь от вас?! И у меня все болит внутри от ваших болей. Ты думаешь, сплю спокойно и вижу сны, когда ты проваливаешься в беспамятство и я не знаю, выйдешь ли ты из него или останешься во тьме, в бездне.
– Да, Гордей, ты – один из нас. Но есть одно, что отличает тебя от меня: ты из тех мужчин, которые только сами могут быть виновными в своем одиночестве. А у меня как раз наоборот: я не могу стать необходимым человеком в чьей-то судьбе, а только обузой. Вот сказал Колокольников, что моя болезнь и на него надела кандалы и вроде бы сковала нас с ним одной цепью. Но я не хочу быть подобными кандалами для женщины, даже если она и смогла бы полюбить меня…
– Ну, вот видишь, из-за пустяка у тебя чуть ли не истерика. А ведь мы с Колокольниковым и хотим, чтобы ты влюбился, как все нормальные люди!
На пороге комнаты стояла Людмила: лицо ее пылало, она смотрела на брата изумленно и потрясение:
– Прекрати! – вскрикнула она, точно моля о пощаде, инстинктивно сообразив, что Гордей говорит Андрею очень неприятные вещи, которые задевают ее женскую судьбу. – Гордей, опомнись! Ты с ума сошел! Андрей лучше нас понимает и о себе, и о нас. Что с тобой? Ты ведь никогда не вмешивался в судьбы других людей! Или ты думаешь, Андрей настолько немощен, что ему необходимо твое вмешательство?
– А ты-то чего сорвалась? – огрызнулся Гордей, остывая и приходя в себя. – Ты подслушивала?
– Нет, не подслушивала, а входя сюда, услышала, как ты собираешься обсуждать личные, интимные проблемы Андрея.
Андрей, опустившись на краешек кровати, удивленно смотрел на Людмилу: такой разъяренной, да еще на родного брата, которого всегда боготворила, видел впервые. Никогда она не теряла самообладания, не давала волю своим чувствам: сколько же страсти таится в этой женщине, занявшей такое место в его жизни и в его душе! Такие натуры способны больше других любить и ненавидеть, радоваться и печалиться, быть счастливыми сильнее окружающих и неизмеримо глубже страдать.
И вдруг в глазах Людмилы выступили слезы: это Андрей видел впервые! Он даже воскликнул:
– Люда, прости!
Но она перебила:
– Молчи! Гордей замолчал и прекрасно сделал. Молчи и ты. Мучители! За что я вас люблю? Отчего вы такие жестокие к самим себе? Хоть и ты, Гордей… Как живешь? Словно монах. И мне подаешь пример: ты можешь, значит, и я должна! И я слепо верю в тебя и следую за тобой. А ты, Андрей? Куда ты рвешься? За какой синей птицей стремишься? Что тебе делать там, в селе? Неужели ты думаешь, что сможешь затеряться среди тех людей, как равный? Ты – военный человек, и тебе придется отрекаться от многих своих убеждений, может быть, даже от себя самого. Разве тебе плохо с нами? Мы живем одной семьей, отношения у нас почти идеальные – жить бы да радоваться! Пет, ты срываешься… А ты, Гордей, еще и подталкиваешь его, будто хочется тебе, чтобы он полетел с кручи. Опомнитесь!
И все, что она говорила, казалось правдой, и эту правду они, Андрей и Гордей, давно знали, но помалкивали, подразумевая, что знает эту суровую реальность лишь он один, а другому и невдомек. Гордей, как старший, понял свою ответственность за близких ему людей, нежно, одной рукой, обняв сестру за плечи, а другой притянув к себе голову Андрея, расчувствовался:
– Дорогие мои, что это с нами вдруг произошло? Словно камни, сорвавшиеся с вершины горы, понеслись вниз, набирая скорость и рискуя столкнуться на ухабистом пути. Мы ведь такие родные и так необходимы друг другу…
– А беречь своих близких не умеем, – тихо добавила Люда. – Вот и я, грешная, так вас люблю, что не мыслю жизни без вас. Тебя, Гордей, считаю образцом и восхищаюсь тобой, Андрей. Восхищаюсь с того самого первого дня, когда поступил к нам. И все-таки больше думаю о себе. А это так нехорошо! Нет, пока думаешь о себе, – хорошо, приятно, даже сознаешь и свою молодость, и красоту, умение облегчить страдания людям. И даже иногда не только гордишься этим, но и вроде бы ждешь вознаграждения за то, что такая хорошая. Но как только угаснет вспышка самолюбования, так становится гадко на душе, делается стыдно, что не люди мной восхищаются, а я сама собой. Противно, и тогда начинаю злиться на себя да и на весь мир, вроде он виноват, что я такая. Это как опьянение алкоголем: пока пьешь – хорошо, а на похмелье – омерзительно…
Андрею стало жаль Людмилу, может быть потому, что ей пришлось вот так открыться перед ними, но он и удивился, что столько в ней не узнанного им.
– Виноват, Людочка! И не обижайся. Я до сих пор думал, что ты невозмутима и холодна, как шприц, – пошутил Андрей.
А Гордей добавил в тон Андрею:
– Возможно, ей, как старшей медицинской сестре, было бы лучше иметь такие качества, какие ты предполагал в ней.
Люда смущенно усмехнулась:
– А ну вас! Вы все можете свести на нет. Я для вас ничего не значу… Ну, погодите, я проучу вас! В холле сидит гость, кажется, новоявленный мой поклонник. С ходу сыплет комплименты. Правда, приехал он из Киева к тебе, Андрей. Из какого-то журнала, портрет твой делать.
– Не смеши. Кого могут интересовать отбросы войны?
12
И хотя старшая медсестра ушла рассерженная, Эдик был твердо убежден, что ничего особенного в разговоре с ней он не позволил, более того, считал, что говорил правильные слова, самые что ни на есть реалистические. Правда, он допустил нетактичность по отношению к калекам – обитателям этого заведения. Но что поделаешь, если не испытываешь «эстетического наслаждения» при виде калек и больных, немощных и нищих. Им так назначено судьбой, и нечего распускать нюни! Конечно, он знал и понимал, что в обществе, в котором он вырос и живет и которому служит, принято уважать старых людей, инвалидов войны в особенности. Но общение с отцом, глубоко презиравшим все, что осталось после войны неубитым, несожженным, неразрушенным, повлияло и на понятия Эдика о ценностях жизни. Нет, он не принял морали отца, не разделял его враждебность к окружающему миру, но и не благоговел перед тем, что общество учило уважать и почитать: он стоял как бы в стороне, словно все было чужим и чуждым. Для него Рената и ее окружение – самая современная и самая передовая молодежь, он исповедовал ее мораль; ему странно было встретить молодую женщину, которую покоробили и обидели даже самые малые его откровения. Эдик решил немного сдержать пошловатость, но в то же время никак не мог поверить, что Людмила Криницкая столь чистая и не развращенная женщина. И самое благоразумное – относиться к ней поосторожнее и сдержаннее, если хочешь завоевать ее внимание и возбудить в ней интерес к своей персоне.
Минуло около получаса, когда санитарка попросила его идти следом за нею: она проведет его в четырнадцатую палату.
– Будьте осторожны, не раздражайте больного: он еще не совсем пришел в себя после длительного забытья. И постарайтесь побыстрее, – говорила на ходу пожилая женщина, поглядывая снизу вверх в лицо Придатько.
Эдик слушал и соображал: значит, дела у этого Оленича – швах, по-видимому, он дышит на ладан. И напрасно отец так разволновался, услышав, что Оленич жив. Но для полного спокойствия отца-покровителя дознаться бы: может, и вправду отшибло память у капитана? Санитарка говорит, что длительное время больной находился в забытьи. Может, и не вернулась к ному память? Это надо рассказать отцу.
В волнении остановился Эдик перед четырнадцатой, теперь уже двойной интерес занимал его: фотография для Кубанова и весть о беспамятстве Оленича – для отца. Кто он такой, этот капитан? Какой он? Может, от него уже ничего не добьешься да и снимок хороший не сделаешь? И открыл дверь: надо делать дело.
Эдуард готовился увидеть калеку, но то, что предстало перед его скептически прищуренными глазами, было во много раз хуже, чем он ожидал. На узкой железной кровати полусидел, полулежал под серым армейским одеялом истощенный, с землистым лицом человек. Мертвенно белый с залысинами лоб, гладко зачесанные назад и тускло поблескивающие волосы, точно у покойника, костлявые, выпирающие под белой тонкой сорочкой плечи – все поражало предельной немощью. И только серые, с голубоватым отсветом глаза живо смотрели на вошедшего, но как-то вскользь. Эдику на миг показалось, что больной смотрит не на него, а на кого-то третьего, что стоит за спиной, и оглянулся.
– Мы здесь вдвоем, – проговорил весело Оленич, – нас никто не подслушивает.
– Вы – Оленич? – Эдик с откровенным разочарованием смотрел на Андрея и впервые, наверное, за несколько лет работы с фотоаппаратом не нашелся, что сказать своему клиенту.
Помог сам капитан:
– С чего начнем? У вас, молодой человек, есть ко мне вопросы? Или без всяких разговоров – щелк затвором и – айда? Может, скажете, откуда вы приехали, зачем понадобился мой портрет? Надеюсь, не для некролога? Так обо мне в печати не станут сообщать.
«Он еще шутит! – подумал Придатько. – Ну, как его снять, чтобы можно было поместить в журнале? А ведь шел разговор даже о цветной фотографии – то ли вклейку, то ли на обложку. Ерунда! Тут хоть бы черно-белый снимок сделать пристойно…»
– Капитан, можно откровенно?
– Шпарьте.
– Мне сказали, что вас нельзя тревожить, что с вами может повториться приступ. Это серьезно?
– А что меня может потревожить?
– Как – что? Ну, вот мой визит… Разные кошмары, воспоминания…
– Воспоминания? Война? Разве осталось что-нибудь неожиданное для меня? Такое, о чем страшно вспоминать? А ваше появление – это еще не землетрясение. Не знаю, чем вы можете потревожить.
– Я, конечно, не о вашем прошлом, а о настоящем. Вот мне дали задание сделать для журнала ваш портрет, как героя Отечественной войны. У вас есть награды?
– Конечно, есть. Но не стоит их показывать. Не они главное, а человек. Не так ли?
– Да, но все же медали как-то украшают. Вроде орнамента. Подчеркивают личность. А так… Ну что, извините, увидит читатель на вашем портрете? Худое, изможденное лицо? Не воин, а освобожденный из Освенцима…
Эдуард произнес эти слова и осекся, взглядывая на капитана – не рассердится? Еще прогнать может. «Черт бы побрал, никак не могу сдержаться! Да если Кубанов узнает, мне несдобровать. Поостеречься бы…»
– Не советовал бы делать мой портрет.
– Правда? – даже обрадовался Эдуард, услышав слова Оленича, но не поняв их насмешливости.
– Конечно! Изможденное лицо просто не к лицу вашему журналу.
– О, как хорошо вы сказали! Вы поймите меня правильно: я искатель прекрасного. Стараюсь снимать только то, что радует глаз, что вдохновляет, что пробуждает в нас мечту. Какая сейчас установка даже для нашего брата-фотокорреспондента? В нашем современном обществе, у народа-победителя, ничего не должно быть серого, безликого, пессимистического. Даешь красоту и всеобщее удовлетворение! Воспитывает только прекрасное. Даже малое делать великим. Крупным планом показывать эпохальные события, перспективу поисков, открытия мирового значения. Мы – первые, мы – лучшие, мы – самые-самые… Так меня учат.
– Кто учит?
– Рынок.
– Базар?
– Нет, рынок. Запросы общества, заказ времени.
– Вот теперь ясно. Выходит, что мы, находящиеся здесь, в этом учреждении, не ходовой товар?
– Да, это так. Вы уже ушли. Когда-то вы были на переднем плане…
– На передовой линии?
– Ну да, а теперь это прошлое. Вы – пропавшие без вести.
Андрей никак не мог составить мнения об этом молодом фотокорреспонденте: кто же он на самом деле? Шутник? Не похоже. Подонок? Но почему так откровенен? Оригинальничает нигилизмом. С чего бы? И перед кем? Оленич не мог даже предположить, что Эдик испытывает его на крепость и стойкость, сознательно хочет найти наиболее уязвимое место в психике больного.
Разговор разговором, но Эдуард не забывал и о задании. Он приноравливался и так и сяк, щелкая аппаратом, и его деловитость и сосредоточенность никак не вязались с развязностью и беспардонностью. Неужели те, кто посылал его сюда, не понимали, что тут не Дом киноактера, а госпиталь инвалидов войны?
– Наконец-то, кажется, что-то получилось. Светлый лоб и живые глаза, приближенные к объективу, выступят вперед: напряженная мысль сурового времени.
– Кончайте, – резко произнес Оленич. – Вы меня здорово просветили!
– Не рассчитал, – пробормотал Эдуард. – Я оживлял лицо, вызывал свет в глазах…
– Так это в интересах дела?
– Я все делаю в своих интересах.
Казалось, что уже стало все понятно: фотограф делает свое дело, не считаясь ни с чем, сам создает настроение своего будущего снимка. Это было бы оправданием Дерзкого поведения, словесных грубостей, пристрастием к объективу, но последней фразой он все спутал и усложнил: Эдуард не повторил, что ведет себя так во имя дела, а сказал, что все делает в своих интересах. Порасспросить бы, от какого журнала, кто его посылал сюда, для чего потребовался этот снимок? Но уже разговаривать не хотелось, да и прежде всего необходимо подумать. Что-то насторожило Андрея, а что, он не мог пока понять: вроде давнее и знакомое мелькнуло в облике этого парня.
«Откуда же он взялся, этот Эдуард Придатько, фотокорреспондент?» – думал Андрей, следя, как парень укладывает свою аппаратуру.
– Послушайте, товарищ корреспондент, вы в армии служили?
Эдик выпрямился, хотел что-то сказать, но вошла Людмила, и он осклабился:
– Вот моя армия и моя служба, – проговорил он, с улыбкой кивнув в сторону Криницкой. – Я ей служу: женщине, красоте, любви!
Нахмурясь, Люда сказала Оленичу:
– Это моя ошибка, Андрей, что пустила его сюда. Гордей возражал.
– Ну, люди! – воскликнул Эдуард. – Не от мира сего вы все здесь! Я не прощаюсь. Пойду в городскую фотографию, проявлю пленки, посмотрю: возможно, придется переснять. До встречи!
Он вышел.
– А ведь мне доведется с такими встречаться там, в будущей моей жизни. Они, эти молодые, наверное, хотят отмежеваться от нас, хотят жить по-своему, не так, как мы жили. И с этим придется считаться.
– Думаешь, что их много? Да это один выискался из шайки хулиганствующих…
– Не-ет, Люда! Хулиган Богдан Дудик, мой Витя был в его шайке, но ведь Витя не циник, не грубиян, не отрицатель всего сущего. Тут что-то иное, и пока я не могу разобраться, что за человек этот Эдуард Придатько? Но он что-то исповедует. А знаешь, мне кажется, я видел когда-то это лицо…
13
В лаборатории местного фотоателье Эдик обработал пленки и остался доволен: даже больной капитан получился на снимке каким-то трагически глубокомысленным, словно сосредоточил свой разум на решении проблемы жизни и смерти, и глаза у него получились апостольски чистыми и страдальчески мудрыми, точно он пытался заглянуть в свое великомученическое существо. Просто Гамлет! Ну а Криницкая вышла эффектно: на фоне зловещего атомного гриба она казалась воплощением не только всего прекрасного, что может быть в женщине, но и утверждающим, созидающим началом двух сил: добра и зла, гармонии и хаоса, мира и антимира. В журнал на страницу с материалом борьбы за мир это блестящий снимок, но внутренне Эдуард все же не был удовлетворен своей находкой с атомным грибом. Враждебный образ смерти был более впечатляющим и невольно подавлял. Как отец…
Эдик даже рассмеялся, сравнив отца с той губительной силой, которая притягивает к себе. «Конечно, мой родитель не атомный гриб, но что удав – так это точно. Не очень бы хотелось стать перед ним кроликом или лягушкой!»
Задумавшись над своим положением, он не то что испугался, а почувствовал неуютность, словно кто-то в его теплой квартире в зимнюю стужу повыбивал стекла в окнах. В гостиницу Эдик не пошел – не хотелось встречаться с отцом. Понимал, конечно, что рано или поздно все равно придется идти и доложить все о госпитале и о капитане Олениче. Долго бродил улицами красивого прикарпатского городка, который напоминал открытки швейцарских курортов в предгорьях Альп. Незаметно вышел на окраину и увидел реку. Повеяло чем-то родным, но бесконечно далеким, как смутное воспоминание. Наверное, это дохнуло на него детство, днепровские затоны, крики куликов в зарослях камыша, солнечная духота на виноградниках и прохлада криницы под плакучими ивами возле крутого бережка. Был он тогда вольным как ветер и смелым как волчонок, но был и чистым, не злым. И почувствовал жалость к себе, что уже никогда не сможет быть таким…
Солнце склонялось к вершинам Карпат, и тени стали быстро удлиняться. Жара спадала, но ход воды, ее журчание и сверкание притягивали и манили. Эдик осмотрелся – вокруг ни души. Зачарованно стояли поникшие, еще не отошедшие от зноя, такие же вербы, как на берегу Днепра. Пробежался по гальке, устилавшей пологий бережок, почти на ходу сбросил одежду и кинулся в воду: она оказалась почти ледяной. Как ошпаренный вынырнул, но широкий разлив быстро бегущей серебрящейся воды подмял его, и Эдуард, превозмогая непривычный холод, снова нырнул и поплыл, подчиняясь течению. Приятно было чувствовать свое тело легким и послушным воде, и он отдавался стремительному течению, словно подхватила шальная судьба, устремляясь к неизвестности. Вдруг подумал: а придется ведь и назад возвращаться. Бежать по гальке, по голышам? Босиком? Неужели он не сможет преодолеть это течение? И тут же заставил себя повернуться всем своим сильным, мускулистым телом навстречу могучему течению. Вымахивая руками, чувствуя учащенное биение сердца, он начал одолевать сопротивление воды. Она забивала ему рот, она туго била в виски, но сила человека – упрямее и мощнее. Эдик радовался, видя, как приближается то место, откуда течение понесло его. Он возвратился довольный и гордый, словно победил коварного и могучего врага.
Возвращался в центр города в сумерках. Проходя по темным аллеям парка, он услышал сначала возбужденные голоса, потом визг и плач женщины. Через несколько шагов увидел возле цветочной клумбы, что парень бьет девушку. Эдик кинулся к нему, схватил сзади за локти.








