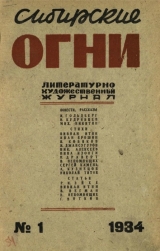
Текст книги "Жизнь начинается сегодня"
Автор книги: Иссак Гольдберг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
Зинаида рывком сбросила с себя одеяло и села. Обнаженное плечо ее розовато сверкнуло при свете керосиновой лампы.
– Дураки болтают! – гневно посмотрела она на мать. – Дураки болтают, а ты слушаешь!
– А как же не слушать, коли люди говорят. На чужой роток, как говорится, не накинешь платок. Я мать. Мне разве сладко это слушать. И еще про Миколая Петровича, про тракториста...
– Ну, ладно! – совсем рассердилась Зинаида и, отвернувшись от матери, стала плотно закутываться в одеяло. – Ладно! Мне спать нужно, а ты со всякой всячиной лезешь.
Мать поднялась и отошла от Зинаиды, огорченно и тоскливо проговорив:
– Вот, видать, правда-то колет тебе глаза... Осподи! что же это такое будет?!
Зинаида притворилась спящей и молчала.
6.
Зинаидина жизнь дошла в эту дружную весну до какого-то поворота. Текла она легко и молодо, и был день полон легкими и веселыми заботами, и были ночи насыщены здоровым и крепким сном, сладко тревожимым незапоминающимися на утро сновидениями. Были сверстники и подруги, с которыми привычно и незаметно протекали весны, опаляющие страдные дни и тихие, белые и вьюжные зимы. С ними день был похож на вчерашний, и можно было, зажмурив вечером глаза, ясно-ясно представить себе завтрашнее утро.
Но ровное и легкое течение зинаидиных дней натолкнулось на новое и, как ей казалось, неожиданное. На узенькой тропочке ее восемнадцати лет встал и заставил ее остановиться и задуматься другой человек.
Заглядывались на Зинаиду многие. Она не была хуже других девушек. У нее задорно поблескивали глаза. Одуряющая свежесть лежала на ее щеках. Возле маленьких, с полупрозрачными раковинами ушей вились, выбиваясь из-под красной косыночки, темнорусые завитки. Ее голос был упруг и певуч. Ее песни были пронизаны теплотою и радостной бездумностью. И смеялась она заразительно, свежо и лукаво. На нее нельзя было не заглядеться. И понятно, что тракторист Николай Петрович, пришлый городской человек, отметил ее сразу. И сразу же попытался стать к ней и с ней поближе. Он в первые встречи с ней повел себя немного вольно, непривычно для Зинаиды. Схватил ее за руку, потянул к себе, обливая задором поблескивающих, смеющихся глаз. Украдкой потрепал по спине. Но Зинаида упруго выскользнула, нахмурила брови и взглянула исподлобья:
– Не балуй! Постыдился бы! А еще городской!
И он вспыхнул, почувствовал легкий стыд. А потом повел себя осторожнее и обдуманней.
Встречи их были редки. На весенние деревенские молодежные гульбища после работы на полянку Николай Петрович выходил редко, а где же в ином месте в крестьянском обиходе могли встречаться молодые парни и девушки? На работе было недосужно переглядываться да перекидываться словами с Зинаидой. Только на редких комсомольских собраниях и удавалось, подсев к Зинаиде, сказать ей пару слов. И то украдкой, потому что организация была малочисленная, и на собрания приходило семь-восемь человек, не больше. И все там было на виду, под перестрелкой молодых, все примечающих глаз. В редкие встречи Николай Петрович, расценив Зинаиду по ее отпору по-иному, по-новому, успевал перекинуться с нею только незначительными и сдержанными словами, старясь вложить в простой и несложный смысл этих слов какую-то мягкую и волнующую задушевность.
Зинаида с девичьим лукавством подметила сразу настроение тракториста. Она безошибочно поняла, что нравится ему, и с грубоватым кокетством делала вид, что ничего не замечает, ни о чем не догадывается. А сама впитывала в себя каждое слово, каждое движение Николая Петровича.
Однажды он сумел подкараулить ее за гумнами, когда никого вокруг не было. Обрадованно подошел он к ней, оглянулся и, усмехаясь немного виновато и неловко, сказал:
– Я тебя, Медведева, все время ловлю...
– Меня что ловить? – настороженно возразила Зинаида. – Я не зверь какой.
В глазах у нее быстролетно сверкнули искорки сдержанного, потаенного смеха.
– Да вот поговорить охота, а всегда кругом чужие. Мешают.
– Об чем говорить-то? – опустила глаза Зинаида и оглянулась вокруг.
Было это в самые первые дни весенних предчувствий. Земля еще не успела по-настоящему прогреться и отойти после тяжелых, сковывавших ее стуж. Воздух был зыбок и непрозрачен. Сухая прошлогодняя трава жестко и ломко шуршала под острым ветром. И только солнце было новое, не зимнее. Солнце горело над пустыми полями ярче и теплее, ярче, чем, вчера, чем недели назад. От этого солнца шло тепло и к Зинаиде, и к Николаю Петровичу. У Зинаиды от солнца (от солнца ли?) окрасились нежно и розово щеки. А глаза у тракториста сияли глубже и яснее.
– Да кой о чем есть... – неопределенно ответил Николай Петрович. – Хочу, например, хорошее знакомство с тобою вести... Без каких-нибудь глупостей или чего-нибудь другого. А по-настоящему, по-хорошему.
– Девушек у нас много в деревне, – подняла на него на мгновенье глаза Зинаида, но тотчас же скрыла их под тенью затрепетавших ресниц. – Почто с другой какой не поведешь знакомства? Неужто я одна?
– Ты мне более других нравишься, – широко усмехнулся тракторист. – До других мне никаких делов нет.
– Нравлюсь? – Зинаидины глаза вновь устремились на Николая Петровича, взгляд ее задержался на его лице подолее, смелее и открытей.
– Не веришь? А я, честное слово, правду тебе говорю!
– Насмехаешься... Вы, городские, всегда так... Ловите.
Николай Петрович вслушивался в слова девушки и не мог толком понять – смеется она над ним или, вправду, не верит и защищается от него: говорила она обычные девичьи слова, какие говорятся в таких случаях, но голос ее при этом звучал скрытым лукавством, затаенной веселой насмешкой.
– Ишь, какая ты, – тряхнул он головою.
– Какая? Мясная да костяная! – засмеялась Зинаида и решительно повернулась, чтобы уйти.
– И почему ты бежишь-то? – огорчился Николай Петрович, не успев решить еще – смеется ли она или нет. Зинаида через плечо кинула:
– По делу иду. Да и не хорошо: увидят нас с тобою здесь, языками трепать зачнут.
– А-а! – протянул тракторист и, повеселев, тряхнул головою: – Ну, в другой раз!
Эта встреча, и которой сказано было ими друг другу так мало, все-таки как-то определила их отношения. Николай Петрович почувствовал ясное и свежее лукавство Зинаиды, почувствовал сквозь сдержанность ее прорвавшиеся неуловимо, но крепко черточки приязни к нему и налился еще большей нежностью и влечением к девушке. Зинаида же с этого дня начала неомрачимо и легко думать о трактористе.
И потому что это была еще первая весна, первая заря ее любви, мечты ее о нем были светлы, радостны и немного смешливы.
Первое омрачение этих дум о человеке, который еще непонятно и неосознанно для нее самой стал близким, пришло к Зинаиде от опасливого и плаксивого замечания матери, от ее намеков на толки и сплетни. И первое омрачение, навеянное материнской тревогой, всколыхнув Зинаиду незаслуженной обидою, резче и обостренней выявило для девушки ту цену, то значение, которое приобрел в ее жизни, в ее светлых и легких днях Николай Петрович, тракторист.
Вот почему Зинаида замолчала и притворилась засыпающей. Захотелось уйти от слов матери. И стало впервые стыдно думать и вспоминать о Николае Петровиче. Стыдно первым девичьим жгучим и сладким стыдом.
Глава девятая
1.
Поздно ночью Зайцев собрал партактив на совещание. Усталые люди, обожженные дневной работой, уселись по лавкам хмуро и недовольно.
– Разве что екстренное? – неприязненно спросил Степан Петрович, когда все собрались.
Зайцев посмотрел пристально на него и с сожалением вздохнул.
– А ты, Степан Петрович, полагаешь: экстренность тогда бывает, когда кирпич на голову валится? а?
– Непонятно...
– Плохи, ежели непонятно. Не по-большевистски. Во всяком разе, довольно! Вот что, товарищи, – обернулся Зайцев к собравшимся. – Дело получается серьезное. Выходит кругом паника, и может получиться разлад и развал коммуны. Кулаки повели прямое и форменное наступление. Тут слепым да дураком надо быть, чтобы не заметить. В прямую, в лобовую атаку на нас полезли. Поджоги да кой-что другое – раз, а, с другой стороны, поддаются наши некоторые на удочку. Насчет яслей нехорошо промеж женщин разговор идет. Второе – по поводу пищи. Обижаются и бузят, чтобы убоина была в котле да всякое прочее. Конечно, говорить нечего – харч стал плоховатый. Но взять-то неоткуда: перетерпеть следует, пождать...
– Люди рабочие, товарищ Зайцев. Брюхо, оно ждать неспособно.
Зайцев оглянулся на того, кто прервал его. Смельчак под его упорным взглядом сжался и потускнел.
– О брюхе толкуешь, Протопопов? За бессознательными, за беспартийными тянешь?! Ну, вот нам, товарищи, и живой, горячий пример! Это кто Протопопову слова такие в мозги вложил? Враг. Наш кровный противник. Понятно вам теперь, какое положение кругом? По-совести сказать, переходим вроде на военное положение. Сорвать первого нашего сева не позволим! Нам теперь каждый час дорог и каждая горстка семян! И должны мы устроить для себя, для коммуны спокойную и бесперебойную работу. Без помехи и тормоза!.. Ну, нужно выловить тех, кои мешают. Из собственной среды выловить. Опять перешерстить всех, пересмотреть.
– Давно ли пересматривали? – недовольно вставил Степан Петрович. – Эти пересмотренья только народ мотают... Раз да другой...
– Надо будет, не два, не три, а десять раз пересматривать будем, – озлился Зайцев. – Кого не касаемо, того не смотает. А если сопрет кого, так к тому и ведем, чтоб обнаружить.
– Народ ты наш плохо, товарищ Зайцев, знаешь, – снова перебил секретаря Степан Петрович. – Поприглядись получше.
– Ты мне этого не суй под нос. Что, из иного мяса ваши тут сделаны? Кулак, он везде одинакой формы. И подкулачник тоже. Этим ты не пробуй оправданье себе найти... И не в этом дело теперь. Дело главным родом в зоркости, чтоб на-чеку быть. Мы, коммунисты, в первые ряды поставлены. А это значит: глядеть в оба нужно. Не моргать. Мы уж и так не мало кой-чего проморгали. Возле самого нашего носу кулачье орудует. Наши амбары поджигают, наших коммунаров подбивают на сопротивление, слухи зловредные распускают.
Нельзя, товарищи, в этаком разе слюни распускать.
– Разве мы распускаем?!
– Кажись, стараемся изо всей мочи!
– Все дилективы сполняем.
Выждав, пока окружающие успокоились, Зайцев упрямо наклонил коротко остриженную голову и постучал согнутыми пальцами по столу.
– Инициатива! – раздельно и старательно произнося это слово, строго упрекнул он. – Инициативы нету промежду вас. Своей собственной догадки и распорядительности. Вот в чем ошибка. На каждое дело толкать вас приходится... Вот и в этом обстоятельстве. Ни от кого из партийцев не довелось еще мне услыхать об чем-нибудь обнаруженном. Все вы здешние, прирожденные, друг дружку за двадцать верст знаете, а коснись справку о ком – сейчас незнайками прикидываетесь. Уж не говоря про то, чтобы самим выявлять да устанавливать. Взять хотя вот бабенку эту сволочную, которую сторож проморгал, – неужто на ее след никто напасть не может? Не с неба же она свалилась?
Зайцев остановился и оглядел всех, как бы дожидаясь ответа. Но кругом молчали. И тогда он, устремив взгляд на коптящую лампочку, сгреб со стола несколько бумажек и тяжело поднялся на ноги.
– Что ж... Часок и отдохнуть можно. Никак, скоро светать станет?
Все быстро, точно только и дожидались этого разрешения и все не могли его дождаться, поднялись с мест. Усталость свинцовыми гирями давила на плечи. Давно уже всех позывало ко сну.
Выйдя из душной и тесной пристройки возле сельсовета, коммунары стали расходиться в разные стороны. На востоке уже занималась розовая заря. Где-то хрипло прокричал ранний петух.
Протопопов, шедший рядом со Степаном Петровичем, оглянулся, зевнул и сказал:
– И зачем собирал-то? Без всякого прямого дела. Любит разговоры разговаривать.
Степан Петрович посмотрел на разгоравшуюся зарю и промолчал.
2.
Ранний петух хрипло прокричал навстречу подымавшемуся из-за бугров солнцу и возвестил утро.
Легкий туман еще плавал над низинами и крыл прозрачной дымкою кустарники. Тени стлались по земле расплывчато и нечетко. Голоса и шумы падали мягко и приглушенно.
По дороге из Сухой Пади ехал медленно и сонно воз. Рыжая лошадь лениво перебирала ногами, вздымая легкую пыль. На возу полулежал рыжебородый мужик. Он поглядывал по сторонам, и лицо у него было озабоченное, встревоженное и взгляд напряжен и насторожен. У самого почти въезда в деревню, там, где через глубокий, грязный овраг переброшен был мостик, мужик придержал лошадь, которая охотно остановилась. Мужик слез с воза, для видимости оправил шлею, прошел по покряхтывающим мостовинам, потрогал шаткие перильца, затем перевел лошадь через мост и снова остановился. И, поглядев во все стороны, быстро нырнул, захватив что-то с тщательно прикрытого воза, в овраг, под настил моста.
Он пробыл там не долго. Глухие удары и скрежет и треск отметили его пребывание там. Что-то сделав под мостом, он вылез, опять огляделся, тщательно отряхнулся, уселся на воз и погнал лошадь по дороге, которая, сворачивая в сторону, вела мимо деревни в поля.
А солнце в это время поднялось повыше, петухи в деревне запели дружнее. Тени стали гуще и четче. Утро налилось солнечным сиянием, созрело и поплыло над полями, над дорогою, над деревней и над быстро удаляющимся возом. Утро поплыло широко, привольно и ликующе.
Когда солнце окрепло окончательно и отметило начинающийся день, тракторист Николай Петрович, с вечера еще приведший в порядок машину, вывел свой интер из сарая. Тарахтенье машины вспугнуло затишье улицы. Из дворов показались коммунары, повыскакивали еще не стряхнувшие с себя остатки сна собаки.
Филька, услыхав гул мотора, выбежал из избы, поспешно дожевывая на ходу кусок хлеба.
– Миколай Петрович! – закричал он. – Подвези меня в поле! Ты на Журавлины бугры? Мне туды же!
Тракторист оглянулся на звонкий окрик, узнал Фильку, усмехнулся и мотнул головой:
– Прицепляйся! Сейчас заберем воз да и – айда!
С Филькой тракторист в последнее время стал обращаться бережно и с какой-то насмешливой ласковостью. Фильку приставили к другой работе, оторвав от трактора, возле которого он пока что праздно и бестолково вертелся, но это не мешало Николаю Петровичу часто встречать мальчика и ввязываться с ним в веселый и шумный разговор. У Фильки были смышленые, задорно поблескивающие глаза, были нежные ямочки на щеках. И эти глаза и эти ямочки живо и остро напоминали трактористу Зинаиду.
– Тебя опять жучить будут, как тогда? – весело спросил Николай Петрович, когда Филька прицепился сбоку к машине. – Опять пошлют куда-нибудь, а ты болтаться станешь цельные сутки!
– Сказал тоже – цельные сутки! Я, может, минуты какие-нибудь проездил тогды, – обидчиво возразил Филька.
– Знаю я твои минуты, – хохотал тракторист, подворачивая к огромному возу, на котором были навалены мешки и на который с шутками и легкой перебранкой громоздились коммунары.
– Филь! – раздалось оттуда, и Николай Петрович встрепенулся, услыхав голос Зинаиды. – Ты в обед вернешься?
Филька оглянулся, озабоченно сморщился и, подумав, солидно ответил:
– Не знай. Как работа.
– Он, Зинаида Власовна, человек важный, у него делов полон рот, – засмеялся тракторист, приветливо кивая Зинаиде. – Как он может заранее сказать?
– Смеяться нечего, – огрызнулся Филька, и уши у него заалели. – Может, у меня строчное что будет...
– Ну, слушай, деловой человек! – посмеиваясь над братишкой и украдкой кидая сияющие взгляды на Николая Петровича, подошла ближе Зинаида, – в обед тут тебе дело найдется. Прибежишь или с кем попутным приедешь.
Филька что-то проворчал под нос и отвернулся от сестры.
Воз прицепили к трактору. Тарахтя и громыхая, машина быстрее потащилась по пыльной улице, оставляя за собою широкие борозды. Зинаида осталась в деревне и, раза два оглянувшись на трактор, пошла к избе, в которой недавно устроили ясли.
Когда трактор повернул с главной улицы на боковую, чтобы скоротать путь, кто-то с воза крикнул трактористу:
– Николай Петрович, валяй нижней дорогой. Там дорога шибко накатна.
Тракторист оглянулся и снисходительно возразил:
– Нам с этаким коньком никакая дорога нипочем.
– Ну, катай тогды прямо!
Трактор зашумел сильнее, зарокотал, зазвенел всеми своими железными частями, выбросил из-под себя густые клубы пыли и дыму и пошел прямо туда, где дорогу опоясывал мостик.
На возу шумели и пересмеивались. Филька заглядывал Николаю Петровичу в лицо, ерзал на месте и все порывался ухватиться за руль, но не смел.
Утро развертывалось широко и уверенно. Заря погасла. Ярко и сочно сияло солнце.
3.
Когда настил моста со зловещим скрежетом и скрипом стал неожиданно оседать под передними колесами трактора, Николай Петрович ничего не заподозрил, ничего не сообразил и дал большую скорость. Машина рванулась, мост заколыхался, прогнулся и медленно пополз вниз.
Для задних, для тех, кто беспечно и шумно сидел на прицепном возу, необычные движения трактора показались смешными и забавными, и они успели еще выкрикнуть смешное, дразнящее и незлобиво задевающее тракториста, но вслед за тем, внезапно поняв, они закричали по-иному. И с громкими воплями ужаса и огорчения они стали скакать с воза, падая и отбегая в сторону.
Трактор, въехав на мост, повалился вместе с обвалившимся, рухнувшим помостом. Николай Петрович, широко округлив глаза и оскалив злобно зубы, что-то делал ненужное и бесполезное с рулем, но в самый последний миг опомнился и прыгнул в сторону. Он упал в канаву, ударившись боком о деревянные устои моста и, почувствовав, что что-то хрустнуло в его правом боку, потерял сознание.
Прицепной воз свалился на сторону и застрял на уцелевшей части моста. Коммунары опомнились, поняли, в чем, дело, и, шумя и яростно ругаясь, кинулись обратно к рухнувшему мосту и к повалившемуся набок, постреливающему и рокочущему неровно и с шипением трактору. Недалеко от него они нашли в канаве неподвижного, бледного тракториста, и, толкаясь, нелепо суетясь и мешая друг другу, потащили его на чистое место, на дорогу.
– Неужто вконец расшибся?
– Вот беда! вот беда!
– Бежите кто-нибудь за конем! Коня надо, в деревню везть!
– О, напасть-то!
В первое мгновенье они и не вспомнили о Фильке. Но когда Николая Петровича вынесли на ровное место и положили на разостланные мешки, и кто-то подошел к расшибленному трактору, то спохватились о мальчике.
– А Филька-то?..
– Мальчонка где?
Но Филька уже сам подал о себе знак. Откуда-то раздался его всхлип и громкий, через силу крик:
– Остановите!.. трактор остановите!..
И выползая из-под обломков моста, бледный, измазанный грязью, окровавленный, он с диким испугом в глазах махал одной, левой, рукою и все громче, все настойчивей кричал свое:
– Остановите-е!..
Высокий рыжеволосый парень с веснушками на добродушном и немного глуповатом лице подбежал к Фильке и, посапывая и шмурыгая носом, спросил:
– Ково остановить-то?
– Да трактор!.. Разорвет!
Поняв в чем дело, столпившиеся возле Фильки коммунары ринулись к трактору и стали неумело вертеть непонятные им рычажки и ручки.
– Нижний, нижний! – издали показывал им Филька, кривясь и плача от боли и обессиленно опускаясь на землю. – Не понимаете вы... нижний тяните!
И, удостоверившись, что мотор был, наконец, выключен, Филька припал на правый бок к молодой и нежной траве и громко заплакал:
– Ой, больно!.. Мамка! больно! Руку изувечил! руку!..
Тракториста и Фильку увезли в деревню. Николай Петрович на телеге пришел в себя и, скрипнув зубами, ощупал грудь и бока.
– Никак, ребра перешибло! Ой!.. А как трактор, ребята?..
У Фильки оказалась сломанной в двух местах правая рука.
Их обоих в этот же день повезли в соседнее село, где был врач.
– Оттуда, коли надо будет, в город, в больницу, – объяснили плачущей, опаленной горем и страхом Марье.
– Ничего, Медведева! Ничего, Марья Митревна, парнишка крепконький! Вживую срастется кость.
– Господи, господи! Да как же это!? – плакала Марья, бредя следом за повозкой, увозившей раненых.
– Очень просто. Обвалился мост. Вот и все.
– Да мост-то крепкий. Лонись его только починили!
– А и верно!
– Как же так?!.
Приехавшие с поля Степан Петрович, завхоз, Зайцев, кое-кто из коммунаров отправились к обвалившемуся мосту. Завхоз с двумя коммунарами спустился в овраг, под рухнувший мост и скоро вылез оттуда с двумя обломками бревна.
– Гляди-ка! – сунул он их Степану Петровичу и секретарю. – Перепилено!
– Да-а! – протянул Степан Петрович. Зайцев выхватил у завхоза кусок дерева и, потрясая им в воздухе, закричал:
– Это что? Это откуда?! Шуточки это? а?.. Это называется нападение классового врага! Борьба!.. Ну, посмотрим! Посмотрим, долго ли те гадины вредить и портить нам будут!
Отшвырнув от себя далеко обломок, Зайцев выпятил грудь и, как-то странно и необычно надувая губы, тише и угрожающе повторил:
– Посмотрим и поглядим!..
4.
Василий был на дальних полях, где и ночевал три ночи кряду. Приехав домой и еще по дороге от встречных узнав о том, что обвалился под трактором мост, что трактор надо чинить и что тракторист и медведевский Филька расшиблись и увезены в город в больницу, он стал возбужденно орать:
– Окаянные! Попадутся, ну, прямо изничтожу! И отвечать не буду за таких сволочей, которые это сделали!
– Василий, – с хмурой ласкою остановила его жена, – пошто ты так кричишь? Пошто свою голову в кажную дыру суешь? Об этим деле пущай начальники да старшие которые печалуются. А тебе что за забота? И так грозятся тебя изувечить, а вот и сюда ты опять лезешь.
– Молчи, – погасая и немного успокаиваясь, уже тише сказал Василий. – Мне обчеством, коммуной доверие дадено. Я за обчественное дело страдать да думать должен.
– Думальщик ты, – усмехнулась Вера. – За всех не передумаешь. А вот как, избави восподь, из-за угла огреют чем или насмерть зарежут, что тогда будет?
– Пострадаю! – выпрямился Василий и поглядел с гордостью на жену. – Вполне могу пострадать и не пожалею!
– Не пожалеешь? – укоризненно покачала головой жена. – А мы-то как? Думала твоя голова об этим? Мы в кою пору на ноги малость поднялись, голодовать, как прежде, перестали, а тут ты этакое...
Василий снял прохудившийся ветхий чирок с ноги, помял его в руках, потрогал пальцем и вздохнул.
– Заявлять надо...
– Чего заявлять? – встрепенулась Вера.
– Заявлять, говорю. Насчет обутков. Андрей Васильичу, завхозу.
– Все мы обносились, – уронила Вера, завязывая потуже концы линялого головного платка. Девчонкам бы на сарафаны попуте...
– Будет. Все будет, – вспыхнул Василий. – У коммуны все будет.
– Да... Ежели не угрохают где...
– Не угрохают. Руки коротки.
– А вот руки-то, видать, долги, коли трахтор напрочь почти-что изничтожили да парнишку с мужиком спортили. Долги руки-то, Василий.
– Ну, это... до времени, – немного спутался и потерял свой уверенный тон Василий. – До времени, Веруха. Дознаемся!
– Слышь, Василий, – Вера присела на край скамьи, на которой муж расположился с чирками, и вся вытянулась к нему. – Слышь, Василий: не лезь ты, куды не надо. Не скачи ты упрежде прочих мужиков.
Василий поглядел на жену, отложил чирки, похлопал себя по коленям, насупился.
– Упрежде прочих – не знаю, а вот позадь всех – не жалаю. Будет! Сколь годов мы с тобою на самом назаде были? Сколь годов и за людей-то, не токмо что чужие, а и сами-то себя не почитали? Сообрази и вспомни.
– Чего уж... – вяло согласилась Вера, всматриваясь в узловатые худые ноги Василия.
– Сообрази и вспомни. И вот теперь – не жалаю! Не жалаю, как прежде! На затычке не останусь. Меня обчество отметило. Похлопотал я насчет кормов. Сам боялся, что обсекусь, а не обсекся. Выдержал... А что до того, как там подкидные записочки про меня, то не страшусь. Ни вот эстолько!
Василий вытянул левую руку и правою отметил на грязном мизинце, на сколько он не страшится. Вера рассмотрела черную каемку грязи под ногтем Василия, быстро про себя подумала: «баню бы истопить!» и промолчала.
Продолжая разговаривать так с женою и доказывать ей, что он никаких-таких гадов вовсе не боится, Василий вдруг прервал самого себя:
– А Филька-то медведевский, он как, шибко искалечен?
– Сказывают, срастается рука. Руку у его в двух местах переломили. Правую.
– Ну, жалко парнишку! Такой язвенский, шустрый. И тракторист, Николай Петрович, значит, мурцовку у нас хлебнул. Это, видать, не в городе. Жалко трудящего...
Переобувшись, Василий стал ходить и шарить по избе по полкам, в старом пузатом устиньином шкапу, на шестке.
– Ты чего потерял? – заинтересовалась жена.
– Да вишь... – стыдливо ответил, не глядя на нее Василий. – Ищу, нет ли у тебя где хлебца... Хоть с ломоток.
– Хватился, – вскинулась оживленно, будто только этого она и дожидалась, Вера.
– Второй день как пайку приели. А когды выдадут, не сказывают. Ходила в контору, счетовод этот там молчит. Феклушка объяснила: убавять нонче пайку.
– Н-да-а... – промычал Василий и прекратил поиски.
– Картошка вареная вот оставшись. Поешь.
Василий жадно взял плошку с остатками картошки, круто посолил и, хрустя и чавкая, стал есть.
– Это ничего, – с набитым ртом, еле шевеля языком, умиротворенно говорил он. – Это ненадолго. Управимся, все будет.
– Будет ли? – опасливо вздохнула жена.
– Веруха!! – обернулся к ней Василий и на мгновенье выпустил плошку из рук. – Заткнись! Не расстравляй ни меня, ни себя! Сказано – будет! вот и все!
5.
Трактор стоял в бездействии. Было самое горячее, самое спорое время, а он торчал под сараем неподвижно, сбившись как-то на сторону, с поломанным кожухом, со свороченным рулем, как никуда негодный, ненужный, выбывший из строя дряхлый инвалид.
Когда его тащили из оврага, а затем лошадьми тянули по пыльной улице, среди коммунаров прокатился легонький смешок. И нельзя было понять – горечь ли рвалась в этом украдчивом, осторожном смешке или необычное злорадство. Какая-то женщина, выглянув из окна, помахала рукой и крикнула:
– Отработалси?! А еще хвастали, сказывали, что никакой конь с им не поспорит. Вот те и поспорил... Обезножил конек-то...
И все, кто были в это время возле трактора, повернули головы на этот крик и промолчали. Не нашлось никого, кто бы возразил озорной, ехидной бабе.
Водворив трактор под сарай, Андрей Васильевич собрал вокруг него знающих, по его мнению, деревенских людей – кузнеца, ковавшего подковы и наваривавшего лемеха и топоры, и счетовода, который, когда выписывали трактор из города, добыл откуда-то целую стопку книжек про сельхозмашины и двигатели и всем в конторе тыкал их, чтоб читали.
Кузнец обошел интер со всех сторон, потрогал его, постукал молотком по некоторым частям и огорченно и несмело заявил:
– Поломка, может, и пустяковая, а только кто ее разберет. Механизьм! Не по моей инструкции.
– Тебе бы коня о четыре ноги, – пошутили над кузнецом.
– Коня... Конешно. Коня бы я подковал. Известно.
У счетовода лицо было хмурое, серьезное, и шуток он не допускал. Он тоже оглядел трактор со всех сторон, достал какую-то книжку из кармана, перелистал ее, про себя что-то прочитал. И, окинув собравшихся вокруг испорченной машины коммунаров сердитым и важным взглядом, ничего не сказал. Недоумевающие коммунары остолбенело поглядели ему вслед, когда он, не торопясь, прошел в контору, и только когда скрылся там, удивленно заговорили:
– Он чего это, ребята?
– Мудрит!..
– Воображенье свое показывает. Сурьезностъ ученую...
Но счетовод вскоре появился на крыльце конторы и оттуда помахал какой-то бумажкой.
– Вот! – крикнул он. – Ищите председателя! Пусть подписывает. В район надо посылать, насчет ремонту!
Подоспевший в это время Василий протолкался было к выбывшему из строя трактору и открыл уже рот, чтобы сказать что-то свое, но, расслышав возглас счетовода, выпрямился и стал выжидать. Андрей Васильевич огорченно отпустил кузнеца и, внезапно озлившись, посоветовал коммунарам, бестолково толпившимся возле машины:
– Отправились бы вы к делу к настоящему! На самом деле, неужли в коммуне только и заботы, чтоб возле трактора попорченного с разинутыми хайлами торчать?!
У Василия, пришедшего позже всех, смущенно забегали глаза.
– Вишь, Андрей Васильич, – заискивающе проговорил он. – Я тут так думаю: не обучен у нас никто механике этой. Из своих, из собсвенных людей. И вот получается осечка. Кабы кто обучен был...
– Знаем! – угрюмо оборвал его завхоз. – И чего ты так об себе понимаешь. Оглоблин, разве у одного у тебя только башка с мозгами на плечах!?
– Я так не понимаю об себе...
– А лезешь!
– Лезу?! – Василий поглядел на завхоза исподлобья. – Обчественный интерес! Как же мне не говорить?
– Коли все зачнут мешаться, будет, по-твоему, толк?
– Ежели об деле...
– А ну тебя! – отмахнулся завхоз от Василия. – Время жаркое, рабочее, а ты треплешься.
Размахивая руками, завхоз кинулся по своим делам. И скоро от председателя принесли подписанную бумажку и стали отряжать людей отвозить трактор в город. На мгновенье у Василия вспыхнула надежда, что и его пошлют с трактором. Но тут его позвали в контору, и откуда-то взявшийся Степан Петрович деловито сказал ему:
– Будет следствие, приедут сюды завтра. Ты нужен будешь, Василий. Дадим тебе совместно с прочими порученье.
– Что ж, я не отпорен, – оживился Василий.
Утром тройка заморенных лошадей с натугой и ленцой потянула трактор.
Можно было увезти его лошадьми до ближайшей станции, километров двадцать, а потом погрузить на поезд и часа через два доставить в город. Но в коммуне побоялись связываться с железной дорогой, и потому лошади должны были тянуть его целых семьдесят километров.
– Ну, бать, в обратний по железной дороге, а то и сам, своей тягой всю дорогу прохлещет!..
В полях было пустынно. Дорога дымилась от легкого ветерка. Посвистывали птицы и свежо зеленели травы. Во все стороны тянулись пашни коммуны. На восток, и на запад, и на север лежали они. Пестрыми лоскутьями стлались они до дымчатой зыбкой дали. И дорога шла узким ручьем по полям, по широкому раздолью колхозной земли.
В некоторых местах в эту землю узким клином врезались клочки единоличных пашен. Иногда на таком клочке земли упорно копошился крестьянин. Он кричал на свою лошадь, с надсадой выдергивавшую посеребренный плуг из слежавшейся земли. Он зло глядел себе под ноги и шел борозда за бороздою. Но увидя трактор, везомый тройкою лошадей, он забывал на мгновенье и о работе, и о своей лошади, норовившей попортить, покривить борозду, и о земле, и, усмехаясь, вместо приветствия, кричал:
– Не сдюжил? Ловко!
Или:
– Видно, пегашка али игренька надежней! Хо!..
Медленно двигался трактор, и два коммунара, приставленные к нему и к лошадям, от скуки перебранивались или рассказывали друг другу небывалые истории.








