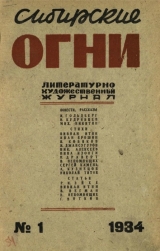
Текст книги "Жизнь начинается сегодня"
Автор книги: Иссак Гольдберг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц)
Не впервые почувствовал себя Влас здесь среди таких же, как и он сам, простых и трудящихся людей, немного чужим и непонятым. От этого обида вползла в него. Внутренно оправдываясь сам пред собою, он с горечью сообразил, что вокруг него собралась тут непонимающие, отбившиеся от настоящей жизни, от настоящего становления жизни люди.
– Я об своем деле свое понятие имею! – вспыхнул он, обрывая спор. – Меня не переспоришь!
– Оно и худо, дорогой мой! Очень худо этак-то! – покачал головою Савельич.
– Шибко худо!
Влас сжался, замолчал и замкнулся в себе.
И вскоре после этого написал и послал Марье и детям гневное письмо.
Глава четвертая
1.
Два письма сразу, одно за другим получила Марья от мужа. Два письма и не могла сообразить, какое послано раньше, какое позже. Чисел на письмах не было, по почтовым штемпелям тоже никто ничего не мог разобрать. А письма были разные, одно опрокидывающее другое. В одном Влас ругался и грозил добыть семью и расправиться с озорником Филькой, который срамит его своими поступками; в другом же с тревогой и недоуменьем жаловался на злых людей, на то, что нонче ничего путем не поймешь: всю жизнь, к примеру, считаешь человека честным и богобоязненным, и вдруг повернется так, что сразу всякая нечисть на нем наружу выползет. И смутно, неясно и путанно поминал про Никанора.
– Ничего не пойму, ребята! – обеспокоилась Марья.
Ребята тоже ничего не понимали и ничем не могли помочь матери. Да ребятам и некогда, недосужно было раздумывать об отцовских прихотях и загадках. У них налаживались и завязывались свои дела. Зинаида поступила в комсомол, и ее помимо производственной работы по коммуне загрузили всякой общественной работой. Филька все свободное время орудовал возле тракториста. Он терся у машин, всматривался, расспрашивал, упрашивал, чтоб ему позволили сесть за руль, помогал чистить, собирать и разбирать трактор, – учился жадно, неотрывно. И, возвращаясь вечером домой, вымазанный в масле, испачканный в копоти и саже, приносил с собою едкий керосинный дух.
Некогда было Зинаиде и Фильке задумываться об отце, который сам себя отрезал от здешней жизни, закипавшей ключом, бурно и молодо.
– Ничего не пойму! – недоумевала Марья. И было бы ей как в прежние времена удариться в тоску, в тревогу, но и ей недосужно было: поставлена она была вместе с другими тремя женщинами к скоту, к коровам, и томилось ее сердце хозяйственными заботами. Скот тощал, стояла весенняя бескормица, запасов у коммуны было мало и нужно было изворачиваться. И нужно было ладить корм из оскребышей, подбирать остатки соломы, урывать отруби, искать и искать. И приходилось Марье – сама на себя дивилась она: откуда смелость и прыть взялись? – ходить в контору, штыриться с завхозом, с председателем, попрекать их, подгонять, настаивать:
– Не на свою прошу! Не о своем хлопочу!.. Вы скотишко пожалейте, хозяева! Коровы иные как есть загляденье, а изводятся сердечные! Кормить надо! Дотянуть до свежих кормов!.. Добывайте, мужики, корма!
Сама на себя дивилась Марья. Когда впервые пришла на скотный двор, дико и непривычно было все кругом. Свою корову увидала, заплакала. Жалко чего-то стало. Жалко – а чего, и придумать и сообразить не смогла. К своей корове потянулась, ее обихаживать начала. А взглянула вокруг себя, вздохнула густой, живой, животный сытный дух, разглядела скотину, – отметила, заприметила ладную пеструху, отнятую у Устиньи Гавриловны, и десяток других породистых, дорогих коров, заприметила их. Заприметила – и взыграло у нее сердце, заболело:
– Ох, скот-то, девоньки, тощает как, глядите! Неладно этак-то, грех!
– А ты што убиваешься? – насмешливо накинулась на нее низенькая, вертлявая, веснущатая скотница. – Об чем у тебя сердце болит? Не твое ведь?
Марья на мгновенье смутилась и потускнела: а, ведь, и верно, не свое. Чего ради изводиться и хлопотать? Но мысль эта сразу же как-то и обидела Марью, стыдно ей стало немножко, по-небывалому стыдно. И она, сама с удивлением прислушиваясь к своим словам, осуждающе ответила верткой, веснущатой:
– Обчее! Всем принадлежит!.. Я не буду болеть, ты, другие, – что ж тогда из обчего хозяйства выйдет?
С удивлением вслушалась в эти свои слова Марья и затаила в себе смущающую догадку: ведь это слова-то чужие, верховодов из коммуны, зинаидины, даже Филька такие слова не раз сказывал. «Вот въелось как неприметно! Вот до чего дошло!».
И в первое время подстерегла Марья самое себя, гнала чужие мысли, чужие слова. Старалась спокойней, холоднее и равнодушнее, как к чужому делу, относиться к работе, на которую поставила ее коммуна. Старалась отбыть положенное время, сбыть с рук свои обязанности, не принимать близко к сердцу мелочи и повседневное, что наполняло работу. Старалась, а ничего не выходило из этого. Станет налаживать корм скотине, сунет ей как попало, но взглянет на впалые бока, на понурую голову, услышит шумное, знакомое дыханье, увидит покорный и ждущий взгляд больших неподвижных глаз, – и загорится жалостью. И, ни о чем другом не думая, уйдет вся в заботу о скоте, замечется в поисках лучшего корма, пойдет к мужикам, к верховодам, к завхозу, начнет горячиться, добиваться.
Незаметно для себя и для окружающих стала гореть Марья на работе, на общем деле.
И так же незаметно для себя, неожиданно и негаданно выступила Марья на собрании коммунарок, на собрании, где обсуждались производственные вопросы.
2.
Собрание, на котором впервые выступила Марья, было многолюдно. Женщины хлынули туда потоком, привлеченные разрешением своих насущных вопросов. Сначала Марья и не думала туда пойти. Она решила вместо собрания побыть дома и подработать всякую домашнюю мелочь. Но Зинаида, забежав перед собранием домой, мимоходом и вскользь сказала, исподтишка наблюдая за матерью:
– Нынче решать будут об скоте.
– А что об им решать? Голодует сердечный. Разве кормов собраньями добудешь?
– В правлении разговор был, чтоб часть скота кооперации сдать...
– На убой? На мясо? – охнула Марья. – Да они, черти, мужики, чем, каким местом думают?
И, загоревшись, Марья забыла про хозяйственные домашние мелочи и потянулась вслед за дочерью на собрание.
В никаноровском доме, в устиньиных горницах, женщин набралось уже много, когда Марья протискалась туда, слегка смущаясь и робея. Женщины шумели, перекликались, посмеивались. Женщины на досуге, пока еще не пробрякал надтреснутый поддужный колоколец, жадно и торопливо толковали о своих делах.
Беременная костлявая баба, возле которой очутилась в давке Марья, с легкой ласковой ехидцей пропела:
– На собранье, Марьюшка, припожаловала? Чтой-то тебя пригнало?
– О скоте, сказывают, вырешать станут... – словно оправдываясь, ответила Марья.
– О скоте, о скоте!.. – замотала головой беременная. – Я с Васильем моим уж вконец расштырилась. Оны толкуют, чтоб, мол, лишний скот, похуже которых, отдать на сторону, а я его ругать! Пошто мы животишки распехивать будем, а чем ребят кормить станем?! Идолы, оны, мужики!..
Надтреснутой поддужный колоколец оборвал шум и разговоры. Собрание началось. Марья вытянула шею и жадно стала слушать сообщение завхоза.
– Корму нехватит на всех. Надо спасать головку стада. Ежли оставить на прокорм всех коров, которые имеются у коммуны, то сгинут, пожалуй, и хорошие, дорогие коровы, на ряду с плохонькими... Лучше сдать плохой скот кооперации, тогда тот, который останется, получше, оправится. Для него хватит корму.
Женщины несколько раз прерывали завхоза. Несколько раз отчаянно бился железный язычок о шершавые, звонкие стенки колокольца. Не выдержала и Марья. Она крикнула:
– Хозяйствовали бы лучше да с умом, так хватало бы корму для усего скота!
– Медведева! Товарищ Марья Митревна! – призвал ее к порядку председатель. – Скажешь опосля докладчика. Не шуми! Я тебя запишу для дачи тебе слова!
– Запиши! – вспылив отчаянной, неоглядной решимостью, согласилась Марья. – Запиши, я скажу свое!
Когда пришло ее время, она выступила, горя румянцем стыда, неуверенности и робости. Ее голос звучал слабо и срывался. Ее слова были путанные, неуклюжие и совсем не те, что складывались в голове. Но женщины, обернувшись в ее сторону и поощрительно поглядывая на нее, подбадривали, и она сумела сказать то, что накипело у нее на сердце, то, что хотела сказать.
– Добывайте корму для всего скота! Шуруйте, ищите, мужики! Не дадим скот изводить! – потребовала она, осмелев и чувствуя, что рядом с нею свои, понимающие, родные, думающие так же и о том же, как и она.
– Правильно! Истинная правда, Марья! Правильно!.. – всколыхнулись женщины, и тут уже немощный порченный колоколец не мог их остановить.
Но из угла, от затертой потными, грязными спинами печки пронесся задорный крик:
– А и добудем! Правильно, гражданки женщины! Основательно и серьезно покрыли! В самую точку!..
Из угла, от печки отлип и протиснулся сквозь толпу Василий.
– Давай я скажу! – трепеща от возбуждения, обратился он к председателю. – Я слово хочу заявить!
– Заявляй, Васька! Заявляй! – насмешливо понеслось со всех сторон.
Беременная женщина, соседка Марьи, блеснула глазами и задорно крикнула:
– Ну, мой неиздашный петь зачнет! Пой, Василий Саввич, пой!
И пока муж ее пробирался ближе к столу, к председателю, к президиуму, она, погасив свой задор и кривя бледные тонкие губы, зло пожаловалась:
– И что это, на самом деле всем-то он Васька да Васька! Полный он, справный челен, а кличут его, как не знай кого!..
Василий, добравшись до стола, за которым толпился и беспокоился президиум, сунул внезапно вперед руку, словно погрозил кому-то, и вытянул вбок голову.
– Добудем! Совершенно прямо, как в стеклышке ясном, ясно и правильно объяснила гражданка всем нам известная Марья Степановна и другие прочие! Оплошали мы! Не доглядели! А ежли раскинуть мозгами да тряхнуть головой, можно всякого корму скотине, дай ей бог здоровья, достать!.. Назначайте меня, гражданки и дорогие коммунары, по кормовому делу!
Веселый смех прервал Василия. Веселые крики взмыли над толпою:
– Комиссаром!.. Скотским начальником!.. Коровьим председателем!?
– Назначайте!.. – перекрикивая насмешливые возгласы, продолжал Василий, потряхиваясь и свирепея. – Окромя изгальства и шуточек назначайте! Куды угодно дойду, скрозь землю в огонь, а корм скоту добуду!
Колоколец взмылся над столом и захлебнулся в тусклом, надтреснутом звоне:
– Помолчите, товарищи! Граждане! бабы!.. да замолчите, дайте мужику досказать!..
– Пущай досказывает! Ну, ну, Васька, говори, сказывай! – согласилось собрание, захваченное, заинтересованное небывалым выступлением Василия.
– А я все досказал! – слегка растерявшись, уже менее решительно вымолвил Василий. Но, что-то вспомнив, оправился, тряхнул головою и крикнул: – Полнамачивайте на корма! Послужу коммуне!..
– Полнамачиваем! – колыхнулось собрание. – Начинай орудовать!..
4.[3]3
Так в журнальной публикации – сбой в нумерации подглавок.
[Закрыть]
Вызвавшись пошуровать по кормовому делу, Василий оторвал себя от всяких других дел. В первое мгновение, после того как он так самоуверенно дал твердое обещание достать корм для всего стада, он растерялся, забеспокоился, сдал. Он явился назавтра после собрания в контору, и завхоз, щуря глаза, ядовито сказал ему:
– Скрозь землю, сказываешь, пройти обещался! Ну, ну, приходи, добывай! Шагай ширше иных!
– Я поищу... – неопределенно пообещал Василий... – Поищу, сказываю...
Но где и как искать, об этом у Василия не было и понятия. Он знал только, что сенокосные угодья вокруг коммуны всегда были богатые и урожайные. Знал, что раньше отсюда вывозили много сена на сторону. Один Некипелов вагонами сплавлял его в город. Чуял Василий, что где-то имеются, должны иметься большие запасы корму. И руководимый этим чутьем, он выпросил у завхоза лошадь и отправился в соседние деревни и на ближайшие заимки.
В первый день вернулся он усталый и обескураженный. Сопя и пряча глаза от жены, пожаловался ей:
– Округом отказ! Ни у кого, мол, ничего нету! А врут! Честное слово, врут!
Назавтра с Василием было то же самое. Но через день он ворвался в контору ликующий:
– Забирай сено у Степанчиковых! Два зарода нетронуты стоят!
– Забрать не штука, – возразил счетовод, – но не имеем законного права!
– Пошто не имеем? – всполошился Василий. – У их, у Степанчиковых, скота мало, а корму лишек! Самый резон забрать. Наш-то скот худеет, совсем скоро пропадет!
– Не имеем права! – повторил счетовод. – Если по добровольному соглашению продадут, ну тогда...
– Будем торговаться! – решил председатель. – Может, уступят.
Василий потускнел.
– Степан Петрович, а ежли Степанчиковы большую цену загнут? Пожадничают?
– Ихняя воля, – снова вместо председателя ответил счетовод. – Если за ними никаких недоимок государству не числится, могут они вполне упереться, и ничего с ними не поделаешь!
Расстроенный ушел Василий из конторы. Он еще больше расстроился, когда позже выяснилось, что заимочники, два брата Степанчиковы, заломили неслыханную цену за сено и нисколько с нее не уступали, как ни бился с ними выезжавший на их заимку завхоз.
Целую ночь проворочался без сна, прокряхтел Василий. Жена его не выдержала под утро и зашумела:
– Ты что, окаянный, спать людям не даешь? Что ты печальник за все обчество, за всюю коммуну, что ли?!
– Взялся я... обещанье дал. Совестно мне людям в глаза глядеть...
Вскочив раньше обычного с постели, он заторопился, заметался:
– Смекать надо!
– Ну, смекай! – примирительно сказала жена, жалея его. – Смекай.
И когда Василий уже уходил из дому, она вдруг спохватилась:
– Василий, погоди! А сено-то в самом деле Степанчиковых братьев?
– А чье же?
– Лонись на ихней заимке Устинья Никанорова частенько приваживалась. А года два ранее Никанор покос-от у них, речной, рендовал...
– Ну?
– Нет ли, Василий, тут обману?
Василий что-то сообразил, содрал с головы шапку и махнул ею в воздухе:
– Веруха! А ведь, бать, выгорит дело! Ей-ей!
До обеда рыскал Василий по соседям, съездил куда-то, вернулся. Был возбужден, но сдерживал в себе это возбужденье. До обеда не показывался в конторе. А потом явился туда в сопровождении кривого старика.
Кривой старик, крестьянин с соседней со Степанчиковыми заимки, широко разводя руками, наставительно и убежденно заявил:
– Сено Никанора. Некипеловское сено. Могу под присягу пойтить. А ежли надо, десять свидетелей выставлю!
В этот же день коммунары целым обозом выехали на заимку и стали возить сено, которое сельсовет отобрал у Степанчиковых и уступил коммуне.
Василий ходил сияющий, гордый. Василий ликовал и, нахлестывая лошадь, ездил по заимкам, убежденный, что ему и дальше удастся разыскать еще не мало спрятанного кулаками сена.
Марья встретила его как-то у скотного двора и не сдержала ясной и изумленной улыбки:
– Воюешь, Василий... Саввич? Спасаешь нам скотинку?
– Воюю! – сверкнул глазами и приоткрыл выщербленный рот Василий, радостно польщенный этим полным величаньем. – Буду во-всю воевать!..
Глава пятая
1.
В небывалой для него деловой, хозяйственной сутолоке Василий очень уставал. К вечеру, добираясь до дому, он с ног валился. И спал крепко, беспробудно до зари.
И видел сны.
И снился Василию однажды особенно запомнившийся, крепко угнездившийся потом в памяти, хотя и пустяковый, сон. Увидел себя Василий во сне молодым, таким, каким был он лет пятнадцать назад. Была на нем во сне яркая сатиновая рубаха, на ногах сияли лаковые сапоги, пояс был шелковый. Сиял солнечный летний день, ярчайше зеленела густая трава, и с полей тянуло медвяным духом. На угоре, видать, был праздничный веселый день, – девки кружились в чинном плясе и пели тягучие, острые проголосные песни. На угоре, толпясь возле девок, шумели парни. Красовались в праздничных одеждах, высматривали себе подруг. Красовался лучше всех Василий. Он неотрывно смотрел на девичий хоровод, и в хороводе видел одну, свою, желанную девушку. Он разглядывал ее, но она быстро кружилась, мелькала, и не мог Василий ухватить, заметить ее лицо. Он протискивался, проталкивался поближе к девушкам, порою он уже хватал свою желанную за белый рукав, но она отворачивалась, прятала лицо, ускользала. Он закипал нетерпением, тревогой, стыдом и отчаянием, он рвался, рвался. Но девушка все кружилась и кружилась, а подруги заслоняли ее, отталкивали от Василия. А парни смеялись над ним, дергали его за новую сатиновую рубаху, рвали пояс, наступали на яркие начищенные сапоги...
Когда Василий проснулся, жена сидела на постели и испуганно разглядывала его. День ярко вползал в незакрытое ставнем окно.
– Очухайся, Василий! Пошто стонешь? Пригрезилось что?
Василий потер ладонью вспотевший лоб и вскочил на ноги.
– Всяка-всячина во сне лезет! – неохотно ответил он и не рассказал жене про свой сон.
А днем, выехав на ближайшую заимку, когда ширились вокруг голые поля и когда лошадь отфыркивалась от свежего, пронизанного солнцем полевого воздуха, Василий с усмешкой вспомнил этот сон. Вспомнил и сообразил: ведь никогда-то не бывало в жизни, наяву, чтоб был он нарядно и чисто одет, ведь никогда-то не был равным он на деревенских гулянках. И никогда-то не смел в самые буйные молодые годы приблизиться к смешливым девичьим толпам, поозоровать бездумно, безоглядно и беспечно с ребятами, и дать волю крепкой, как хмельная брага, молодой удали.
«Ишь, что во сне-то причудится», – сам над собою посмеялся Василий. – «Отчего бы такая чепуховина?!»
И, отгоняя нелепицу увиденного сна, он исполнился воспоминаниями своей молодости, такой непохожей на этот сон, такой отличной от него.
Лошадь бежала ленивою переступью, одноколка подпрыгивала на рытвинах и буграх. Пестрые дали плыли медленно назад. Из пестрых далей прошлого выплывала грязная, убогая и нищая Балахня. И потемневшая, ушедшая по-старушечьи немощно в землю изба кривой улички. Изба с заклеенными бумагою окнами, с развороченной, обомшивелой крышей. И в этой избе, полутемной и грязной, в голоде дней и лет, в слепой нужде и бесприютности копошилась многодетная семья Феклы-вдовы. А старшим в семье был Васька. Семья билась, выбивалась из сил. Время от времени приходила частая гостья – смерть – и освобождала сырые углы от лишнего жителя. И Фекла, провожая очередного родного покойника на кладбище, не выла, не плакала. Фекла знала, что этак-то лучше и для оставшихся, и для умершего.
– Хучь мученья в жизни окаянной не примет лишнего!..
Когда Васька подрос и по деревенскому, по крестьянскому укладу вышел полным работником, Фекла немного ожила. Ей показалось, что в супряге с пятнадцатилетним сыном она справится, наконец, с хозяйством, подымет его и досыта накормит пять ртов. Но хозяйство было такое маломощное и хилое, что никакие усилия не смогли его поднять. И Ваське пришлось пойти в люди.
В людях... Василий нахлеснул лошадь и взглянул на свои руки. Усмешка тронула его губы. Тут было о чем вспомнить! Тут от злости при сравнении с пригрезившимся нынче сном острый хохот разобрал Василия. Разве была когда-нибудь на нем новая нарядная рубаха? Разве износил он за всю свою молодость хоть пару настоящих сапог? Разве мог он быть когда-нибудь нарядным и красоваться на веселых молодых гулянках?.. Ну и сон! Сатиновая рубаха! Лаковые сапоги!.. А зуботычины, взамен этого, а попреки, помыкание от всякого и каждого! А Устинья Гавриловна, которая умела до капли выжать все соки!..
Василий попридержал лошадь. Дорога вползала на угор. За угором приютилась заимка, в которую направлялся он. И еще острее стала усмешка Василия.
Сколько лет тому назад было это?.. Василий уже обзавелся семьей. Уже появилась старшенькая дочка. И стало невыносимо туго жить увеличившейся семье. Подошло так, хоть в петлю лезь. И Василий не выдержал, потянул из чужого амбара мешок хлеба. Да, да, вот на эту заимку потом переехал, переселился хозяин хлеба... Били. Весело и озорно били тогда Василия. Попало и бокам и голове. И испорчен теперь рот. И крепкие мужики, не говоря уже о кулаках, об Устинье Гавриловне и ее родове, стали с тех пор смотреть на Василия как на вредного и вороватого члена общества.
«Васька!» – иного имени не было у него. Васькой звали и старые и малые. И временами сам он забывал, что есть у него полное, как у каждого человека, имя. Временами странно и чудно было ему слышать редкое обращение: Василий Саввич...
Василий почуял живой дым жилья. Василий стронул с себя задумчивость, отогнал воспоминанья и гикнул на лошадь. Одноколка подпрыгнула, заскокала по неровной дороге. Запах дыма стал острее и гуще. Заимка выросла и оказалась в двух шагах.
У ворот, окруженный собаками, появился хозяин. Он выжидательно поглядел на Василия.
– Отворяй-ка! – кивнув головой, коротко сказал Василий.
– Зачем?
– Дело есть.
– Дело? – усмехнулся хозяин. – Не за хлебом ли? Поди, опять за старое!
Василий соскочил на землю.
– Дразнить хочешь? – подошел он вплотную к хозяину, и на щеках его выступили бурые пятна. – Давнишней оплошкой хотишь упрекнуть!? Ну, ну, валяй, Галкин!
– Не надо бы воровать... – проворчал Галкин, отодвигаясь в сторону: – тогды бы никто тебя не попрекал.
– Я это воровал?! – со внезапной болью и яростью крикнул Василий. – Я, што ли? Беда моя воровала!.. нужда!..
Галкин потупил глаза.
– Заводи коня во двор, – неуверенно сказал он и зло закричал на собак: – Цыть вы, лешавы!.. Цыть!..
2.
В просторной кухне от широкой печки веяло жаром. Густой запах свежеиспеченного хлеба ударил Василию в голову.
– Сыто живете! – вместо приветствия сказал он хозяйке. Высокая женщина строго и неласково взглянула на него и сказала заученное:
– Проходи-ка, гостем будешь!
Галкин, шедший молча за Василием, повесил обрывок ремня, захваченный на дворе, на спичку у двери и вытер ноги о солому, постланную у порога.
– Ну, какой я есть гость! – рассмеялся Василий, – я об обчественном деле. Не гостевать.
– Обсказывай, с каким-таким обчественным делом ты? – с беспокойством повернулся к нему Галкин.
Хозяйка ехидно протянула:
– Начальством стал?
– Не начальством, а поручение. Препоручено мне камуной. Насчет сена я, насчет кормов.
– Подыхат скотишко-то у вас в камуне?! – усмехнулся Галкин. – У добрых людей почем зря поотнимали, а выходит – ни себе, ни людям?
– Скот-то какой заграбастали: золото, а не скот! – вздохнула хозяйка и зло поглядела на Василия. – Скоро вы его на-проходь загубите?!
– Спасам! – не унывая и не поддаваясь на насмешку, возразил Василий. – Не даем погибнуть!.. Конешно, ошибка маленькая с кормами вышла, не доглядели да не досчитали. Ну, уповаем – выкрутимся! Наберем кормов!..
– Где ж это? – подозрительно и настороженно осведомился Галкин.
– А у добрых людей, у кого лишка! Вот и к тебе за этим же приехал.
– У нас! Мы что, рази, припасали его камуне? – возмутилась хозяйка. – У нас своему еле хватит. Дотягиваем силком.
– Как же еле хватит? – рассмеялся Василий, – Нехватало бы, так не продавали бы на сторону! На базар бы не возили!
Галкин насупился:
– Нужда заставила. Платежи были, налоги. Пришлось со слезами урывать от своего да продавать!
– Ну, ты урви еще маленько, – незлобиво и дружелюбно посоветовал Василий. – Урви нам. Деньгами заплотим.
– Нету у нас! – решительно заявила хозяйка, предостерегающе взглянув на мужа. – Нету, и разговаривать нечего!
Василий поднялся с лавки. Улыбка слиняла с его лица:
– Коли добром не желаете, так как бы хуже не вышло!
– Не грозись! Мы не какие-нибудь кулаки!
– С нас все взято! Мы самые законные середняки!
– Середняки-то вы середняки, – сердито проворчал Василий, – а повадки у вас похуже кулачьих!
Василий хмуро замолчал. Молчали и Галкин с женой.
Густой хлебный дух туго висел в теплом воздухе.
Галкин встрепенулся и в ответ на какие-то свои затаенные мысли громко сказал:
– Этак мужик мало-мало покрепше станет, его сразу жа и в кулаки пишут! И хто это придумал такую дурность? Никак мужику на ноги подняться неспособно теперь.
– Неспособно, говоришь? – поглядел на него насмешливо Василий. – А пошто в колхоз не идешь?
– В колхоз? А што я там забыл?
– Без нас тамока обойдутся! – поддержала Галкина жена.
– Так тебе же туго, говоришь! – глумливо продолжал Василий. – Ты сам сказываешь, что на ноги тебе подняться неспособно, – ну, пошто же ты не бросишь волынку свою да не пойдешь совместно с прочими, примерно, в колхоз?
– Ищи других дураков! – заносчиво вскинулся Галкин.
– Думаешь, в колхоз одни дураки идут? – прищурился хитро и выжидательно Василий.
– Конешно, не одни дураки, а и гольтепа да лодыри...
– Вроде будто тебя, Василий! – уколола Василия хозяйка.
– Не спорю! – вскипел Василий, и яркие пятна пошли по его желтому нездоровому лицу, – нисколечка не спорю! Был гольтепой, самым последним был. Вот ты давеча меня еще и пуще попрекнул!.. Был! А отчего был?.. Эх, и не стоит тебе объяснять!.. А вот теперь я полный человек. И тебе со мной разговор доводится иметь... по обчественному делу разговор! А ране-то разве ты на это самое пошел бы, чтобы с балахонским самым последним человеком как с ровней разговаривать? Да ты бы и слушать меня не стал!.. Понял ты, какая это есть штуковина камуна, колхоз? Понял?
Угрюмо и насупленно молчали Галкин и хозяйка. Молчание их было озлобленное и хмурое. Василий поглядел на них, сердце у него отошло, и, довольный сам собою, он усмехнулся:
– Помалкиваете? Крыть-то, видать, нечем!?
– Спорить мне с тобою никакого резону нету... – с натугой промолвил, наконец, Галкин. – Я б тебе ответил, я б тебе покрыл, коли бы времечко иное было.
– Вот то-то и я говорю! – торжествующе тряхнул головою Василий. – Ну, ладно! Чего зря болтать. Давай-ка об деле. Уступаешь сено?
– Нет... Самим нужно.
– Да ведь у тебя лишка. Я знаю. Я объездил, доглядел. Целый зародище у тебя в дальней релке непочатый стоит. Куды тебе? Скота у тебя немного. Ты его на мясо же забил. На продажу... Не жадничай, Галкин!
– Мы не жадничам! – визгливо закричала хозяйка, – мы не жадные! Мы не хапаем чужого... А уж своего, кровного, не отдадим!
– За деньги, ведь, берем. Не задарма!
– Нет! Не дадим!
– Не продам! – Галкин впился злобным и опаляющим взглядом в Василия. Василий сощурился, нахлобучил старый картуз на голову и сплюнул:
– И как вас таких в середняках пишут!? Форменные кулаки вы! Мироеды!
3.
Разговор с Галкиным раздосадовал и разозлил Василия. Он сунулся в правление коммуны. Рассказал, пожаловался. И опять председатель, Степан Петрович, как уже было это однажды, твердо сказал:
– Силком не имеем права! Беззаконно!
– Да ведь они вредные! Они со зла не уступают!
– Все равно.
Тогда Василий сунулся в сельсовет. Два члена сельсовета поддержали Степана Петровича:
– Галкин середняк. Все, что с его полагается, выполняет. Захочет по соглашенью – отдаст сено, а не захочет, его воля. Законно!
– Ты, Василий, не мути! Камуна, она, конешно, камуна, ну, а кажный, если он, скажем, не кулак, имеет полное право своим добром командовать. Не мути зря!
Третий сельсоветчик почесал в голове и задумался. И, подумав немного, нерешительно заметил:
– Галкин, действительно, что напрасно говорить, в середняках идет. Не спорю. А неладно! С сеном-то у него выходит неладно! Спекулянт!
– Вот это самое и есть! – обрадовался Василий. – Спикулянт! Урвать хочет! Понимает, что до зарезу камуне сено требовается, вот он, понимаешь, и карежится!.. Товарищи сельсовет, неужто нельзя его тряхнуть?
– Нельзя! – сказали два сельсоветчика. А третий поглядел на них и промолчал.
Василий насупился. Он оглянулся кругом, оглядел стены. Увидел эти беленые стены, залепленные таблицами, портретами, плакатами. На плакатах ярко и сурово выведены были понятные и горячие слова и лозунги. И среди этих слов и лозунгов ярко и просто и понятно горело: «Уничтожим кулачество как класс!» И горело это во многих местах, на всех беленых стенах сельсовета.
– Вот! – озлился Василий, и лоб его покраснел. – Вот! Везде написано! Печатными буквами написано!.. А вы слюну распускаете. Изнистожить кулака!.. Как класс!..
– Как класс!.. – подтвердили оба сельсоветчика. – Это понять надобно. С умом. Как класс!.. Значит, с понятием. Если не числится в кулацком классе, значит изнистожать не полагается! Нельзя!
– А он душой-то кулак! – бурлил Василий. – Ты его в списках своих кулаком не записал, а он мурлом, душой да повадкой отчаянный и самовреднейший кулак!
– Не кричи! – сказали сельсоветчики, а председатель сельсовета в сердцах рванул к себе папку дел:
– Все тут установлено!.. Закон! Савецкий закон!.. Циркуляр!
– Ты мне чиркуляр не тычь! – вконец озлился Василий. – Чиркуляр твой, он бумажный! Ты мне суть дай! Дело!.. Галкин в середняках пишется, за его чиркуляр действует, а он мужик зловредный... Да гори он огнем, чиркуляр твой этакой-то!
– Не выражайся! – строго сказал председатель.
– Не выражайся! – поддержал председателя второй сельсоветчик. Третий откашлялся и примирительно заметил:
– Оно, Василий, не так-то, не этак-то просто... Оно, понимаешь, по предписанью. Сложно!..
Василий снова оглядел беленые стены, украшенные портретами, таблицами и плакатами, и тряхнул волосами:
– Сложно!.. будь оно проклято! – И вышел из сельсовета взъяренный и обеспокоенный.
Смятение и беспорядок унес он в мыслях своих. Все раньше казалось ему таким простым и понятным. Все просто и понятно выходило у него в голове вот и в этом деле с Галкиным. А столкнулся он с понимающими, знающими и поставленными у руководства людьми, – и все осложнилось, перестало быть простым и понятным.
Смятение и беспокойство нес в себе Василий, и рад был поделиться своими сомнениями с каждым встречным.
Но чем больше он толковал с людьми, тем запутанней становилось для него это ясное и несложное дело. По-разному относились слушатели к жалобам и рассказам Василия. Иные вместе с ним загорались уверенностью в его правоте, другие же толковали о законе, о порядке – вот так же, как Степан Петрович и сельсоветчики.
И ко всему этому приплеталось основное, самое главное: с кормами для скота было совсем не важно. Каждый лишний воз сена был ценен и нужен.
Вечером в столовой, после ужина, Василий подсел к группе коммунаров, раздумчиво и отдохновенно дымивших трубками. Это были все старые соседи его в прошлом по Балахне. Все такая же в прошлом беднота, как и сам Василий. Мужики потеснились на лавке, освобождая место для Василия, и лениво спросили:
– Шуруешь, Василий?
– Шурую, да толков мало.
– Отчего так? Смекалки мало у тебя, ай што?
Василий потер закорузлыми ладонями продранное на коленках сукно штанов:
– Смекалки тута мало требовается... Не в смекалке дело. Гадют сволочи!
– Хто?
– Хто?! – Василий оглянул своих собеседников и внезапно оживился, вспыхнул, встрепенулся.
– Братцы! – повысил он голос, – настоящей правды совецкой найтить я не могу! Скрозь пальцев она у меня скачет, а ухватить ее не могу!.. Дело прозрачное, как стеклышко, а туману в ем напущено, што и не провернешь!








