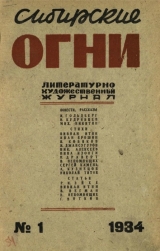
Текст книги "Жизнь начинается сегодня"
Автор книги: Иссак Гольдберг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц)
– Мы с тобой об чем тогда разговаривали, на постоялом?
– Ну, об разном...
– Забыл?
– Может, и забыл... – раздумчиво сказал Влас. – Выпивши я был. В голову ударило.
– Значит, забыл? – как-то по-хозяйски, придирчиво повторил Некипелов. – Так, значит, и запомним... Запомним, что ты как ветер в поле: то в одну, то в другую сторону дуешь!
Уловив обидное для себя в голосе Некипелова, Влас остановился.
– Об чем разговор? – резко спросил он. – Ты что, Никанор Степаныч, об себе думаешь? Должен я тебе, что ли? Пошто глотку на меня дерешь? Этак-то...
– Я глотку не деру... – сразу сдерживаясь, спохватился Некипелов. – У меня, вишь, сердце закипает: сволочи напроходь оказываются все!.. Я к тебе, как к другу, оногдысь сунулся. Могли бы мы иметь с тобой дело. Большое дело. Ждал я тебя. Мне к тебе не с руки на постройку эту было итти. Ждал я тебя. Ты тогды ведь обещанье дал, что придешь. А надул, обманул.
– Большое дело? – удивился Влас.
– Да. Я тебя с понимающими людьми соображал свести, а ты спрятался от меня.
– Недосужно мне было. Говорю тебе, работа. Ну, а заодно еще и промашка у нас там на постройке выскочила.
Некипелов при слове «промашка» насторожился.
– В каком роде? – быстро спросил он. – Что за промашка?
– Худое дело, – вздохнул Влас, – парня прикончили и, скажи на милость, самым бессовестным манером.
– Как?
Влас рассказал. И пока он рассказывал, лицо Некипелова менялось: сначала на нем было напряженное внимание, потом внимание сменилось сдержанной радостью и, наконец, когда Влас поведал о комиссии и собрании, внимание и радость сползли, и бурная злоба прилипла к его щекам, зажглась в глазах, задрожала на губах:
– У, гады! Изничтожили православного рабочего человека да еще тень на других наводят!.. До чего, господи, доходит, до чего доходит!.. Ну, что же ты своим умом об этом разумеешь? – обратился он к Власу.
– Темное дело... – уклончиво сказал Влас: – Ежели разбираться, так изнистожение, оно идет не с той стороны, откуль ты соображаешь.
– Не с той стороны? С какой же?
– От вреда это. Мешают некоторые... подстраивают. А потом – то да се. Говорю, темное дело!
Некипелов снова оглядел Власа, словно впервые увидел его по-настоящему.
– Скажи на милость! – зло рассмеялся он. – Ишь, какой ты понимающий стал! Учат тебя этому али как там, на постройке?!
Не поддаваясь на насмешку, Влас сдержанно сказал:
– Сам учусь. Мое обученье – ухо да глаз. Примечаю самостоятельно и в понятие вхожу. Вот в этом деле я так понимают: орудуют лихие люди, мешают работать. И что им надо?
Некипелов рванул себя за отросшую бороду и сверкнул глазами на Власа:
– Представляешься ты али в самом деле этакий ты агнец, прости боже?
– Мне что представляться? Я как понимаю, так и говорю.
В это время они подошли к постоялому двору. Молча прошел Влас за Некипеловым по грязному двору.
И опять, как несколько недель назад, угнездились они на постоялом дворе в задней, укромной комнатке. И снова, как тогда, на столе появились поллитровка, хлеб и огурцы. Но когда Некипелов разлил водку по стаканам, Влас отрицательно покачал головой:
– Не стану, Никанор Степаныч, пить. Не неволь!
– Немножко-то можно! Ну, а ежли душа не примает, не стану неволить. Не пей. – Некипелов поднял свой стакан, поглядел на него на свет и, сморщившись, отпил из него больше половины. Затем понюхал хлебную корку, стряхнул с бороды крошки и вздохнул:
– Лихие, сказываешь, люди там, на постройке твоей, орудуют? Так ты, Влас Егорыч, понимаешь?.. А я тебе честно скажу: плохое твое понимание! Супротивное совести и душе твое понимание!.. Не лихие люди, не злодеи, а, может, мученики, друг мой, в этом деле на распятие, на растерзание идут... Слыхал... – Некипелов потянулся к Власу и понизил голос, – слыхал, до чего дошло: с церквей колокола сымают, священнослужителей в подвалы садют, последние храмы божии закрывают!... И идет укрепление царства антихристова! И ежли безропотно поддаваться, так и впрямь антихрист одолеет!.. Вот... Вот я тебе оногдысь сказывал про понимающих людей, про таких, кои разные науки произошли. Противятся они нонешней всей этой чертопляске, прости господи! не поддаются!
– Не поддаются? – настороженно переспросил Влас.
– Ни в коем разе! – жарко подтвердил Некипелов. – Стоят крепко! Уповают, что в концы-концах изничтожится вся эта держава!.. И заметь, Влас Егорыч, не только уповают, а и действуют! Понимаешь, – действуют!
– Действуют?! – как эхо отозвался Влас. – Кто такие и по какому смыслу?
– Кто такие? Чудак! Люди разные. Не хуже, дружище, нас с тобой... Да не только здесь, у нас в Рассее, а сама заграница, иностранных держав первые люди!
– Действуют... – повторил Влас, устремив взгляд на поблескивающую бутылку, точно увидал там, внутри нее, что-то неуловимое, но такое знакомое.
Некипелов схватил свой стакан, поднес его к губам, но не отпил и сразу же поставил обратно на стол.
– Всего мира христьяне... Понимаешь, не как-нибудь, а всего мира! И имеются и здесь, вокругом... Ежли смотреть по-просту, без науки и соображенья, так выходит все шито-крыто, выходит, что крепка, мол ихняя держава, а по сути, Влас Егорыч, по сути – крепости в ей некорыстно. Не устоит! – Некипелов раздул ноздри и задрал голову кверху, и, когда задрал ее, то желтый кадык на его шее выпятился и стал упругим.
– Не устоят! – стукнул он крепко сжатым кулаком по столу. – Истинный бог, не устоят!..
Влас медленно поднялся на ноги. У Власа были хмуро сдвинуты брови. У Власа голос звучал холодом и неприязнью.
– Ты пошто, Никанор Степаныч, мне об этаком толкуешь? – в упор спросил он Некипелова. – Куда ты гнешь? Об державах иностранных ты к чему разговор ведешь? Я, што ли, не знаю об державах иностранных? Забыл ты разве, что я в партизанах был? Забыл?.. А мне памятно это. Я видывал, брат, всякое... Чехов перевидал я, румынов, поляков! Наводили они порядки на нашу землю! Еще и посейчас плачет она от ихних тех порядков!.. Ты мне не тычь в глаза державами иностранными! Не тычь! На кой чорт они тогды сунулись в наши дела? Рвать себе добро наше захотели!.. Когды чехи уходили но домам, мало они добра всякого нашего ухватили? мало они пограбили землю нашу?.. То-то! Для ради грабежу и помочи старому режиму сунулись они не в собственные свои дела. Для ради прямого разбою!..
Широко раскрыв глаза, Некипелов оторопело и тревожно следил за Власом. Глухая, беспомощная злоба охватила Некипелова. Он наклонил голову, шумно выдохнул воздух, как бы отдуваясь от чего-то опаляющего, и яростным, свирепым шопотом перебил Власа:
– По причине освобожденья! Помогать русским людям они приходили! Порушенную жизнь старались нам подладить!..
– Порушенную жизнь?! – вскипел еще сильнее Влас. – Помогать?! Вот мы им тогды за эту помочь сволочную ихнюю показали!.. Я, брат, по тайге ходил с дружками, с партизанами! Я грудь подставлял под пулеметы этих помогателей да освободителей! Я, ты думаешь, зря кровь свою проливать тогды в тайгу уходил!
Некипелов, тяжело дыша, молчал.
– Ты забыл, что я партизан? – наступал на него Влас, пьянея и сам возбуждаясь от своих слов, воспоминаний. – А, я, брат, не забыл!.. Ты в ту пору в доме своем в тепле да сытости оставался. Тебя никто не трогал, – вот оно это самое у тебя память-то и отшибло! А я помню! Крепко помню...
И в тесной каморке постоялого двора, дощатые стены которой тесно сдвинулись и отгораживали, казалось, от всего мира, лицом к лицу с Некипеловым, наливавшимся с каждым мгновеньем все больше и больше холодной и неуемной тревогой, – Влас, как никогда раньше, ясно и неповторяемо отчетливо вспомнил:
В далеких падях, в заснеженных долинах, там, где бездорожье, где нет человеческого жилья, где снег испятнан звериными следами, – месяцами бродили люди. Они переходили с места на место, они пробирались из пади в падь. Они сторожили и одновременно хоронились от беды. Порою, выследив врага и улучив удобный момент, они бросались из тайников своих на широкую дорогу. Трещали тогда ружейные выстрелы, однозвучно рокотал пулемет и вспыхивали гулкие разрывы гранат. И крик, яростный крик опаленных злобой, страхом и последним отчаянием бойцов, мешался со звуками выстрелов и взрывов.
В далеких падях шла горячая страда. Исхудалые, почерневшие от дыма партизаны сжигали тревожные дни. Порою тревога приступала к ним вплотную, и вот-вот могла захлестнуть, закружить: иссякал запас хлеба, а хуже того – патронов, а деревня, а свои люди были отрезаны, находились далеко. И тогда, чтобы разорвать эту тревогу, кто-нибудь потуже затягивал на себе опояску, взваливал за плечо винтовку и коротко говорил:
– Ну, ребята, я пошел...
И так же вот в хмурое зимнее утро ушел Влас от стана вместе с другими партизанами за патронами.
Укуталась тайга в гладкие, глубокие снега. На деревьях застыл узорчатой сеткой куржак, низкое небо с голубыми просветами меж белесых облаков падало на вершины елей и лиственниц. По колено в нетронутом снегу брел Влас, а за ним другой, помоложе, веселый и зубоскальный Пашка. Шли они, как обычные таежные промышленники, высматривающие добычу, белку. Ружья у них были охотничьи, старые берданы, но в натрусках на всякий случай перекатывался хороший запас самодельных свинцовых пуль. Проходили они, не останавливаясь, мимо четких звериных следов, под деревьями, в вершинах которых озорно и лукаво прыгали белки. По бездорожью, по снеговой целине пробирались они, – и путь свой узнавали по незаметным приметам, по таежным, охотничьим знакам. И путь их был длинен, тягостен и утомителен. Но самое трудное было не здесь, в тайге, не в бездорожье, не в глухих падях, где тонули они по пояс в снегу и, обливаясь липким потом, выкарабкивались по бурелому, по склонам. Самое трудное, опасное и тяжелое настало тогда, когда вышли они поближе к жилью, к людям.
Почуяв близость селенья, Пашка смешливо сморщился и созорничал:
– Эх, дядя Влас, мне бы пару чехов добыть!
– Молчи, – остановил его недовольно Влас. – Не за этим идем!
А потом было все сначала легко и удачно: благополучно пробрались они к своим в деревню, договорились о патронах, добыли их и снарядились в обратный путь. А когда тронулась в этот обратный путь уже вчетвером, с поклажей, Влас, как старший и опытный, предупредил:
– Такое дело, ребята: обязательно припас должны мы отряду доставить. И выходит – до последней капли крови.
– Ладно, – ответили дружно спутники.
– Ладно, – прибавил Пашка. – Не сумлевайся, дядя Влас.
В тайге, когда уже казалось, что пройдены все опасные места, Влас внезапно учуял что-то неладное.
– Окружают нас, – шепнул он товарищам.
И вот они стали петлять по тайге, стали уходить от опасности, от погони.
Они уходили, а те, незримые, наседали, не отставали, не отступали от них. И стало казаться, что дело погибло, что вот-вот их накроют, окружат и – главное – заберут патроны. Стало казаться, что выхода нет. Тогда Пашка, прижавшись к Власу и жарко дыша ему в ухо, предложил:
– Давай, дядя Влас, нарознь пойдем. Вы ступайте верной дорогой, а я облаву подманивать на себя стану... Давай, дядя Влас!
Влас сжался, сбоку взглянул на Пашку и с натугой сказал:
– Дак ты на погибель этак-то... На верную смерть.
– Ну, может, сдюжу! Я – фартовый!
Выход, предложенный Пашкой, был единственный. Наскоро попрощавшись, они разошлись в разные стороны. Пашка в одну, а они в другую. И скоро услыхал Влас грохнувший в стороне выстрел и ответные на него. И сказал угрюмо насторожившимся товарищам:
– Павел на себя манит... Не сдобровать парню...
Позже обошлось все для Власа и для двух его товарищей удачно: они без помехи добрались до стана, до отряда и доставили патроны. Пашка же не вернулся. А еще позже, когда отряд вышел из засады и двинулся к линии, то в стороне, на маленькой полянке, нашли Пашку повешенным на сухостойном дереве. Пашка был обезображен. Пашку, – видно было, – долго мучили перед смертью. У Пашки на обнаженной груди была вырезана пятиконечная звезда.
Начальник отряда с горя выругался:
– Румыны проклятые! Это они вместе с карателями!.. Сволочи!
– Сволочи!.. – закипело во Власе. – Какого парня замучили!..
Не одного Пашку и не один этот случай припомнил Влас, опаленный словами Некипелова. Вся многомесячная таежная партизанская страда быстро промелькнула в его воспоминаниях, все муки, все тяготы и лишения походной жизни, все издевательства и зверства врага. Но почему-то ярче и неотвязней всего выросло в памяти изуродованное тело Пашки, обнаженная грудь его, и на ней кровавая звезда...
– Я помню! – возбужденно сказал он, отрываясь от воспоминаний, и Некипелов вздрогнул, когда услышал в его голосе непримиримую злобу. – Я, брат, все помню!
Тяжелая, гнетущая забота легла на Некипелова. Украдкой оглядев Власа, он неуверенно заметил:
– В те поры нам, Влас Егорыч, туго, ох, как туго жить довелось. Вот и объявлялись люди, кои порушенную жизнь нашу принимались нам налаживать...
– Нам?! – вскипел Влас. – Это еще надо сосчитать, кому какую жизнь хотели налаживать. Может, тебе это на-руку было, а мне, скажем, нет.
– А ты чем хуже или, к примеру, лучше меня, Влас Егорыч? Мы из одного дерева, из одной колоды вытесаны. Я да ты – оба хрестьяне. Землей живем. Стало быть в одних мыслях ходим.
Власа уязвило. Он нахмурил брови и опустил глаза.
– Как бы не так! – возразил он. – Имеется отличка. У тебя, может, мысли в одну сторону, а у меня – в другую! Ты вот эвон каким хозяином жил да не тужил, а я горб свой гнул весь век!.. Конечно, тебя прищемило, ты и нивесть что говоришь.
– А тебя не прищемило? – прищурился Некипелов.
– Меня?! – Влас слегка смутился. – Меня тронули не с того, с другого боку. Не по нраву мне стало уравнение. Что, скажу для примеру, с Васькой балахонским меня на одну меру мерять стали... Ну, против колхозов я отпорен был. Не принимаю покеда что...
– Ну одним словом, коротко говоря – прищемили тебя, – ухватился Некипелов, но потянувшись к Власу. – Раззор тебе произвели, от семьи заставили уйти...
– Я сам ушел. Сам!
– Это все едино. Через душу твою переплюнули, ты и ушел. Это все едино, что заставили, что совесть твоя тебя с места окаянного тронула... Все едино!.. И нечего тебе за нонешние порядки держаться да нонешним правителям в ножки кланяться. Православный ты, богобоязненный человек, русский, одним словом, а на поводу можешь оказаться у всякого нехристя. И ежели тебе по-совести...
– Что ты мне все совестью да совестью в глаза тычешь? – вскипел Влас, которого этот бесконечный разговор уже тяготил. – Если по-совести говорить, так я от таких слов, какие ты мне загибаешь, давно отплеваться должен бы был, а то и того хуже...
– Та-ак!? – Некипелов оперся волосатыми кулаками в стол и слегка приподнялся, словно всплыл над ним. – Та-ак! Может, доносить станешь?!
Влас покраснел, глаза его заблистали. Он вспомнил свой недавний разговор с Феклиным, и ему даже показалось, что пред ним сидит именно Феклин, злой, взъяренный и чем-то отталкивающий от себя, а не старый земляк и сосед Никанор Степаныч.
– Может, доносить хочешь? – повторил Некипелов. – Доноси! Предавай! За тридцать серебренников... Как Июда Христа! Беги...
– Оставь, Никанор Степаныч, – отодвигаясь от стола, от Некипелова, брезгливо сказал Влас. – Оставь. Твоей судьбе судьей я не стану. Ну, не пара я тебе. Это попомни... Прощай!
Некипелов сжал губы и опустил, потупил глаза. Влас быстро шагнул к дощатой двери, толкнул ее и вышел.
На улице он шумно вздохнул в себя свежий воздух.
Глава седьмая
1.
Марья долго не могла взять в толк, по какой причине и для чего в коммуне стали делить людей, как ей казалось, на разные сорта. Собрание бедноты, на котором она сама не была и о котором по деревне ползли самые невероятные и нелепые сведения, растревожило и смутило ее.
Но не одна Марья была встревожена и смущена. Нашлись многие, такие же, как и она, бывшие середняки, которые в этом небывалом для них собрании бедноты увидели для себя какую-то угрозу. А тут еще со стороны угрозу эту стали раздувать некоторые единоличники, те, которые выжидательно и тревожно посматривали на коммуну. И если до собрания слухи о нем и предположения были смутными и неясными, то теперь, назавтра после него, у досужих и легковерных крестьян, у тех из них, кто привык хватать всякую молву с налету и, не разжевав ее как следует, пускать с прикрасами дальше, нашлась горячая работа.
На утро после собрания, когда уже катились и множились нелепые слухи, Марья спросила Веру, жену Василия:
– Василий-то твой, сказывают, в управители, в уставщики пролез, командиром над нами всеми ставит себя!?
– С чего это ты, Марья Митревна, – посмеялась Вера, внутренне польщенная, – Василий и в мыслях не доржит об этим.
– Не доржит! А вот, сказывают, бушует он, кулаков промеж нас ищет. Гнать коих из коммуны собирается... И что это такое! Давно ли всех тащили сюды, а теперь наоборот!
– Василий тут не при чем. Повыше его имеются... Не спорю, мужику моему, Василию-то, нонче ход не тот, что раньше. Дак это оттого, Марья Митревна, что он с головой. Не пропащий какой!
Марья молча взглянула на Веру и подумала: «Ишь! А ведь прежде-то Василий твой совсем пропащий да никудышный был!» Вслух же она добавила:
– Узнала бы ты у него, как да при чем тут вся ихняя заваруха.
– Ну, узнаю, – снисходительно мотнула головой Вера. – Поспрошаю.
В этот же день в обеденное время, в сельсовет приехали заимочники Степанчиковы и Галкин. Галкин вошел в помещение сельсовета решительно и как-то даже горделиво. Оба брата Степанчиковы всунулись в дверь бочком, присмиревшие, встревоженные.
В сельсовете в эту пору было много народу. Рядом с председателем сидел за столом Василий. Галкин, взглянув на него, сдвинул брови.
– Што делаете? – вместо приветствия громко сказал он, обращаясь к председателю. – По какому закону зорите меня? В каких таких основаниях сено у меня записали, скотишко на заметку взяли?
– Обожди! – коротко ответил председатель и отвернулся от Галкина.
– Мне ждать недосужно! – заносчиво возразил Галкин. – Работа в поле стоит. Сам знаешь...
– Обожди, обожди! – вмешался Василий.
– А ты тут при чем? – зло поглядел на него Галкин. – Мы кажись, не выбирали тебя в совет! Твоей власти в этом деле покамест еще нету!
Председатель примирительно остановил Галкина:
– От бедноты поставленный он. Имеет основание.
– Имею основание! – сверкнул глазами Василий. – Кабы не имел, не лез бы!
Продолжая свое дело, председатель вытащил из желтой обертки лист бумаги, испещренный именами. Василий наклонился к нему и что-то тихо сказал. Председатель отложил бумагу, и недовольно скривил губы и вздохнул.
– В таком разе, – вяло промолвил он, – как говорится, пересмотр положения. Которые ранее без дивидуального, а установлено, что ошибочно. Вот ты, к случаю, Галкин. Из середняков тебя вычеркиваем...
– С каких это оснований! – привскочил Галкин. – У меня ни работников, ничего другого!
– С таких оснований, – внушительно пояснил Василий, потянув к себе от председателя лист, и лицо его покрылось пятнами, – с таких, что замечаем повадку твою и положение...
– За зубы расплачиваешься!? – вскипел Галкин. – Отыгриваешься на мене?! Силу взял! Не рано ли?!.
Кругом насторожились, и стало тихо. Кто-то засмеялся, но тотчас же оборвал свой смех. Председатель беспокойно оглянулся на Василия. У того заходили желваки на щеках.
– Рано? – тихо, но угрожающе переспросил он. – А, может, наоборот – поздновато? Ежли бы ранее я да иные кои позаймовались этими делами, так ты не успел бы, бать, лучшие животишки на мясо извести да по базарам распихать! Понял ты свое положение? Али еще не понятно тебе?
Галкин насупился, опустил глаза и тяжело задышал.
– Кровными моими потами нажито... – с натугой выдавил он из себя. – Мое дело – продавать иль не продавать! Свое на базар возил, не ворованное! Свое!
Голос у Галкина стремительно повысился. Он поднял голову и дико, почти исступленно закричал:
– Свое! Собственное!..
Председатель слегка отстранился, словно убегая от этого крика. Председатель украдкой оглянулся кругом и, спохватившись, сердито оборвал Галкина:
– Не бушуй! Слышь, не бушуй, Галкин!
Братья Степанчиковы переглянулись, вздохнули и несмело поддержали Галкина:
– Диствительно, свое продаем... Не чужое.
– Самими наработанное да нажитое.
– Не бушуйте, – обернулся к ним председатель. – Чо на самом деле. Порядка не знаете?.. Имеется пересмотр об вас. Сведения достоверные. Вычеркиваем из середняков! Напрочь!
– А закон?! – вздохнули оба брата.
– Законом не тычьте! Закон не об вас!..
– Закон у них спрятаный, – снова прорвался Галкин. – Какую хошь подлость – всё под законы пишут!
Председатель поднялся на ноги и застучал кулаком по столу:
– Граждане! Об подлости правов вам не дало рассусоливать! С такими словами можно и клопов в холодной покормить!
– Не пугай. Мы – пуганые!
– Не пугаю, а упреждаю... А что касаемо дела вашего, ежели притензии или недовольство имеете, ваша воля жаловаться в рик. Куды угодно!
– Понастроили камун, залапали себе все... Раззор крестьянству учиняете. А как мы не в камуне, вот вы и притесняете.
Василий схватил список, который все время лежал то перед ним, то перед председателем, и поднял его вверх:
– Вот тут всякие на отметку взяты. Не глядя, что в камуне, либо нет. Тут всякие!.. Перешерстку делаем. Обманных, неправильно влезших вытрехаем. Все равно – в камуне он, нет ли...
– У-у! Обормот! – кинул в него зло и с ненавистью Галкин. – И когда тебе шею своротят?.. Восподи, да как же таких земля носит!? – И, плюнув себе под ноги, Галкин круто повернулся и стремительно пошел к двери.
2.
Три дня в сельсовете и в правлении коммуны шла кутерьма. Три дня судили и рядили о списке скрытых кулаков, пробравшихся в коммуну. Три дня в столовой, на скотном дворе, возле амбаров, а порою и на поле, на работе отдельные группы коммунаров и единоличников пылко сцеплялись между собой, бросая на время работу и споря о правильности или неправильности исключения из коммуны или внесения в списки кулаков того или иного из крестьян.
По прошествии этих трех бурных дней список выявленных кулаков был составлен окончательно и утвержден. И из коммуны выставили шестерых кулаков. Но еще больше кулаков было обнаружено по всему сельсовету, особенно среди заимочников: у Галкина и у Степанчиковых, у десятка таких же, как они, когда за них взялись вплотную, обнаружили хитро спрятанное добро. Установили, – а до этого и забыли совсем, что у всех у них в прошлом работали батраки, которым приходилось солоно на хозяйской работе да на хозяйском хлебе. Стоило только копнуть, и в сельсовет посыпались жалобы и сообщения батраков на своих прежних хозяев, укрепившихся в середняках и втихомолку вредивших коммуне.
– Ну и черти! – восхищенно и вместе с тем укоризненно кричал Василий, выслушивая сообщение какого-нибудь единоличника или коммунара о том, что вот, мол, тот-то мужик прижился крепкий, а не так-то давно, еще в прошлом или позапрошлом году, у него трое батрачили.
– Ну и черти! – наседал на сообщавшего Василий. – Ты пошто молчал все время?
– Не приходилось все, – виновато оправдывался крестьянин. – Куды тут упомнишь. Забываем мы старое...
– Старое забывать нельзя! – горячо наставлял Василий. – Ни в коем разе нельзя!
И вот выволакивалось на белый свет старое, давно забытое. Выволакивалось подчас неуклюже, неумело. Подчас и совсем не правильно.
Было в эти дни такое. В сельсовет пришли двое – хромой сердитый старик и молодой парень, который скалил зубы и все время приговаривал:
– А вот докажу! Честное слово, докажу!
Хромой старик поспешно приковылял к столу и сердито закричал:
– Уймите вы его, ради создателя! Уймите окаянного!
У старика и парня стали допытываться – в чем дело. Парень, не переставая ухмыляться и скалить зубы, сообщил, что старик – заядлый кулак:
– Прямой он сплататор! Выжига и глот! В третьем годе у него своячница моя в работницах жила!
Старик замахал руками, забрызгал слюной и плачущим голосом заорал:
– Три месяца! сего-то три месяца у меня Аксютка прожила!.. Товарищи! граждане сельсовет! Старухе моей болезнь в поясницу в та поры прикинулась, ну и взял я ее, девку-то, будь она неладна!.. Три месяца!
Дело стариково разобрали. Хромого успокоили. А парень насмешливо поглядел на него и, не унывая, заметил:
– Ну, твой, Левонтий Петрович, фарт!
В эти же дни кто-то поднял вопрос о Марье и ее детях.
– Медведев от коммуны отшибся. Супротивный он был. Загордился. А как ежели жена его и детеныши по его дорожке поскачут?
– Не вышло бы чего худого для обчества, для камуны? – подхватил другой.
Но на защиту Медведевых поднялось большинство.
– А что же худого могут они доспеть? Они работают в комуне честно и правильно, как все. На что парнишка малый, Филька, да и от того польза есть!
Первым из Медведевых об этих разговорах услыхал как-раз Филька. Он пришел к комсомольским ребятам и, помня свою беседу с трактористом, стал добиваться путей, которыми можно получить путевку на курсы трактористов. Ребята послушали его, посмеиваясь, и вдруг огорошили:
– А тебя, Филя, может, и из коммуны вышибут! Тятька твой противник колхозам был...
– Вышибут? – дрогнувшим голосом повторил Филька, обливаясь горячим румянцем. – Как жа это? За что?..
– Ты не нюнь! – заметив, что у Фильки стали вздрагивать губы и глаза наливаться слезами, успокоили его ребята. – Не нюнь, Филя! Разберут, а потом, может, и оставят!
– Так ведь это тятька! – глухо сказал Филька и засопел. – Мы тута не при чем... Мы сами тятьку уговариваем. А он молчит!
– Ну, окончательно еще ничего не известно. Подожди!
Филька прилетел домой взволнованный, пылающий обидой и стыдом. Он застал Зинаиду и обрушился на нее с жалобами:
– Вышибут! Зинка, ребята говорят, что вышибут нас из камуны... за тятьку!
У Зинаиды было озабоченное лицо. Но она сразу же остановила недовольно и раздраженно брата:
– Не трещи! Чего каркаешь?! Вышибать не вышибают, а разговоры болтают кругом. Молчи!
– Мне как молчать?! – возмутился Филька. – Я на курцы хочу, чтоб на тракторе работать!..
– Нос-то раньше утри! – рассмеялась, просветлев, Зинаида. – Тоже на тракторе работать лезет!
– Зинка!.. – сунулся на нее с кулаками Филька. – Ты не задирайся! Не ширь.
– Не воюй! – отстранила его сестра. – Я тебе нос-то подотру! – Тракторист!
– Широконоска ты, вот! – выругался Филька. – Я полный работник, а ты баба. Тебя на машину не пустят. Подол тебе мешать будет. Курица!..
Зинаида рассмеялась Фильке в лицо и отошла от него. Филька нахмурился, надулся и замолчал. Понаблюдав за ним молча со стороны, Зинаида перестала смеяться. Она почему-то неожиданно вздохнула и ласково произнесла:
– Дурачок ты, Филька, право, дурачок! Ты учиться хочешь, а сам без-толку шляешься...
– Я трактористу Миколаю Петровичу помогаю.
– Много ли от тебя ему помощи? Ты лучше бы в пионеротряде работал бы.
– Там махочкие... – возразил Филька пренебрежительно. – У них штаны мокрые.
– Не дури. В пионеротряде ты бы поработал, оттуда тебя бы и в комсомол потом передали. А там, может, и в самом деле путевку тебе на курсы устроили,
– Значит, не вышибут нас? – вернулся к прежнему Филька. – Не тронут?
– Не должны трогать. Обсуждали об нас. Тятю нехорошо поминали. Да вот и маму трясли. За то, что Устинье по несознанию помогала ее добро прятать.
– А я ведь тогды унес узелок-то, – засверкал глазами Филька.
– Это правда. Это на обсужденьи было. Признали, что мамка у нас малосознательная.
Филька махнул рукою:
– Ух, совсем она малосознательная! Ничего не понимает!
У Зинаиды снова в смехе вздрогнул подбородок.
– Ты-то сознательный! Ой, Филька! Хвастун ты, хвастун!
– Я понимаю! – вскипел Филька, – Я все понимаю!.. Вот я опять напишу тятьке письмо! Напишу, не побоюсь!..
– Попробуй! – усмехнулась Зинаида. Лицо ее стало серьезным. Она задумалась.
3.
Солнце пригревало яростней и веселее... На выгоне зеленели молодые травы. И колхозный скот жадно выщипывал свежий, душистый подножный корм.
Старик-пастух грелся на пригорке, оглядывал свое пестрое войско и изредка покрикивал на отбившуюся от других скотину.
От самой поскотину тянулись поля коммуны. Еще неделю назад трактор пыхтел совсем близко, от деревни, а теперь его не видно было уже от поскотины. И где-то далеко, за буграми, чуть слышно доносился его рокот.
В близких полях уже отсеялись. Бригады теперь выезжали рано на заре далеко, за пять, десять километров. Утром, когда солнце еще скрывалось за густым сосняком и небо на востоке чуть-чуть загоралось восходом, у амбара с инвентарем гулко перекликались голоса, и завхоз Андрей Васильич жарко спорил с отправляющимися на работу коммунарами за каждый обрывок веревки, за каждую лишнюю горсть семян.
Влажный холодок плавал над землею, люди зябко ежились и позевывали: томил еще не совсем согнанный короткий сон, – тени лежали расплывчатые, неясные, нечеткие. И вот в предрассветное томление врывалось оживляющее, ликующее, долгожданное: над верхушками сосен, над зазубренной стеной леса, предшествуемое алым, золотым, пурпурным гореньем, выкатывалось ослепительное, пылающее ребро солнца. Воздух становился сразу прозрачным, светлым, сухим. Сразу густели и чернели тени. Сразу на лицах оживали румянцы. И без сговору, без ряды и препирательств, как разбуженная этим долгожданным и внезапным рассветом, вспыхивала, загоралась песня. Отправляющиеся в поля, на работу начинали петь.
Песня будила сонную деревню. Она широко катилась впереди артелей, идущих и ехавших по широкой улице. Она влекла за собою грохот, громыханье и скрип телег, и дробный топот копыт, и шум шагов. Песня бодрила, пьянила, как крепкая душистая брага.
Сжимая вожжи в руках, вытянувшись во весь рост в телеге, вместе с другими пел Василий. Он пел и упивался своей песнею. Слушал свое пение, отмечал согласное вплетанье своего голоса в хор других, дружных голосов. Слушал, и радостное, растерянное, свежее изумление светилось на его лице. Слушал и пел, пел и слушал и все не мог припомнить: когда же он пел раньше? когда?
Песня катилась впереди коммунаров. Звонкий голос, покрывая голоса других певцов, звонкий, чистый и влекущий девичий голос словно плыл над всеми. Словно он один, этот девичий голос выводил по-настоящему песню, а другие были лишь основанием, подножием песни. Словно только для того лишь пели все, чтоб девичий голос этот извивался гибче и был упругим, глубоким и ясным.
Пела Зинаида.
Закинув узелок за плечо и подняв лицо к солнцу (и сверканье трепетало на этом лице), шла Зинаида немного впереди других женщин, и еще впереди, опережая ее, плыла ее песня – простая, высокая, как вопль, трепещущая, как радость. Плыла бодро, сильно и ликующе вперед, все вперед.








