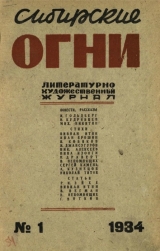
Текст книги "Жизнь начинается сегодня"
Автор книги: Иссак Гольдберг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)
– Кровопийцы! На нашей кровушке жиреют! Нашим потом живут!.. Грабители!
– Какие ж они грабители? – огорчалась она. – Они с умом живут. Чисто. Им удача идет. А ежели на них люди работают, так не задарма же! Им польза, да и люди кормятся, питаются коло них!
И когда пошло раскулачивание, и деревня перетряхнула все добро у Устиньи Гавриловны и, перетряхнув, ахнула от обилия и богатства кулацкого двора, Марья пожалела Устинью Гавриловну. Марья пожалела, что вот разоряют богатое, крепкое, со всех сторон по-хорошему и умно налаженное хозяйство. Правда, у нее где-то далеко-далеко в сознании шевельнулась остренькая зависть к Никанору и его жене, которые сумели сколотить себе такое добро. Но жалость к обиженной Устинье Гавриловне пересилила эту зависть. С широко раскрытым, переполненным жалостью сердцем пришла она к старухе на Балахню. И тут они обе поплакали досыта.
А соседи глумились над слезами, над жалобами кулачихи. Соседи были безжалостны.
– Ишь! – толковали они, присматриваясь к тому, как притихла, прибеднилась и оробела старуха. – Ишь, какая сирота казанская! Приставляется-то как! Поди Никанор не мало с собою добра унес!.. Хватит им на дожитье!
– Не без этого!.. Хозяйство у них отняли, а денег-то не нашли! Деньги с Никанором уплыли!..
Марья не верила. Ей казалось, что деревня несправедливо судит о Никаноре. Она была уверена, что никаноровских разорили дотла и что у них ничего не осталось. И уверенность эта тянула ее доброе сердце к старухе.
Но время шло, и Марья стала порою примечать, что Устинья Гавриловна в чем-то хитрит пред ней, что слезы ее очень быстро высыхают, что она слишком быстро переходит от слез, от жалоб к уверенной и даже веселой улыбке, и чем дальше, тем спокойней говорит о своем будущем. И у Марьи шевельнулось какое-то неловкое досадное чувство. И это неловкое чувство к Устинье Гавриловне окрепло и стало большим, когда старуха рассказала о проделке сына, об его отречении. В этой проделке Марья не все поняла, не все ей было ясно и доступно, но одно хорошо уразумела она: что тут какой-то нехороший обман.
И доверие к Устинье Гавриловне дрогнуло и пошатнулось у Марьи.
Забежав как-то к ней, она застала ее возле раскрытого сундучка, в котором она рылась. Устинья Гавриловна испуганно захлопнула крышку и плаксиво, но с сухими и насторожившимися глазами сказала:
– Вот, Марьюшка, в тряпье, в остатках бросовых роюсь! Совсем нас раздели, исподнего по единой паре оставили, да и то драное... Ищу, не завалялись ли где подходящие тряпки!
Но Марья успела разглядеть в сундучке кусок нового ситцу. Марья промолчала и, недолго посидев у старухи, ушла с обидой в сердце.
В другой раз она зашла к Устинье Гавриловне в то время, когда та пила чай. На столе, рядом с помятым, стареньким самоваром, стояла стеклянная сахарница, полная сахару. Устинья Гавриловна быстро сунула сахарницу за ящик и заулыбалась:
– Проходи, проходи! Чайку со мной попьешь!.. Да что я?! Какой тут чай, – малинка у меня сохранилась, малинку пью... А уж сахару нет! Скуса его, Марьюшка, не помню!.. Садись!
Марья отказалась от чаю и в сердцах подумала: «Скрывается от меня! Хитрит!»
А старуха делала вид, что только одной ей и доверяет. И однажды показала ей это доверие на деле.
В тихий весенний вечер она пробралась к ней потаенно, задами, прошла через огород и взволнованно спросила:
– Одна ты?
– Одна.
– И ребят нету?
– Паужинают ребята в столовой.
– Это хорошо!.. Я к тебе, родная, за милостью. Помоги мне, Марьюшка!
Марья взглянула на Устинью Гавриловну, видит – нет на той лица, пожелтела, испуг в глазах лежит.
– Что стряслось, Устинья Гавриловна?
– Спрячь, Марьюшка! Спрячь! – зашептала Устинья Гавриловна и сунула Марье какой-то узелок, который держала под легкой шалью. – Перетряхивать опять, сказывают, меня седни будут... Последнего решить хотят! А тут добришко кой-какое. На тебя на одну вся надежда!
Марья растерялась:
– Куда ж я спрячу?
– А туда же, Марьюшка, где ваше схоронено!! Небойсь, у Власа потайники водятся, не то, что у моего Никанора!
– У нас ничего спрятанного нету! – огорченно и обиженно ответила Марья. – Мы не прятали!..
– Ой, девонька! Ну, как хошь, а сунь куды-набудь, выручи!
Сверток остался у Марьи, возбудив в ней тревогу и недоверие.
4.
Три человека стояли пред толпою и, охрипнув от крика, бились над простою и понятною целью: надо было разбить мужиков на бригады.
– Вот у Петрушину падь ступайте шешнадцать плугарей. Выходи шешнадцать! – кричал один. И ему в ответ:
– Петрушину опосля! Петрушина пущай обсохнет!.. Начнем с релки, от Журавлиных бугров!
– От Журавлиных самое сподручное, – гудели в толпе.
– Подчиняйтесь, скажем, распоряжению совета! – кричал другой. – Доржите, блюдите, ребята, тисциплину! Што приказано, так без гырготни и хаю! Сполняйте – и все!
Третий срывал шапку с головы и хлопал себя по коленям:
– Эх, черти! Сколько времени зря проводим!.. Ну, черти! Ну, дьяволы!
Солнце стояло высоко. Грелись в ленивой синеве белые облака. Разворачивался, яснел и улыбался полный, веселый день.
Васька выскочил из толпы, присунулся к трем и ожесточенно проорал:
– Давай мне других коней! Давай справных!.. Я что на таких лешавых скотиках копаться буду?.. Меняй мне упряжку!
– Товарищи! – замахал руками один из троих, и остальные двое повторили его жест. – Товарищи коммунары! Соблюдайте порядок!.. Катитесь, черти, шешнадцать работников у поле!
День яснел, и упругая синева гулко вбирала и себя крики.
Были первые недели жизни и трудов коммуны «Победа коммунизма». Всюду шли споры, везде бурлили, порою страстно и горячо о пустяках, о самом простом и привычном. Правление коммуны разрывалось, не поспевая наладить порядок и установить прочную, крепкую, настоящую работу.
Но это было только в самые первые недели, в самые первые дни жизни коммуны. Ибо скоро сколотилось крепкое и дружное ядро коммунаров. В правление коммуны пришли один за другим ребята и кой-кто из поседевших уже мужиков. Пришли и сказали:
– Ну, этак-то, товарищи, не пойдет у нас дело! Беспорядок!
– Беспорядок! – огорченно и немного сконфуженно согласились председатель и завхоз.
– Давайте совместно дело устраивать!.. Обчими силами, по-коммунарски!
– Вот это ладно! Давайте!
И при первом же после этого мелком столкновении на раскомандировке, когда кто-то плакался на плохой хомут, а другой ругал расхлябанный и неналаженный плуг, раздался властный и нетерпящий возражений и споров окрик. Коммунары изумились, остолбенели, подобрались. Коммунары обступили приказывающего, властного, зашумели:
– Чего кричишь?
– Командер! Дурочку такую брось!.. Подданных тебе тута нету!
– Командуй в другом месте! Над дураками!
Шум разросся. Он взметнулся десятками дюжих, горластых криков. На шум собрались, побросав кой-какую работу, другие, возившиеся по-соседству коммунары. Прибежали, разжигая в себе захлестывающее, подмывающее любопытство, бабы. Прискакали ребятишки.
И под открытым небом, на широкой улице, внезапно, без всяких повесток и оповещений, состоялось собрание. Посыпались жалобы и сетования на всякие житейские мелочи и пустяки. Как на суматошливом сходе, кроясь за спиной других, заорали несуразное и непутевое крикуны. Но вокруг правления коммуны сразу образовалось дружное и напористое ядро. Крикуны и бузотеры с пугливым изумлением почувствовали, что отпор им идет от сплоченной и согласованной кучки, что кучка эта растет и забирает силу и что с ней зря не поспоришь.
Марья со стороны, не мешаясь в толпу, присматривалась ко всему, что происходило в этот день. И ушла с этого собрания, происходившего под открытым небом, раздраженная, негодующая, но чем-то втайне смущенная:
– Шалыганы! – с пренебрежением и злобою сказала она вечером ребятам. – Орут, орут, а работа стоит! Никаких толков!.. Им бы, без спору, пахать да пахать, а они вот что!.. Раззор!
Филька возился молча с чем-то у порога и ничего не ответил. Но Зинаида, сверкнув молодыми, крепкими зубами, весело откликнулась:
– А с Петрушиной падью, сказывали ребята, к завтрему, к обеду управятся! Взялись дружно!
– Дружно! – передразнила мать. – У вас дружно-то в столовке из чашки ложкою хлебать!.. Работа! Как завели эту коммуну, так все и стоит, ни с места!.. Рази этак-то, к примеру, у нас бывало? Влас об этую пору уж отпахивался!.. А тут...
Марья махнула рукою и ожесточенно рванула с полки самовар.
– А трактор? – брюзгливо и по-взрослому снисходительно вмешался Филька. – Не видала ты, как интер жарит? Погляди!
– Трахтор... – приостановилась мать, прижав к животу тусклый самовар. – Вот спортится, а кто ладить его станет? Трахтор-то ваш – не мужичьи руки! Кака-нибудь заминка выйдет, и сядет коммуна с ем!..
...Трактор многим не давал покою. Когда впервые выехал он в поле и три лемеха рванули жирные широкие пласты земли, мужики, в настороженности и ожидании шедшие следом за машиной, приостановились и нелепо, ненужно, но добродушно и ласково выругались. Васька подскочил к трактористу, когда тот провел первую четкую борозду и объезжал полем, налаживаясь прокладывать вторую, подбежал и восхищенно заорал:
– Той!.. Паря, погоди! Дай мне за колесо подоржаться!.. Ну, дай, сделай такую милость!
– Отстань, не вяжись, Васька! – зашумели окружающие.
– Куда ты на машину? Чувырло спортишь!..
Тракторист блеснул улыбкой и покачал головой. Васька разочарованно и сконфуженно отскочил в сторону.
– Я научусь! – погрозил он кому-то. – Увидите!..
Вокруг трактора по коммуне и в ближайших деревнях шли большие споры. О тракторах в этих местах только слухом слыхали, но видеть их не видывали.
Первый выезд в поле гудящей машины, на которой чужими буквами стояло знакомое слово «Интернационал», развязал языки. И неожиданная выходка Васьки рассмешила и озадачила коммунаров.
5.
От Власа не было никаких вестей. Правда, уходя, он наказывал Марье:
– Ты не хлопочи! Коли если не объявлюсь в скором времени, не тревожься! Не сгину!..
Но Марья тревожилась. Она не знала толком намерений и планов мужа, она только смутно представляла себе, что Влас подался на новые места, пошел устраиваться где-нибудь получше. Чуялось ей, что хлопочет он в городе, а о чем хлопочет, не ведала, не понимала. Порою она почему-то воображала, что Влас бродит по тайге, как в те давно ушедшие, скорбные и страшные годы. Казалось ей, что мужик в сердцах на новые порядки бросился куда глаза глядят, ни о чем не думая, не хлопоча о будущем, об устройстве семьи. И тогда ее охватывала хозяйственная тревога, она на мгновенье забывала о том, что старого хозяйства вовсе и нет, а на месте него колхоз, коммуна, общее, – и угнетала себя тоскою о всяких домашних мелочах.
– Вот изгородь бы, ребята, надо в Мокрых Лугах обладить, а то подойдет время, стравят покос-то! – говорила она озабоченно детям, а те смотрели на нее насмешливо и качали головами:
– Дак кто травить-то будет?! Покосы теперь колхозные, общие!
– Никакие изгородей!..
Марья приходила в себя. Сконфуженно и сердито вспоминала она, что ведь хозяйства-то и впрямь нету, того, прежнего хозяйства, о котором сердце болело, к которому душа лежала. Она вздыхала. Мысли ее уплывали к прошлому, к Власу. И в мыслях этих были горечь и обида.
Иногда Марья при детях начинала жаловаться на свою судьбу. И дети, скупо и вяло слушая ее, были в такие минуты какими-то чужими и холодными.
– Бесчувственные вы! – разражалась она обидчиво. – Никаких понятнее! Вот и об отце не пожалеете!
– А что об им жалеть? – взъелся как-то Филька. – Он зачем бросил все?
– Зачем?! – всполыхнулась Марья. – У его сердце изболелось, на этакое глядючи! Наживал, наживал своим горбом, а тут все прахом пойдет!
Зинаида, чинившая какое-то тряпье, отставила руку с иглой и наставительно сказала:
– И вовсе ничто прахом не идет! В правленьи говорили: если план выполним, посевной, будем тогда и с хлебом, и со всем. Вся коммуна!
– Пла-ан!.. И слова-то не христианские завели! – вспыхнула Марья и сразу перевела на свое. – Об отце окончательно вы, ребята, забыли!
Тогда Филька, разрывая тринадцать весен, лежавших над его светлой встрепанной головой, и сразу вырастая и мудрея, засверкал глазами и раздул ноздри:
– Отец!.. Тятя без пути ушел! Он от этих самых кулаков ума набрался! Пошто он бросил все? Пошто вместе со всеми не остался?
– Нам только срам от этого! – сурово вмешалась Зинаида, поддерживая братишку. – Вроде кулаков... лишенцев.
– Ах, беды! – всплеснула руками Марья и не знала: заплакать ли ей, или изругать непослушных поперечных детей. И, заглушив в себе горечь и негодование, только пригрозила:
– Вот, даст бог, Влас устроится где по-хорошему и вытащит нас на новое житье. Бросим тогды эту коммуну!
Но ребята снова взглянули на нее насмешливо и укоризненно и оба дружно заявили:
– А мы отседа никуда не поедем! Тут нам не худо!
– Не худо, мать!..
6.
Пашни чернели взрыхленной, причесанной землею. Пашни тянулись во все стороны сплошным полем, без межей, без вех, без изгородей.
Коммунары, выходя в поле, оглядывались на восток, и на запад, и на юг – и всюду видели свою, общую неделенную землю. И коммунары, пряча непривычную, какую-то тревожную радость, ласково шутили о земле, которая раскинулась широко, как барыня, как стародавняя купчиха.
Иной раз, завидя за рубежом коммунарских пашен одинокого пахаря, крестьянина соседней деревни, в которой осталось много упорных и неподатливых единоличников, коммунары весело пересмеивались, и кто-нибудь, чаще всего Васька, задорно кричал:
– О-эй! Помешшик! Орудуешь? Одному-то, гришь, сподручней?! Ну, копайся, тужись, помешшик!.. Ковыряйся!
Одинокий пахарь не отвечал на насмешливые крики. Он только оборачивался в сторону коммунаров и неоглядной шири земли и украдкой сумрачно посматривал на шумливых соседей.
Соседняя деревня настороженно следила за жизнью коммуны. Из соседней деревни приходили мужики, забирались на кухню, в столовую и цепко оглядывали: как там и что. И еще острее и напористей вглядывались они в рабочий распорядок коммунаров. Или ходили возле сараев, где хранились машины, щупали стальные и чугунные части и, словно обжигаясь об них, быстро отстранялись и говорили, отвечая на собственные мысли:
– Ежели, конешно, с умом действовать, то больших делов наделать можно!
– А мы, думаешь, не с умом? – обижались коммунары. – У нас, значит, делов больших не будет?
– Как сказать... Неизвестно. Кабы на себя робили, а то...
– На кого же мы, как не на себя? Чудак!
– Не знаем! Не знаем! – хитро прибедниваясь и стараясь казаться простецами, уклончиво и загадочно отвечали мужики.
Кто-то из соседей единоличников пришел в правление коммуны:
– Вот вы камуна... Помогите, товарищи! Семян нету. Можно сказать, на пропитание жизни нехватка, а об семенах – одно скажу, горюшко!
Председатель озабоченно наморщил лоб.
– Туго у нас, брат, у самих. Мы нонче более шестисот гаек[2]2
Т.е. – более шестисот га, гектаров.
[Закрыть] поднимаем. Самим не хватит!
Мужик оглядел стены, увешанные плакатами, и зло усмехнулся:
– Натрепали: ка-му-уна! Она, мол, усякую подмогу даст мужику, хрестьянину! А выходит так: прежде я бы пришел, к примеру, к Некипелову, к Никанору, он бы без разговоров до осени ссудил... Ну, вытряхнули вы его, а у самих кишка слабая!
– Скучаешь о кулацком режиме? – строго спросил счетовод.
– Об справедливости! – угрюмо отрезал мужик. – Я режимов никаких не знаю. Знавал умного да понимающего мужика, у которого от ума его и способностей капиталы были. И, значит, который всей волости помогал... А хто он: по-вашему, кулак, али еще как-нибудь, этого я не дознавался.
Счетовод вырос над столом, над хаосом книг и бумаг и веско определил:
– Подкулачник!.. Форменный и патентованный ты, дядя, подкулачник!
Председатель сощурил веселые глаза:
– Погоди! Обрастем мясом, не хуже Некипелова твоего всей волости помогать будем!.. Погоди!
– Навряд ли! – непреклонно посомневался мужик. – Видать, отощаете, когды съедите все, што от казны да от хресьян коих заполучили!..
После ухода этого посетителя в конторе угнездилось странное молчание. Председатель врылся в какие-то ведомости. Счетовод раскинул широкий разграфленный лист бумаги и сосредоточенно стал проставлять четкие цифры. Молчание нарушила Феклуша.
– Степан Петрович! – сказала она, слегка вспылая слабым смущеньем. – Пойдет ведь теперь этот мужик трепать всякое про коммуну!
– Пущай треплет! – поморщился председатель, кинув на Феклушу недовольный взгляд.
– Два раза ставили на собранье вопрос, – оправилась, осмелела девушка. – Два раза на счет помощи единоличным... Про трактор, чтобы выехать с им в Покровку. И ничего до этих пор...
Снова наступило молчание. Счетовод прислушался к этому молчанию, отодвинулся от широкого разграфленного листа, назидательно и веско промолвил:
– Трактор – машина сложнейшая и дорогая! Да. Им дорожить надобно. С осторожностью. Вообще – бережно! Отнюдь не кидаться во все стороны!..
7.
Устинью Гавриловну, наконец, решили выселить окончательно. Она поспешно собралась и перед отъездом зашла к Марье. Наскоро поплакав, пожаловавшись на новую свою беду, она напомнила:
– Марьюшка, достань-ка мне узелок-от мой!
Марья вздохнула и направилась к своему сундуку. Но в это время неурочно и нежданно вернулся домой Филька. Парнишка подозрительно и враждебно поглядел на Устинью Гавриловну и молча прислонился к притолке двери.
– Ты што, Филя? – спросила мать, выпустив из рук крышку сундука. – Али што забыл?
Устинья Гавриловна сладко заулыбалась и с притворным добродушием заметила:
– Хлопочет! Мужик настоящий! Опора тебе, Марья!
Филька насупился и даже не взглянул на старуху.
– Чего она тут шляется? – грубо спросил он.
У Марьи от неожиданности подкосились ноги. Присев на сундук, она протянула руку в сторону парнишки и крикнула:
– Окстись!.. Сдурел, Филька? Ты што это говоришь?
– Говорю, – враждебно повторил Филька. – Говорю: гнать ее надо!
– Ай-яй-яй! – заохала Устинья Гавриловна, и вся сладость и вся ласковость слиняли с ее лица. – Царица небесная! До чего парнишка дошел! Без уваженья к матери!.. Страм, стыд! Ай-яй-яй!
Марья вспыхнула:
– Како тут уваженье?! Што мать, што собака – все едино!
Отлипая от двери и не слушая ни матери, ни нежеланной гостьи, Филька прошел на середину избы и погрозил кому-то кулаком:
– Здеся коммуна, – повторяя чьи-то слова, веско промолвил он. – А она – зловредная кулачиха! Постановлено, чтоб выезжала, ну и не шляйся!..
– Ну-к, я пойду! – обиженно и гневно заявила Устинья Гавриловна.
– А узелочек?.. – замахнулась Марья и испуганно осеклась: старуха метнула в нее предостерегающим, пылким взглядом.
– Пойду! – многозначительно повторила Устинья Гавриловна. Она направилась к двери. Филька настороженно и подозрительно посмотрел на нее и что-то пробормотал. Марья суетливо поспешила за старухой:
– Ужо провожу тебя, Устинья Гавриловна!
Проводив старуху, Марья быстро вернулась в избу. Здесь она кинулась к Фильке и стала кричать на него истошно и плаксиво. Парнишка молчал и, хмуря белесые брови и наклонив упрямо голову набок, слушал ее. И филькино молчание хлестало Марью пуще кровной и въедчивой обиды.
– Нет на вас, гадов, управы! – задыхаясь, в заключение прокричала Марья. – На людей хуже псов кидаетесь! Вот беда, отца тута нету, взгреб бы он тебя, отстегал бы ремнем, выбил бы дурось из головы!..
– Бить теперь не позволят! – отозвался, наконец, Филька и усмехнулся криво и зло.
– Не поглядел бы Влас! Исхлестал бы в кровь!
– Ладно! – буркнул Филька и вышел из избы.
Марья немного успокоилась, прислушалась к филькиным шагам, когда они затихли, открыла сундук и из-под самого низа достала сверток, который принесла ей когда-то Устинья Гавриловна. Она подержала его в руках, пощупала. Холстяная тряпка была туго обмотана бечевкой. Под холстяной тряпкой прощупывалось что-то твердое.
Марья задумалась. Вот сколько времени лежал у нее этот сверток и ее нисколько не томило любопытство, а сейчас потянуло посмотреть, что это сберегла Устинья Гавриловна, об чем она так взволновалась, когда помешал Филька?
Прощупывая сверток, Марья вздохнула и решилась: она уцепилась пальцами за концы бечевки и стала распутывать узел. Узел плохо поддавался неумелым усилиям Марьи, и чем труднее было ей распутать, распеленать сверток, тем жарче жгло ее нетерпение, томило любопытство.
Когда бечевка, в конце-концов, сдалась, и узел был развязан, когда холстинка распахнулась и из-под нее выглянули какие-то бумажки, Марья разочарованию сморщилась. Не то думала она найти здесь! Не то! На всякий случай развернула она и бумажки. Какие-то печатные, некоторые хрустят, как деньги, нарядные, с узорами. Кто их знает, что они значут? Под самым низом, тщательней других были завернуты две маленькие книжечки. И Марью удивило: к чему было прятать такой пустяк?
Удовлетворив свое любопытство, она снова, попрежнему, завернула бумаги в холстинку и обвязала бечевкой.
«Кто их знат, к чему это?», подумала она недоуменно и разочарованно: «Кабы я грамотная, дозналась бы...»
8.
Филька, выйдя из дверей, обошел избу кругом и подобрался к заднему окну. Отсюда ему видно было все, что происходило в избе. Отсюда он увидел, как мать вытащила что-то из сундука, как развязывала веревочку и разворачивала тряпку, как изумленно рассматривала бумаги. У Фильки от волнения раскраснелись уши, он налег на раму и чуть не выдавил стекло. Филька зажегся нетерпением и кинулся в избу в то самое мгновенье, когда мать, пряча сверток под шалью, выходила из дверей.
– Отдавай! – крикнул он в веселой ярости и схватил мать за шаль. – Отдавай! Куды понесла?
Марья испуганно дернулась в сторону от парнишки:
– Чего это ты! Бешеный!...
– Отдавай! Отдавай!.. – твердил Филька и рвал узелок из рук матери.
Мать крепко прижимала к себе сверток и отталкивала Фильку. Но парнишка изловчился и завладел добычею.
– Не мое это! – плаксиво и горестно предостерегла Марья. – Чужое! Не бери, дурак!.. Не бери!
– Знаю чье! – отбежав от Марьи, запыхавшись, сказал Филька. – Кулачихино!.. Унесу в совет!
– Филька!.. – взмолилась мать, и глаза ее наполнились злыми слезами. – Пошто страмишь? Нужно отдать! В сохранность мне дадено, а ты... Филька, не носи!
Но Филька махнул рукой и птицей понесся по улице, туда, где полоскался вылинялый красный флажок над конторой коммуны.
Широко распахнув дверь, ворвался Филька в контору. Счетовод вытянул шею и нервно закричал:
– Не шуми! С осторожностью полагается, дикарь!
Филька даже и не взглянул на него и прямо подскочил к столу председателя.
– Глянь-ка, товарищ председатель! Глянь-ка! – протянул он сверток.
Председатель взял, недоумевая, из филькиных рук сверток и вопросительно взглянул на парнишку:
– Что такое? Откуда?
– Некипелиха у мамки прятала! – радостно пояснил Филька. – Я подглядел да и отнял! Не знай, что там...
– Некипеловой? – усмехнулся председатель и заинтересованно стал развязывать сверток. Счетовод вылез из-за своих бумаг и ведомостей и подошел к Фильке, к свертку. Феклушка тоже соскочила с места. Коммунары, случившиеся в конторе по делу, теснее обступили председателев стол.
Степан Петрович, председатель, развязал, распутал сверток и вывалил пред собою бумажки, книжки, все, что было завернуто и завязано в холстинку. Счетовод протискался поближе, схватил несколько бумажек, быстро оглядел их и строго, с радостной и взволнованной торжественностью заявил:
– В гепею!... Требуется немедленно официяльно заявить в гепею!.. А теперь советую очистить контору от посторонних и любопытствующих!
Феклушка возбужденно взмахнула руками. Филька вскинул восторженные и чуть-чуть замерцавшие испугом глаза на счетовода, на председателя. А Степан Петрович, собрав устиньино добро в кучку, прикрыл ее обеими руками, строго оглядел посторонних и любопытствующих и внушительно произнес:
– Тут дело, может статься, уголовное! А, может, и самая вредная контра!.. Выходите, стало быть, товарищи, из конторы! Выметайтесь, живо!..








