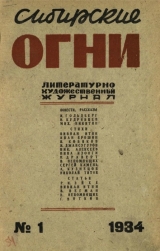
Текст книги "Жизнь начинается сегодня"
Автор книги: Иссак Гольдберг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
Глава шестая
1.
На стройке, где работал Влас, случилось несчастье. С лесов сорвался рабочий и расшибся.
Влас видел, как рабочие подхватили раненого и понесли его в барак. Пока ждали вызванной кареты скорой помощи, раненый был положен на койку. Он тяжело стонал, был в беспамятстве и порою дико вскрикивал.
Влас знал этого рабочего. Он недавно пришел из деревни, работа была ему непривычна, он был еще неповоротлив и неловок, как новичок, и часто в бараке над ним незлобиво трунили и весело шутили. И вот теперь лежит он полуживой, погибающий.
Власа взволновал и смутил вид раненого. Его поразили жалостью и болью слова фельдшера, сказанные мимоходом, когда рабочего уносили:
– Конченый человек!
– Вот беда-то, – горестно воскликнул Влас. – До чего человека-то довели.
Стоявшие поблизости рабочие насторожились:
– Как это довели?
– Очень просто! – раздраженно и угрюмо объяснил Влас, – был бы парень при своем деле, у хозяйства, не надо бы ему сюда поступать, он бы и жил себе, горюшка не знал бы...
– При своем деле? А он разве при чужом стоял?
– Он, выходит, по-твоему, на хозяина работал, по-старинке? Так выходит?
– Деревенский он, хрестьянин... В город-то не от сладкой жизни пришел, – в сердцах сказал Влас и оглянулся.
Его окружали рабочие, те самые, кто рядом с ним трудились на постройке. Те самые, с кем он встречался каждодневно, с кем делил он и труд и досуги. К кому он уже стал привыкать, с кем начал сживаться. Сейчас у них лица пасмурны, неприветливы и враждебны. Они смотрят на Власа чужими, холодными глазами. Власу стало не по себе.
– Я по себе понимаю, – глухо добавил он, оправдываясь. – Мне бы орудовать на земле, чтоб горела работу, а я сюда, между прочим принужден податься... Так и он...
– Экий ты упрямый! – вывернулся откуда-то Савельич и покачал укоризненно головой. – Уперся ты на одном, да и прирос! Кто тебя гнал сюды! Ты сам по дурости своей от хозяйства ушедши.
– Хозяйства моего не осталось теперь! – сверкнул глазами Влас. – В камуне оно горит, вот оно где, хозяйство-то!
– Горит? С чего это ты взял?
– Ты видал?
– С чьих слов болтаешь, Медведев?
– Со своих... – нерешительно ответил Влас и как-то весь сжался. – У меня своя голова на плечах.
– Своя ли? – привскочил Савельич и сожалеюще вздохнул. – Э-эх, Медведев, Медведев! Ты сколько времени тут работаешь с нами? – кажись более двух месяцев будет! Пошто ты бирюком таким ходишь? Пошто в тебе товарищества мало? Люди округ тебя, милый мой, одно говорят, а ты – наоборот! Люди скажут тебе: белое, а ты брякаешь: черное!.. Неужто ты умнее всех?! Оглянись ты, парень, погляди на нас – мы, милый мой, тоже с головами, тоже кой в чем кумекаем... А у тебя выходит все этак, вроде того, быдта мы все врем! Напроходь врем!
– Верно, верно, Савельич! Послушать Медведева, так мы, значит, круглые дураки!
– Упрямый он! Поперешный!
– Ты послушай, Медведев, Савельича! Он старый человек, а мозга у него светлая!..
– Очухайся!..
Вокруг Власа волновались его соседи по койке в бараке. Это были уже почти такие же по работе свои люди, как в деревне стародавние соседи. И эти свои люди напирали на него, подступали к нему вплотную. Он смутился. Он сильнее, чем когда-либо, почувствовал какую-то обиду оттого, что его не понимают, что он не совсем свой здесь. Но вместе с тем в этом дружном и горячем натиске на него он ощутил что-то новое, чего раньше еще не было.
– Я, ребята, никого дураками не считаю и чтоб, скажем, задаваться мне... – сильно сжался он и спрятал глаза. – У меня мнение такое... Как я сам видевши у себя в деревне... Почему, – повысил он вдруг голос и поднял голову, – по какой причине мне утеснение сделали? Я сам кровь за власть советскую проливал! Я за землю, за спокос да за хозяйство свое с Колчаком дрался! А вышло мне что?.. Вот я поэтому...
Влас оборвал внезапно и смолк. Вокруг него некоторое время стояла тишина. Прорывая эту тишину, из дальнего угла барака, семеня ногами, легонькой перевалкой подкатился широкоплечий, длиннорукий мужик. Бритое лицо его с прищуренными глазами было лукаво, рот улыбался, желтые зубы поблескивали, как у хищного зверька.
– Дружок! – потянулся он к Власу. – Ты, значит, связчик мой! Я ведь тоже Колчака бил! Как же! У меня двух, а может, и трех ребер нехватает, вышибли гады!.. Правильные твои слова, дружок!
– Одобряешь? – насмешливо спросил Савельич. – Одобряешь, Феклин?
– Одобряю! Уполне... Все истинная правда, что он говорит! Я – партизан! Я, брат, понимаю!
Влас вгляделся изумленно в Феклина, неожиданно пришедшего ему на помощь. Феклин ему почему-то не понравился. Не понравились его лукавые, бегающие глаза, его усмешка, вся его повадка. К тому же его озадачили насмешливые слова, с которыми обратился к Феклину Савельич. У Власа прошла охота продолжать разговор. Он пробормотал что-то невнятное и пошел из барака.
В обеденный перерыв к Власу подошел плотник Андрей, который изредка читал в бараке вслух газету.
– Медведев, – сказал он, – мы тебя в комиссию поставили. Разбор происшествия будет, несчастья... Как ты болтаешь, что человека до увечья довели, то вникни совместно с другими в обстоятельства и в положение, а потом уж и толкуй.
– Я непривышный в комиссиях! – вспыхнул Влас. – Брали бы кого полегше!
– Ничего, и ты сдюжишь! – непреклонно отрезал Андрей. – Это тебя группком ставит, отказываться не должен.
Когда Андрей отошел от Власа, последнего окликнул давешний партизан Феклин.
– Стой-ка, мужик!... Правильно ты говорил! Резонно!.. Давай потолкуем.
– Об чем это?
– Об разном... – неопределенно сказал Феклин и оглянулся с опаской и настороженно.
– Об разном, – повторил он. – Только надо бы где-нибудь подальше от этаких, вроде старикана, начетчика этого, да Андрея. В секретности.
– Зачем же в секретности? – нахмурился Влас.
– Тайность!.. – пригнулся к нему Феклин, заговорив шопотом. – Подслушивают, доносят... Я и то дивлюсь тебе: и к чему ты этак прямо обо всем разговариваешь. Нельзя таким манером. Таким манером долго ли тебе влипнуть.
Влас налился холодною неприязнью к Феклину.
– В чем же мне влипать? Я ничего плохо не мыслю да не делаю.
– Нет, нет! – замотал головою Феклин. – Тут осторожно надобно. Потихоньку... Пойдем-ка куды-нибудь.
Ничего не понимая, но чувствуя, что неприязнь к этому липкому и навязчивому мужику растет в нем и укрепляется, Влас все-таки пошел за ним. Пошел, не будучи в силах преодолеть любопытства и желания узнать, о чем же станет с ним разговаривать по секрету Феклин.
2.
Несчастье на стройке взбудоражило не одного Власа. Десятки новых рабочих, как и Влас, пришедших недавно из деревни, волновались и обсуждали втихомолку и по-разному это несчастье. Откуда-то полезли, поползли темные слухи, приглушенные разговоры о том, что рабочий сорвался с лесов не по своей оплошности и не по небрежности, а по прямой вине строителей. Откуда-то шли объяснения этого несчастья, что, мол, строителям не жаль людей, что на постройке и впредь не переведется такой извод рабочих, особливо деревенских.
И кой-кто из новичков увязывал свои узелки и шел в контору за расчетом...
Феклин сказал Власу, когда они пришли в укромное место и вокруг них поблизости никого не было:
– Понимаешь, мужик, на убой нас всех, на погибель заманули сюда...
– Меня не заманивали. Я сам пришел.
– Стой. Не об тебе теперь речь. Ты погляди на других! Пришли хрестьяне от деревень, от земли, выгнатые новыми лешавыми порядками. А тут их заманули и замордовать совсем хотят!.. Вот одного уж угрохали. Думаешь, нечаянно эта беда с ним приключилась? Нет!.. Камитеты эти все партийные доспели! Может, парень где не этак-то, не по-ихнему сказал, они и решили его.
– Болтаешь ты без-толку! – остановил Влас Феклина.
– Не без-толку! Вовсе нет!... Сам сообрази, не маленький... Да ты вот в эту комиссию записан, которая обсматривать все дело будет, – обсмотри, обсмотри! Докажи народу, какую над им бессовестность делают.
Уставясь взглядом в землю, Влас молчал. Феклин как-то ниже осел на своих коротких ногах и вобрал голову в плечи.
– Ты должон понимать! – зло продолжал он. – Тебя самого раздели, всего решили!.. Меня вот так же... У меня хозяйство, мужик, было как игрушка! Четыре коня было – орлы, а не кони! Холмогорских кровей коровы! Хлебу я снимал достаточно: и себе хватало на пропитание, и на базар возил вдоволь. Слава богу, шушествовал чисто!.. У меня работники жили, не жаловались, не обижал я их... А теперь я куды? Теперь меня всего вытряхнули! Хошь по-миру иди!.. Да спасибо добрым людям, на край света уйтить не пришлось!.. У нас с тобой одна беда, мужик!
Влас быстро, как подстегнутый, поднял голову:
– Видать, не одна!.. Ты что ровняешь меня с собою?.. Не отпорен я, – действительно, ушел я от хозяйства. Так я ушел-то не выгнатый, а по мнению своему! Не по душе мне порядки пришлись!.. Ты не ровняй. А у тебя богачество вот какое было, тебя прижали!.. Не одна, паря, у нас с тобою, видать, беда, не одна!..
– Ну, все едино! – заторопился Феклин и пытливо заглянул Власу в глаза. – Все едино так ли, этак ли, – а не сладко тебе...
Влас промолчал.
– А коли не сладко, – цепляясь за молчание Власа, продолжал Феклин, – так ты пойми... – И он снова втянул голову в плечи и сверкнул глазами:
– Пойми, конец им все равно будет!.. Будет!
Власа как будто что-то внутри толкнуло. Ему почудилось, что он уже слыхал эти слова. Вот эти же самые слова, сказанные с такою же уверенностью и так же зло. Влас напряг память и вспомнил: Никанор Степаныч Некипелов. Это он так же втолковывал свои мысли, свои чувства. И, вспомнив Некипелова, Влас весь подобрался, с ног до головы оглядел Феклина, как бы по-новому запечатлевая в себе его облик, и, оборвав его, резко, как-будто некстати, спросил:
– Лошадей-то, говоришь, четыре было? А сколь работников держал?
Феклин почуял в голосе Власа недоброе, заморгал глазами и тускло улыбнулся:
– Четыре, четыре, браток!... А работников – как приходилось. Ну, не боле трех... Не боле!.. Да это разве к разговору идет? Я тебе по-совести говорю, мочи нет при этаких порядках. Зажали всех, округом партейные, а первее всех у них жиды... И говорю тебе я: будет им конец! Надо только, чтоб народ понял все, как оно есть...
– Ты про какой народ говоришь? – в упор спросил Влас. – Про этаких, вроде тебя, у коих мошна была тугая, да ноне вытряхнута? Ну, это, паря, не народ
– Я про весь народ... Про православный, верующий... – с легкой опаской вглядываясь во Власа, пояснил Феклин.
– Об чем толкуем? – жестоко осведомился Влас. – О каком деле? Какой ты мне предлог даешь?
У Феклина на бритых щеках зажглись яркие пятна. Ноздри его задвигались, заходили, как у загнанной лошади. Пальцы сжались в крепкий кулак.
– Предлог... Да нет... Это я так, по душам с тобой разговориться пожелал... Жалко мне парня-то, который расшибся. Боле ничего. Может, в другой раз...
– Да стоит ли в другой раз? – усмехнулся Влас.
Феклин поднял голову и, прищурив глаз, неопределенно и загадочно сказал:
– Все может быть, все возможно...
И они разошлись молча в разные стороны.
3.
Комиссия, в которую включили Власа, полезла на леса, туда, откуда сорвался рабочий.
Председатель комиссии каменщик Суслопаров, которого Влас часто встречал в красном уголке своего общежития, прежде чем все взобрались на пятый этаж, предупредил:
– Шептуны пускают всякие сплетки. Наше дело, товарищи, выяснить всю основательную правду. Если производители работ, техники или еще кто виноваты, – взгреем!
Влас взбирался по широкому трапу, мягко пружинившему под тяжелой поступью рабочих, последним. Ему впервые приходилось быть здесь, наверху, на лесах. Его работа протекала внизу, на земле, его работа была несложной и простой: он ходил в простых плотниках средней руки. Широкие трапы мягко пружинили под его ногами. Пахло известью, цементом, кирпичом. Пахло смолью, свежим деревом. У Власа слегка закружилась голова. Он глянул вниз. Сквозь переплет балок, сводов, простенков и столбов виднелось нагромождение строящегося здания. Валились вниз красные и серые стены, пересекались квадраты будущих зал, комнат и коридоров, тянулись ряды слепых, еще незастекленных окон. Отсюда, сверху, только сейчас разглядел Влас всю сложность, всю величину, всю основательность постройки, на которой он работал. Разглядел людей, копошившихся то там, то здесь, смерил взглядом площадь, которую заняла, на которой раскинулась постройка, и с чувством, в котором были и изумление, и испуг, и какое-то смутное, слабое, еще не сложившееся целиком удовлетворение, подумал:
«Строют!.. Здорово строют!..»
Широкие, исхоженные тяжелыми рабочими шагами трапы вели все выше и выше. И там, откуда свалился и расшибся рабочий, на самом верху, остановился Влас вместе с другими членами комиссии и перевел дух.
Серой беспорядочной грудой лежал вокруг город. Терялись в сложной запутанности просветы улиц и переулков. Сверкали на солнце стекла окон. Ввинчивались в лазурную зыбкую высь хрупкие витые столбы дыма из тонких, стройных и высоких фабричных труб. Обезглавленно торчали церковные купола. И на самом краю, прорываясь сквозь зубчатость и зазубренную линию этажей, голубела широкая река.
Серой, сложной и необозримой грудой лежал внизу город, и шел от него неуловимый, неумолчный гул. И гул этот – шумные и многообразные шумы и грохоты – плыл, катился и докатывался сюда, вверх, к Власу.
Влас еще сильнее почувствовал, что у него кружится голова, и он ухватился за тесину, отгораживающую легкую деревянную галлерею, на которой остановились члены комиссии.
– Ну, товарищи, вот здесь! – сказал в это время Суслопаров. – Было приказанье, чтоб ничего не тронуто было, чтоб оставалось оно так, как было, когда свалился отседа Савостьянов... Давайте обсмотрим всё вокруг.
Пятеро ближе придвинулись туда, куда указал Суслопаров. Влас, осторожно ступая и крепко, держась за тесину, двинулся вслед за другими.
– Глядите-ка, – взволнованно вскрикнул один из пятерых. – Доска-то!
– Подпилена! – подхватил другой.
– Никак подпилена?!
– Да как же это?..
Влас услыхал в этих восклицаниях тревогу и шумное изумление и, забывая осторожность, протиснулся вперед. Суслопаров слегка отстранился и пропустил его поближе к злополучному месту, откуда сорвался Савостьянов. Влас наклонился и увидел: брус, служивший барьером, перилами вокруг галлереи, лежал переломленный. Вот здесь тот парень, Савостьянов, оперся, видимо, понадеявшись на загородку, но своей тяжестью переломил брус и полетел вниз. Влас посмотрел на концы переломившегося бруса: с одной стороны излом был ровный, как по линейке.
– Что ж это? Да как же это? – повторил он растерянно чужие слова. – Да ведь это, братцы, подпилено! Пилою!.. Кто же?..
– Кто? Сволочь вредительская, вот кто!
– Будем составлять постановленье... – предложил Суслопаров. – Запишем все, как оно найдено.
Техник, находившийся в составе комиссии, вытащил из папки чистый лист бумаги. Члены комиссии снова внимательно осмотрели переломившийся брус, измерили его толщину, испытали крепленье, потрогали стойки. Влас, не отрываясь, следовал за ними, слушал, осмотрел, трогал брус, стойки, но видел все как в тумане. Он был поражен этой чьей-то злой и жестокой проделкою. Он не мог притти в себя от горестного, жгучего изумления. И когда ему дали подписать акт, он захватил негнущимися пальцами карандаш, и рука его тряслась.
– Кто же это? – нелепо и растерянно повторил он, оглядывая товарищей.
– А об этом теперь Гепеу дознается! – сурово и жестко ответил Суслопаров.
Влас растерянно оглянулся. Ему пришли на ум слова Феклина: «На убой нас, на погибель заманули!». О ком он толковал? Ведь вот об этих, о Суслопарове, об Андрее, о партийных. А они ни при чем. Они сами виноватого ищут. Кто же гадит? Кто, не жалея рабочих жизней, ведет свою какую-то темную игру?
Смутная тревога, которая не раз за последнее время наваливалась на него, придавила Власа, и он вздохнул.
И снова пошел он по широким, пружинившим трапам последним, вслед за другими. Громоздились вокруг него непонятные, незаконченные, сложные сочетания арок, стен, переходов и снова стен, переходов, арок, галлерей. Росли ввысь и оформлялись там по мере того, как опускался, как сходил он вниз контуры громадного здания, очертания величественных корпусов будущей фабрики.
Пахло известью, цементом, кирпичом. Пахло смолью, свежим деревом. Ухали, гудели разнородные звуки. Раздавались человеческие голоса.
Кипела работа.
Внизу, на земле, Влас, передохнув, решительно придвинулся к Суслопарову и взволнованно попросил:
– Ты, товарищ, объясни мне толком... Что ж это такое? Откуда?
4.
Было собрание. Его созвали сразу же после того, как комиссия осмотрела место происшествия и составила акт. В бараке было шумно и жарко. Носились возбужденные возгласы, из угла в угол катилось гуденье. Шумел народ.
По поручению комиссии Суслопаров рассказал о том, что нашли они там, вверху, на стройке. И его рассказ упал на головы собравшихся оглушительным ударом. Негодование рабочих прорвалось страстно и неудержимо. Под низким некрашенным потолком стадо невыносимо шумно.
В шуме и возбуждении толпы, которую председатель групкома с трудом призвал к порядку, возле Власа очутился Феклин. Потянувшись к уху Медведева, он шепнул:
– Орут, галдят, а до точки, до пункта до настоящего так и не доберутся! Ты думаешь, кто эту механику всю навел?
Слегка отодвигаясь от Феклина, Влас коротко сказал:
– Не знаю!
Феклин прижался к нему теснее и обжег жарким шопотом:
– Техники... головка.
– Почем ты знаешь?
– Знаю!..
Взгромоздившись на табурет, в это время плотник Андрей громко заговорил:
– Дело это, товарищи, нечистых рук. Настоящее злостное вредительство это, товарищи!.. Классовый враг орудует промеж нас, срывает строительство, мешает работе. Кому нужно было подпилить тесину, чтоб безвинный рабочий сверзился с этакой вышины? Какая гадина пошла на такую штуку? Ясно, что тому это нужно было, кто против соцстроительства, кто против рабочих, кто против пятилетки!..
Влас вытянул шею и схватил Феклина за локоть:
– Слышишь?
– Очковтеры! След заметают! понятное дело! – злым шопотом отозвался Феклин.
– А промежду прочим, – продолжал Андрей, – по углам те гады слушки пускают подлые, середь темных и несознательных небылицы да враки разные придумывают. Зачем это, как вы думаете, товарищи, они делают? А за тем единственно, чтоб сбить с пути, чтоб посмутьянить и чтоб сомненье середь неорганизованной массы образовать!.. Этих гадов, товарищи, следует крепко по рукам шибануть! Так шибануть, чтоб искры у них из гляделок посыпались!..
– Совершенная правда... Правильно! Правильно!.. – просыпалось вокруг грохотом и гомоном.
– Слышишь? – снова уцепился Влас за Феклина. – Супротив тебя выходит разговор.
– Мало ли что! – угрюмо прошептал Феклин.
Влас раздул ноздри, тяжело дыша: Феклин показался ему противным и враждебным. И, чувствуя, что острая неприязнь к соседу разбирает его безудержно, что весь он наливается злобой, он с жестокой усмешкой предложил:
– А ты выдь да объяви, что, мол, врут! Выдь!
Феклин шарахнулся от него. Сверкнул глазами и, сдерживая жгучую ярость, бросил:
– Подыгриваешься?! Выслужиться хочешь? В июды-христопродавцы гнешь?!
Выкрики в бараке меж тем стихли. На табурет, откуда говорили записавшиеся, взгромоздился, сменив Андрея, кто-то другой. Влас ничего не ответил Феклину, отвернулся от него и поглядел на этого нового оратора, который кинул в толпу первые слова своей речи. Кинул – и заставил всех замолчать. Молодое лицо, черные глаза на котором горели остро и насмешливо, поразило Власа. Молодое это лицо влекло к себе и одновременно отталкивало.
– Абрамович... – сказал кто-то рядом с Власом. И Влас понял: еврей.
– Жидка выпустили! – шепнул Феклин, хихикнув. – Главный воротила!..
Но Влас пропустил мимо ушей это замечание. А Абрамович, насмешливо сверкая глазами, рассказывал об ухищрениях классового врага. Он приводил многочисленные примеры вредительства, порчи машин, срыва производства, нападений на ответственных работников, убийств из-за угла партийцев-рабкоров, активистов. От случая на постройке он перешел к международному положению, объяснил толково и понятно притихшему собранию о происках империалистов, стальным кольцом вражды и ненависти окруживших страну советов.
Говорил Абрамович немного по-книжному, пускал изредка не совсем понятные слова, но его понимали. И видать было, что понимали очень хорошо. Потому что слушали его жадно и внимательно.
Жадно, тихо, внимательно, но и изумленно слушал его и Влас. Новые слова доходили до него по-новому остро. Новые мысли рождались в нем от этих слов. От новых мыслей, от новых слов стало ему и тревожно, и тягостно, и боязно. Было странно укладывать в себе такое, казалось бы, несовместимое: несчастный случай на здешней, близкой постройке, и далекая запутанная работа зарубежных врагов, разбившийся рабочий Савостьянов и мировые капиталисты. Подпиленный брус – и непримиримая борьба с советской властью! Но слова, новые слова, шли оттуда, от этого чужого человека с чужими насмешливыми глазами, такие простые и убедительные. Слова впивались в сознание. Они беспокоили, тревожили, жгли.
Конец выступления Абрамовича оборвался в чуткой, тугой тишине. Но эта тишина взорвалась грохотом рукоплесканий. Абрамовичу долго громко и неистово хлопали. Он разжег, взбодрил, напоил движеньем и порывом собравшихся. Из толпы к столу президиума стали выскакивать рабочие, они кричали, размахивали руками.
– Давай резолюцию!.. Поядренней давай!
– Постановить: отыщем гадов! Скрозь землю пройти, да отыскать!
– Давай резолюцию!
Председатель стучал карандашом по столу. Председатель надсажался:
– К порядку. Товарищи, не шумите! Сполняйте порядок!..
Порядок установился только тогда, когда Абрамович снова взял слово и огласил заготовленную им резолюцию.
После собрания Влас столкнулся у выхода с Суслопаровым. Тот взглянул на него, вспомнил что-то и остановился.
– Ага, Медведев! Ты давеча допытывался у меня, откуда это нечистое дело сделалось. Слыхал речи?
– Слыхал.
– Понятно тебе теперь?
– Мало-мало... Но по-совести если сказать, не совсем...
– Ишь какой ты камень! – покачал головою Суслопаров. – Ну, надо будет, коли так, в тебе полное понятие произвести!
5.
Через несколько дней Савельич, проходя мимо Власа, устало и огорченно сказал:
– Паренек-то, Савостьянов-то, помер вчерась!
– Ах, беда! – пожалел Влас. – Ни за что, ни про что ханул человек!
Савельич ничего больше не сказал и прошел дальше. Влас поглядел ему вслед и вздохнул.
Был день отдыха. Власу некуда было себя девать. Он слонялся по бараку и тосковал. Вчера была получка, в кармане лежали деньги. Мгновеньями Власа одолевало желание сходить куда-нибудь в укромное место и залить свое одиночество, свою тоску парой пива или полулитровкой. Но он гнал от себя это искушенье.
Послонявшись так бесцельно некоторое время, он, наконец, надумал сходить на базар.
Весенний день сиял солнечно. Камни мостовой обогревались. В широких улицах бежали и шумели толпы. Громоздко катили грузовики, мягко и неслышно проносились легковые машины. Стекла магазинных витрин сверкали ярко. Голоса и звуки отдавались в прозрачном воздухе гулко и упруго. На перекрестках мальчишки, чистильщики обуви, постукивали щетками и задорно зазывали:
– Почистить! Недорого!... Гривенничек!
Влас шел шумными весенними улицами и глазел по сторонам. Люди проходили мимо него озабоченные, торопливо. У каждого было свое дело, каждый, видимо, знал свое место, свою заботу, свою радость. Влас был одинок здесь, ни одной души знакомой не было у него во всем городе. Ни один из этих прохожих не мог окликнуть его, остановиться и дружески поговорить с ним. Влас вспомнил свою деревню, и грусть сильнее сжала его сердце.
За шумными, оживленными улицами Влас нашел, наконец, базарную площадь.
Базар раскинулся широко и пестро. Длинные деревянные помосты, на которых расположились торговки со своими товарами, были густо запружены беспокойной и шумной толпою. Возле торговых рядов с заколоченными лавками стояли крестьянские возы. И вокруг этих возов толпа была еще гуще, еще шумливей и беспокойней. Протиснувшись к возам, Влас с наслаждением вдохнул в себя крепкие знакомые деревенские запахи: немного затхлый дух прошлогоднего сена, дегтя и кожи...
У возов в разных местах одновременно шла ожесточенная рядка: продавцы-крестьяне почти равнодушно называли свою цену, а покупатели кипели, негодовали, угрожали.
– Побойся бога! – кричала какая-то женщина, потрясая пшеничным калачом. – Два рубля, – да это ведь грабеж!
Мужик выхватил у нее из рук калач и лениво сказал:
– Ищи подешевше.
В другом месте трое рядились с крестьянкой из-за бутылки молока. Все трое кричали, перебивали друг друга, а баба, поджав губы, неприязненно глядела на них и, когда ей надоели их крики, взяла бутыль с молоком к себе на воз и тщательно укрыла ее мешком.
– Чо напрасно гыргать!.. Сами не берете да других отповаживаете!
Женщина в легком светлом платье совала двум крестьянкам яркий головной платок. Крестьянки пренебрежительно посматривали на него, и одна из них, наконец, отрицательно мотнула головой.
– Кабы шелковый... Нет, не возьмем...
Влас попал в самую гущу торга. Его толкали со всех сторон, и он, не обижаясь на толчки, останавливался, вслушивался, всматривался. Когда он услыхал, что за калач крестьянин запрашивает два рубля, а жадная баба требует за молоко несуразно большую цену, он не поверил сам себе и вплотную подошел к одному из возов.
– Почем продаешь хлеб? – спросил он старого мужика, выставившего напоказ развязанный мешок муки.
– Шешнадцать. – не глядя на него, ответил старик.
– Пошто так дорого? Ведь это оржаная?
Старик вскинул на него тусклые глаза и пожевал губами. Всклокоченная борода его затряслась:
– Коли дорого, не бери! Не неволю!
Влас ничего не сказал, отошел от этого воза и побрел дальше.
На возах, укрытые мешками и домотканными половиками, прятались яйца, молоко, мука, печеный хлеб, калачи. На возах, которые оберегались зорко и неприступно мужиками или бабами, было все, в чем нуждался город и что поглощал он без остатка и ненасытно.
«Ишь, как жадничают!», подумал Влас, ошеломленный гомоном и базарной трескотней. Ему вдруг стало неловко, словно кто обидел его чем-то. Он вспомнил о своем хозяйстве, вспомнил о том, каких трудов стоят, чтоб добыть из земли хлеб. Вспомнил об усилиях, которые клал на это у себя в деревне. И все-таки его поразили цены, которые он услыхал впервые здесь на базаре.
«Шешнадцать за пуд...», сообразил он, «это, стало быть, рублей с полсотни с мешка. А полсотни, как-никак, и теперь большие деньги».
Полсотни рублей, – Влас подсчитал, что этаких денег он на стройке не заработает и в полмесяца. А тут за один мешок хлеба.
«Ишь, как здорово жадничают!..», загвоздилась в его уме упрямая мысль.
«Мысленное ли это дело? Такие деньги!..»
И, как бы отвечая на эти его мысли, с воза, мимо которого он проходил, высокий злой голос прокричал:
– Мыльца да карасину негде добыть! Рази нам дают? За все с нас вы же дерете несусветно!
– А вы прямо грабите народ. Ни совести у вас, ни души... Последнюю рубаху готовы вы с нас содрать! – посыпалось со всех сторон в ответ на выкрик мужика.
Влас приостановился и покачал головой:
– Это вам не двадцатый год! – врываясь в спор, крикнул кто-то в стороне. Повернувшись туда, Влас увидел высокого старика в светлой кепке, в рваном пиджаке, с расстегнутой на груди грязной рубашкой.
– Понравилось вам тогда, – продолжал старик, заметив, что все обернулись в его сторону и выжидающе смотрят на него, – понравилось?! Вы тогда город целиком обобрали!.. У меня у дочери пианино было, инструмент музыкальный, так вы на муку его выменяли! На два куля!...
– Я у тебя не выменивал, гражданин! – пасмурно возразил мужик. – Мне твоей пиянины и задарма не надо!
– Все вы рвали! Все! Что только вам хотелось, все!...
У воза снова вспыхнули крики. Снова заволновались рассерженные, злые покупатели.
Влас тронул за плечо стоявшего рядом с ним человека и возбужденно сказал:
– Не все, товарищ! Не все, говорю, этак-то рвали!
– Отстань! – отстранился от него тот. – Отстань!
У Власа закипела обида в груди. Он захотел поспорить, доказать, что не все жадничают, что это только кулаки, рвачи. Но слова не шли с языка, и он обескураженно и оторопело оглядывался по сторонам. И ему стало тошно здесь, на базаре. Он пошел быстро, как бы убегая от чего-то, домой, в барак.
Там было тихо и безлюдно. Но это безлюдие, эта тишина успокоили Власа. Он пошел к своей койке. Рядом, с соседней койки, поднялась лохматая голова, и сонный голос произнес:
– А тебя давеча, дядя, борода какая-то спрашивала. Гость.
Влас удивился:
– Кто бы это такой?
– Не знаю... Сказал, что зайдет еще к тебе. Дело, говорит, есть...
Заинтересованный посетителем Влас стал дожидаться его вторичного прихода. Он ломал голову, старясь сообразить, кто его разыскивает, у кого к нему дело, какое это дело. Так прошло некоторое время. Наконец, посетитель пришел. Влас услыхал знакомый голос, спрашивавший кого-то у дверей:
– Медведев-то пришел?
И мимолетное досадливое чувство шевельнулось в нем: он узнал Некипелова.
6.
Этот приход Некипелова и последующий разговор с ним остались памятными для Власа.
Некипелов прошел к Власу в барак, остро озираясь по сторонам, и, вместо приветствия, недовольно и обеспокоенно спросил:
– Ты пошто не приходил? Обещал понаведаться, а сам и глаз не показываешь!
– Работа... – пояснил Влас, улавливая в голос Некипелова злобу и недоумевая, почему тот гневается. – На работе я занятой...
– Работа! – презрительно передразнил Некипелов. И опять оглянувшись и погасив в себе озлобление, он предложил:
– Пойдем! желаю я с тобою по-душевному говорить. Пойдем на мое пристанище на тогдашнее!
Влас заколебался. Повадка Некипелова не понравилась ему. Но Некипелов пристал, и они пошли.
– Работа, говоришь? – протянул Некипелов, когда они вышли на улицу. – А на кой чорт тебе сдалась эта самая работа?
– А как же?
– Как же?! – передразнил Некипелов. – Ты на их работаешь, а они тебя по шеям, по шеям!..
Влас промолчал и пытливо оглядел земляка. Лицо у того было злое, глаза смотрели исподлобья, а губы сжаты были в жесткой острой усмешке.
– Понравились, видать, тебе порядки! В работниках, не иначе, сладко тебе робится? – с издевкой продолжал Некипелов. – А я-то, признаться, думал, что ты мужик совестливый, крест у тебя на груди, думал, имеется...
– Это почему же, я, выходит, не совестливый? – вспыхнул Влас.
– А потому... Сам должон догадаться, не ребенок годовалый!
– Невдомек мне.








