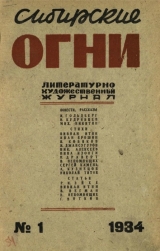
Текст книги "Жизнь начинается сегодня"
Автор книги: Иссак Гольдберг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
– Хозяева!.. Этакие-то мы нахозяйствуем! Нет, нам без головы, без командиров нельзя!.. Такое обзаведенье сгрохано, а оно нам не с привычки... Мы вроде рук, а уж голову нам покеда что ясную да умную надо...
Все обернулись в ее сторону и стали глядеть упорно и смущающе. Марья осеклась. Голос ее дрогнул, и она смятенно закончила:
– Не обучена я говорить... Может, что неладно сказала... не обессудьте!..
Но Лундин. не сводивший глаз с нее, улыбнулся ей приветливо, весело сверкнув зубами:
– Все ладно сказала! Все! Не смущайся. Маленько только ошибаешься ты: голова-то ясная у вас. Вы только к общему размышленью, то-есть об общественном, а не только о своем маленьком, не привыкли думать. В этом все дело. Надо сообща строить и управлять! Сообща!
После этого собрания разговоры не прекратились. Они приняли несколько другое направление. Коммунары стали поговаривать о том, что, пожалуй, придется сменить председателя и завхоза и что вот беда – кого же на их место поставят? Вернее всего, этого нового, Лундина.
Глава шестнадцатая
1.
Топор дрогнул в уверенной руке, и случилось необычайное: острый, вспыхивающий на солнце угол врезался в руку, просадив мясо до кости. Влас растерянно выронил топор и ухватился за пораненную руку. Алая кровь испугала. Он побледнел и сдавленно крикнул:
– Беда...
Работающие поблизости товарищи подбежали к нему и неумело завозились с окровавленной рукой.
– Ух, как ты полоснул!.. Крови-то сколько!.. В больницу надо!..
Власу было больно. Он зажимал рукавом широкую кровоточащую рану, морщился и тревожно и неуверенно успокаивал сам себя:
– Кость-то, кажись, цела... И жилу главную не тронул... Вот какая беда... Как это я оплошал?..
– Оплошал ты, Медведев. Мог без руки остаться!
– Вали скорее на перевязку!
Андрей, подошедший на непривычную сутолоку во время работы, ухватил все быстро взглядом и, поняв с двух слов случившееся, повел Власа в амбулаторию.
– Как ты это неосторожно... – покачал он головой.
– Уж и сам не знаю...
Из амбулатории Влас прошел прямо в свой барак и там, разнося вокруг себя больничные запахи, стал слоняться из угла в угол. Туго забинтованная рука беспокоила его ноющей болью, а еще больше того необходимостью держать ее осторожно и неподвижно на перевязи. Было тоскливо и скучно. Все были на работе, а ему приходилось из-за этой дурной неосторожности своей сидеть без дела в одиночестве. И еще томили слова доктора:
– Заживать она у тебя будет долго. Опасного ничего нету, а на месяц, если не больше, считай себя на отдыхе.
Влас с нетерпением дождался конца рабочего дня, когда барак наполнился шумно возвращавшимися с работы товарищами. Савельич, уж знавший о происшествии, оглядел его забинтованную руку и досадливо почесал в бороде.
– Да... Зря это у тебя. Совсем ни к чему...
И вот потянулись томительно-однообразные дни. Они отмечались только прогулками в больницу на перевязку и редкими выходами на постройку, где Влас подолгу простаивал на одном месте, наблюдая за тем, как работа кипит без него, спорится и растет.
Вынужденное безделье толкало Власа на упорные размышления. Он много думал, лежа на койке или бродя возле барака. Его мысли сначала были беспорядочны, бессвязны: думалось обо всем понемногу, о разных мелочах. Но с каждым днем одна мысль неуклонно и упорно овладевала им и становилась неотвратимой. Мысль о доме.
Теперь, когда он был вынужденно свободен, когда у него был такой большой досуг, можно было помечтать о доме. И он предавался этим мечтам. Его охватывал соблазн съездить домой, посмотреть на своих и, главное, посмотреть на коммуну. Этот соблазн был силен, но Влас боролся с ним: было чего-то стыдно и неловко.
Как и раньше это бывало, пояснил мысли и дал им верное направление Савельич.
Когда рука у Власа стала подживать, а в больнице сказали, что придется пойти в отпуск недели на две после того, как рана срастется окончательно, старик без всякой хитрости, просто и убежденно сказал:
– Вот тебе, мужик, самый подходящий случай на побывку к своим сходить!
У Власа внутри что-то встрепенулось от радости. Он словно давно ждал таких слов. Но, опуская глаза, он нерешительно возразил:
– Стоит ли?
– Вот чудак! Тебе к чему же здесь проживаться бездельно? Болезнь у тебя приключилась не зловредно, а по самому несчастному случаю, полагается тебе отпуск, ты и ступай к домашним своим... Заодно и поглядишь сам – как там да что.
Тихая радость охватила Власа. Ну, да! он сам понимает, что старик прав. Ничего не возразишь, самое верное и простое дело – побывать дома. Взглянуть на деревню, на ее преображенное лицо. Убедиться самому в том, о чем все кругом говорят, о чем толковал даже Филька. Увидеть сына!
И, расплескивая смущенную радость, он сказал Савельичу и самому себе:
– Схожу... побываю.
– Вот, вот! – поддержал Савельич. – Умнее умного это будет.
2.
Дни затанцовали у Власа лихорадочно с того часа, как он решил побывать дома. Они наполнились нетерпеливым возбуждением. Уже однажды в жизни переживал Влас такое: было это в дни суровых партизанских тягот. Душа рвалась домой, но нельзя было уходить с поста. И когда подошло время, что можно было мечтать о доме, дни показались бесконечно длинными. Так же вот, как теперь.
Влас решил не предупреждать домашних о своем приходе. Савельич одобрил это. Старик широко усмехнулся и обласкал Власа беззлобно-хитрым взглядом:
– Вали им, как говорится, супризом! Вот, мол, он – я! Нежданый и негаданый! Этим манером, дорогой мой, слаще радость!
Власу понравились слова старика. Именно о радости мечтал он. О сладкой радости себе и им, домашним.
Когда стали подходить ближе дни поездки, и о ней уже открыто разговаривал Влас с соседями и товарищами по работе и по бараку, некоторые, завидуя Власу, высказывали предположения:
– Навряд ли ты, Медведев, обернешься обратно! Войдешь в колхоз, обоснуешься...
– Это как сказать... – нерешительно возражал Влас. Но, зажигая в себе старое, непотухший окончательно протест, встряхивал головой:
– Нет! Я тут при месте. Мне от добра чего добра искать!
– Како же добро на чужой стороне? – недоумевали собеседники. – Дома, как говорится, завсегда лучше.
– Как когда... – неопределенно говорил Влас и торопился отойти в сторону.
Неожиданно скоротала время ожидания необходимость явиться по вызову повесткой к следователю, ведшему дело о вредительстве на постройке. Однажды Влас уже побывал у него, но тогда следователь задержал недолго: только спросил немного о Феклине и тем ограничился. На этот раз Власу пришлось задержаться в следовательской камере подольше.
Молодой курчавый следователь в очках без оправы, усталый и слегка раздраженный, заинтересовался целым рядом вопросов. Он добивался от Власа, как тому казалось сначала, сущих пустяков: много ли у Власа знакомых в городе, кто они, где. Он внимательно выпытывал у него, с кем он дружит. О Феклине он спрашивал мало, только выслушал, что Власу этот мужик с первого же разу не понравился, выслушал и усмехнулся:
– Разве он такой неприятный, что вы, не задумываясь, почувствовали к нему такую неприязнь? А к другим людям вы так же подходите?
Влас не смог объяснить, почему же Феклин оттолкнул его от себя. Тогда следователь повел свою беседу, свои расспросы дальше. И эти расспросы привели Власа неожиданно к Некипелову, к Никанору Степановичу. Его имя вырвалось у Власа случайно. Рассказывал он следователю о поразивших его словах Феклина по поводу каких-то знающих и умных людей и упомянул, что уже однажды слыхал такие речи. И следователь поставил ему в упор вопрос:
– От кого?
Пришлось назвать соседа. И, назвавши, рассказать о нем все. Горячий, нескрываемый интерес, который проявил следователь к рассказу Власа про Некипелова, смутил и встревожил Власа. На мгновенье где-то шевельнулось в нем тоскливое чувство жалости. «Зря, поди, Никанора Степаныча приплел я», с горечью подумал он. Но следователь, как бы подслушав эти мысли, совсем не по-следовательски, а как-то просто и легко сказал:
– Озлобленный кулак. Никуда он не уйдет от пролетарского закона. И сын его.
– Озлоблен, это верно, – ухватился Влас. – Я думаю, болтает он, хорохорится. Насчет поступков вряд ли...
– А это время покажет. Самое недалекое время.
Так прошло еще несколько дней. Пришло время, когда в больнице осмотрели руку и заявили:
– Еще раза два придешь на перевязку, а потом и сам обойдешься. Отдохнешь, а через две недели сможешь встать на работу.
3.
– Значит, отправляешься? – переспросил Савельич Власа, который завязал аккуратно свою котомку и, весь какой-то праздничный и особенный, дожидался часа, когда можно будет отправляться на станцию.
– Оправляюсь! – тряхнул головой Влас. – Доеду до разъезду по железной дороге, а там верст восемнадцать пешком.
– Хорошо теперь пешком. В полях да лесах все поет и звенит. Духовито. Отрадно!
Влас не ответил. Да и не надо было словами отвечать: глаза сияли нетерпеливой радостью, в глазах светилось и отражение солнечной дороги, и зеленых далей, и широкого раздолья лугов.
– Ну, – напутствовал Савельич. – Гуляй, дорогой мой, гуляй до полного удовольствия!..
И Влас ушел.
Душный и переполненный людьми вагон ненадолго спугнул его приподнятое настроение. В душном и шумном вагоне гомон стоял, и люди перепирались и ссорились из-за мест. А в открытые окна врывались вместе с шумом и лязгом колес полевые, летние шумы. Втекала многозвучная и буйная радость лета. Влас протиснулся к окну и замер возле него. Власа толкали, тормошили, он кому-то мешал, на него кто-то покрикивал, но, прижавши к себе свою котомку и сверток покупок, он упрямо прилип к своему месту и жадно глядел на плывшие за окном просторы.
Бежали поля. Веселые сосенки, кружась у самой насыпи, протанцовывали назад и пропадали за поездом. Порою поезд прогромыхивал по гулким мостам, и живая вода сверкала тогда в зелени лугов и леса, и живая вода проплывала по обнаженным пескам и галечникам. Бежали редкие постройки. Развертывалась порою вытянувшаяся по тракту деревня. В веселом испуге убегал от поезда скот. Нелепо и ненужно озлясь на дымное и грохочущее железом и криками чудовище, лаяла собака.
Влас охватывал жадным взглядом все. И больше всего – поля, возделанную и родящую землю. Земля, от которой он был оторван несколько месяцев, звала его к себе, как блудного сына. И, трепеща ноздрями и обострив все чувства свои до крайних пределов, он схватывал неуловимые запахи земли и согретых трав. А когда за окном проплывали просторы хлебов, он вытягивался весь, он трепетал, он жадно глотал густой воздух, насыщенный запахами, которых никто не чувствовал.
Сходя с поезда, разморенный и чем-то неуловимо и непонятно расстроенный Влас облегченно вздохнул. Он поправил на себе котомку, потрогал повязку на руке, снял мятую кепку и пригладил влажные волосы на голове. За станцией ему нужно было свернуть с тракта, бегущего почти рядом со стальным путем, в сторону, на дорогу, по которой он недавно – а теперь кажется, что очень-очень давно! – шел в город. И прежде чем пуститься по этой дороге, Влас присел в тени берез и устало закрыл глаза.
Было тихо. Утро сияло горячим солнцем и веяло оживающими запахами отдохнувших за ночь трав. Легкий ветерок обвевал обнаженную голову Власа. Небывалая истома охватила его. Захотелось сидеть так без конца, не двигаться, никуда не итти. Сладкая обессиливающая истома пришла от теплого утра. Береза над головой шелестела зелеными листьями, в травах шуршали букашки, осторожно посвистывала невидимая птица. Без дум, без тревог сидел так Влас и слушал и впитывал в себя родные шумы, родные запахи вновь обретенной земли...
Проселок бежал полями и перелесками, извиваясь, как горный ручей. По колеям матово поблескивали высыхающие лужи. Пестренький бурундук, испуганно пискнув, перебежал дорогу. Влас оглянулся на него и пошел быстрее.
Текли часы. Оставались позади километры. Солнце вздымалось ввысь и жгло яростней и беспощадней. Стали развертываться перед Власом родные просторы. Знакомые места волновали и ускоряли его шаг. Каждый поворот дороги, каждый пригорок, каждая полянка – все это родное, близкое, знакомое с детства. На каждом шагу места, с которыми что-нибудь связано. На каждом шагу неотвязные воспоминания.
И вот тот пригорок, с которого в беспокойное, тревожное весеннее утро он оглянулся в последний раз на оставляемые родные места. Отсюда видел он тогда сиротливые поля, дымящиеся редкими пожогами. Здесь обожгла его злая мысль о покидаемой деревне, об ее людях, о новых порядках, угнездившихся в ней.
Влас сорвал с головы кепку и отер ею мокрый лоб. Лес, из которого вывела его дорога, кончился. Впереди лежали сплошные поля. Они зеленели и переливались на ярком солнце. Они тянулись во все стороны. И там, далеко впереди, за этими полями виднелась деревня.
Влас вспомнил свои слова, вырвавшиеся у него в то, далекое теперь утро:
– Каиново семя...
Влас провел рукой по лбу, словно сгоняя этим ненужные, злые в прошлом мысли.
Потом нахлобучил кепку на голову, подтянул котомку и решительно зашагал по укатанной дороге меж колхозных полей, к деревне.
4.
Он вошел в деревню в полуденную пору. Собаки, чуя незнакомые запахи, которые он принес с собой, встретили его, как чужого. Они подняли яростный лай и всполошили затихшие, полусонные деревенские избы. Из некоторых дворов стали выглядывать крестьяне, прислушиваясь к собачьей тревоге, разглядывая, кто это пришел.
Первым Власа заметил старик Никоныч. Сторож пригляделся к прохожему и неуверенно окликнул:
– Влас Егорыч, кажись?
– Он самый! – приостановился Влас возле старика. – Здорово! Живешь?
– Живу, живу! А ты оборотился! Ну ладно! Ладно, говорю! Отгостился, стало быть. Это хорошо!
– Мои все здоровы?
– Твои-то? А им чо доспется? Здоровы. Утресь хозяйку твою видал коло коров. Ничего, орудует!
Старик оглядывал Власа и собирался заговорить с ним надолго. Но Влас поправил котомку и двинулся дальше. Никоныч заметил перевязанную руку и вдогонку спросил:
– Спорчена у тебя рука чо ли?
– Пустое... – на ходу ответил Влас и, не слушая старика, который продолжал что-то говорить, быстро направился по широкой деревенской улице к своей избе. Собаки продолжали лаять. Люди выглядывали из окон. Иные, узнав Власа, кричали ему что-то, иные молча разглядывали его, как чужого. Но он не останавливался больше. Он быстро шел к знакомым воротам.
Дом был заперт на замок. Что-то сиротливое и необычное показалось Власу в этом, и глупая тревога шевельнулась в нем. Тревога разрослась больше и шире оттого, что никто не встретил его. Это обидело его и приглушило радость, которую он всю дорогу нес в себе.
Влас присел на завалинку возле своей избы. Темные и нудные мысли придавили его.
Но вот в дальнем конце улицы затарахтела телега. Бурая пыль взмыла и поплыла сюда, в эту сторону, где сидел Влас. Вместе с грохотом телеги из бурого облака пыли послышались громкие, веселые вскрики!..
– Шевели! Ччорт! Шевели веселее!..
Влас поспешно вскочил на ноги. Он узнал голос сынишки.
Филька катил, героем стоя в телеге. Он правил дальше, мимо своего дома, но, увидев вышедшего на средину улицы, наперерез ему, человека, придержал лошадь и кубарем вылетел из телеги:
– Ух! Тятька!.. Пришел?!
– Ну, ну, я! – растроганно сказал Влас, подхватывая одной рукой Фильку. – Я самый!
– Ух!.. – захлебнулся Филька и вдруг припал к отцовскому боку, пряча стыдные и неотвязные слезы.
5.
Вечером отдохнувший и помывшийся в бане Влас сидел на кухне среди знакомых и привычных вещей и прислушивался к веселому гомону, который подняли пришедшие навестить его соседи. Марья хлопотала возле самовара, время от времени выходя к свету, поближе к Власу, и украдкой взглядывая на него. Зинаида рылась в своем сундучке и отбирала чистую наволочку на постель отцу. Из чужих были Николай Петрович, Никоныч и еще несколько коммунаров.
Филька вертелся возле отца и сиял.
Было уже о многом переговорено. Влас уже успел несколько раз рассказать про несчастье со своей рукой. Уже и ему рассказали про многие здешние дела и раньше всего о том, как подстрелили Василия и как засыпался с ружьем шелестихин зять Синюхин. Уже несколько раз обжегся Филька радостным смущеньем от отцовской похвалы за сметливость и догадку. И наступала минута, когда должны были на время иссякнуть взаимные расспросы и рассказы и мог появиться прямой, в упор поставленный Власу вопрос:
– Стало быть, ты совсем теперь?
Но, мягко скрипнув, открылась дверь и на кухне появился Василий.
– Здравствуй-ка, Влас Егорыч! – шумно поздоровался он с хозяином. – Слышу, ребята сказывают, Медведев воротился, – я и пришел своими глазами поглядеть! С приездом, значит, тебя!
– Здравствуй, – суховато и сдержанно ответил Влас.
– Гляди! – весело удивился Василий, усмотрев завязанную руку Власа. – Одинакие мы с тобою! Одна мета? Это как тебя? Тоже кулацкая памятка? – И, не дожидаясь ответа, перескочил на другое: – Пришел ты, ну вот, обсмотри как мы тут бьемся да воюем! Обсмотри, что набуровили! Страдаем да в гору лезем! Коммуна!..
– Пока еще ничего не видал, – обронил Влас.
– Увидишь! Увидишь, Влас Егорыч. Горим мы. Скрывать, конечно, не буду про промашки, а горим! На поправку выходим! Обязательно выходим!
У Василия в голосе была горячая уверенность. Влас взглянул на его лицо и невольно подумал с неожиданным изумлением: «Совсем другой Васька стал?»
– Обложило нас округом кулачье, а все ж таки не сдаемся! – продолжал Василий. – Побеждаем.
– Ишь, как ты шумишь! – усмехаясь, вмешался в разговор Николай Петрович. – С наскоку ты! Сразу на Власа Егорыча накинулся. Он ведь наших дел здесь толком не знает. Чего ты путаешь человека?!
– Я-то путаю! – весело забушевал Василий. – Сказал тоже! Да Власа Егорыча разве спутаешь? Он крепкий, понимающий!..
Влас недоверчиво вслушался в крикливый голос Василия и опасливо сообразил: «Надсмехается, что ли?»
Но Василий не насмехался. Василий прошел к столу и уселся поближе к Медведеву.
– Да вот сам увидишь, Влас Егорыч, – обратился, он к Власу. – Войдешь в коммуну, станешь об делах болеть, как многие...
Нетвердая усмешка скользнула на губах Власа и бесследно растаяла.
– Мне сроку тут гостить немного более недели. Обратно на работу обязан оборочаться...
– Контрахт у тебя, – понимающе мотнул головой Василий. – Вроде как договор. Понимаю... Хорошо тебе в городе было, работенка подходящая?
Опережая отца, Филька горделиво крикнул:
– Он награжденный! Об ем в газете писали! Во!
– Ты... – улыбнулся Влас, делая слабую попытку остановить сынишку. – Расхвастался!
– Я правду говорю! – вспылил Филька.– Ты, тятя, расскажи. Пущай знает.
– Ладно, ладно! – строже сказал Влас сыну.
– Награжденный! – засветилось лицо Василия острым вниманием. – За что же это?
– Не слушай ты его, – уклонился Влас от ответа. – Чего ты с малого возьмешь!
Но вмешался Николай Петрович. Поглядывая смеющимися глазами на Медведева, он укоризненно покачал головою:
– Зачем же ты скрываешь, Влас Егорыч? Мы кое-что знаем. Премировали тебя, сказывают, за хорошую, за ударную работу на стройке.
– Что ж с того? – махнул рукою Влас.
– Отличили?! – вгляделся Василий в Медведева, словно впервые видел его. – Я радый за тебя. Настоящего человека везде отличат! Это уж как в аптеке верно.
– Выкушай, Василий Саввич, чашечку чайку, – протягивая налитую чашку, попотчевала Марья гостя. – Поддержи компанию.
Василий не отказался. Он слил горячий чай в блюдечко и, по-детски смешно вытянув губы, стал дуть, чтобы чай немного остыл.
– От чаю я не отпорен... – после нескольких глотков объяснил он, – а тут у вас выходит вроде праздника... Право слово, как праздник!
Влас снова насторожился: опять ему показалась насмешка в словах Василия. Но Василий говорил, видимо, от души. И тогда Влас нащупал на столе блюдце с конфетами, гостинцами, которые он принес из городу, и, пододвигая Василию, радушно сказал:
– Бери кисленьких. С кисленькими скусней.
За столом стало легко, повеяло согласием и дружелюбием. Отхлебывая чай с блюдца, Василий непринужденно и просто говорил обо всем, что ему приходило в голову. А Влас внимательно вслушивался в его слова и наполнялся какой-то благодарностью к нему за то, что он не лезет с расспросами, не ворошит старого.
И, выждав небольшую остановку, краткий передых в болтовне Василия, Влас встрепенулся и заговорил. Что-то подтолкнуло его изнутри, и он стал рассказывать про город, про стройку, про себя и людей, которые там его окружали. Оживление охватило его. Он сам увлекся тем, о чем рассказывал. Как бы переживая снова все, что с ним было в городе, на работе, он зажегся близкими воспоминаниями, его голос зазвучал громко и властно, он стал уверенным и что-то крепко и убежденно знающим, – таким, каким был прежде, до ухода из дому.
Его рассказ захватил всех. Особенно Фильку и Василия. Они слушали его жадно, как слушают увлекательную сказку. Насторожились и остальные.
6.
О многом рассказал Влас. О себе, о стройке, о людях. Даже о базаре, на котором его так поразила жадность мужицкая, деревенская. Вспомнив о крестьянах, торговавших разной снедью и упрямо, с какой-то затаенной злобой, словно мстя за что-то, не уступавших городским ни копейки с заломленной непомерно высокой цены, Влас в сердцах сказал:
– Рвут! Прямо последнюю шкуру с людей сдирают.
И Василий уверенно заключил:
– Единоличники, которые вроде в кулаках да в подкулачниках...
О многом рассказал Влас. Но на одном осекся, замялся. Вдруг стало неловко и вроде как будто стыдно рассказывать о встречах с Некипеловым. И потому Влас сразу оборвал свои рассказы и нахмурился.
Но неугомонный Василий поразил, словно ударил:
– А ты там, Влас Егорыч, невзначай не натакался на след Некипелова Никаношки? – с веселой догадкой спросил он.
Влас ответил не сразу. Горячей волной удалила кровь в его голову: вот-вот оборвет, срежет бранным, злым словом бывшего балахонского жителя. Но, сдержавшись и потушив в себе ненужный и беспричинный гнев, он немного хрипло и приглушенно признался:
– Было дело... Раза два попадался он мне. Встречал.
– Да ну!?.. – оживились кругом и придвинулись потеснее к Власу. И даже Зинаида бросила свое что-то, домашнее, и насторожилась, услыхав последние слова отца.
– Встречал... – повторил Влас и с тоскою подумал о том, что, выходит, как будто и зазорно, что были у него эти встречи с опороченным человеком.
– Он сбежавши, – напомнил Василий. – Ему бы надо у чорта на куличках пребывать. А он ловчило! Ходит себе по городу, красуется! И Петька его там где-то обосновался... Не берет никакая кумуха кулацкую породу.
Влас почесал щеку и оглянулся. Марья поймала его взгляд и вдруг смело напомнила:
– Ты, Влас Егорыч, устал, поди, с дороги. А вечеру-то вон сколько, ночь!
Поняв намек, гости шумно поднялись с мест. Николай Петрович весело кивнул головой:
– Всамделе, отдохнуть надо хозяину. Да и нам поутру раненько надо за работу.
– Ну, отдыхай, Влас Егорыч! – подхватил Василий. – Хорошо поговорили. Очень интересно. Еще поговорим, расскажешь поболее... А тут присмотрись к нашей житухе!..
Когда чужие разошлись, Марья стала поторапливать Зинаиду:
– Прибирай, дочка, со стола. Надо отцу отдых дать.
– Пожалуй, пора набоковую, – потянулся Влас. – Уморились вы? Ложитесь ведь рано.
Со стола было быстро убрано. Зинаида, захлопнув дверцу шкафа, повернулась к отцу:
– Спокойной ночи, тятя! Я на поветях ночую. Пойдем, Филька!
Филька нехотя последовал за сестрой.
Влас позевнул и стал разуваться.
– Так-то, Марья. Живете, значит? Ничего, говоришь? Ладно?
– Как будто ладно, Влас. Конешно, скучно об своем хозяйстве. Да скучать недосуг. Работа. Я со скотом возжаюсь. Хороший скот подобрался...
– А как другие?
– Которые тоже шибко к работе привержены. Есть, конешно, отлынивающие. Без этого не бывает.
Влас босиком прошел к постели и потянулся.
– Та-ак... – проговорил он. – Так... Что же, и балахонские тоже не сдают? Приобвыкли к работе?
– Балахонские не хуже прочих, Влас. Даже на удивленье. Взять хотя бы Василия да Артема, или Никоныча старика. Сполняют свое дело хорошо.
– Удивительно мне это... – раздумчиво протянул Влас. – Не ждал. Скажи на милость! Васька Оглоблин, никогда у него за душой ничего не было, ни к какому хозяйству привычки не имел, а выходит из него справный хозяин! И не верится мне.
– Верно, верно, Влас! – горячо подхватила Марья. – И мне сумнительно было. А как он принялся охлопатывать насчет кормов, я и удостоверилась. Много он тогда трудов положил...
И Марья, воскрешая в своей памяти дни, когда Василий носился по окресностям в поисках кормов, стала рассказывать мужу о том, что тогда сделал Василий.
Не прерывая ее, прослушал Влас о Василии: ничего не сказал и, сидя на постели, внезапно впал в задумчивость. Марья притихла. С легким испугом сбоку посмотрела на мужа и увидела странное: Влас растерянно чему-то улыбался и глядел куда-то далеко, за стены избы.
– Влас! – нерешительно окликнула она. Улыбка растаяла на лице мужа, он встряхнулся и решительно стал расстегивать ворот рубахи.
– Спать, – сказал он тихо. – Давай, Марь, спать...
7.
Потушена лампа. Тьма. Влас лежит молча в постели, чувствуя возле себя по-привычному, как много лет подряд, Марью. Сон медленно и нехотя наваливается на него. Тишина в избе, тишина, от которой Влас отвык за последние месяцы, волнует его, слегка тревожит. Присмиревшая Марья дремлет, чутко сторожа покой мужа. Безвольно борясь со сном, Влас пытается продумать обо всем том, что встретило его в деревне. Но мысли не укладываются в ровные плавные вереницы – мысли скачут и путаются.
И так долго. Скачут и путаются мысли. Желанен сон, но хочется, чтоб настало поскорее утро.
И сон, наконец, приходит. Он мягко и крепко охватывает Власа. Он успокаивает его.
...Тяжела дорога. Она тянется полем. Поле пустое, безродное. Низко плывут над головою серые облака. Нет солнца. Где-то сеется дождь, и сюда доносится холодная сырость. Котомка давит плечи. Итти трудно: земля тянет к себе, ноги грузнут в рыхлой земле. И по бокам дороги горят унылые костры, дым от которых низко стелется по земле,
Влас идет и боится оглянуться. Тоска сжимает его сердце. Тоска раздирает его. Не хочется уходить из родных мест, не хочется итти в холодную неизвестность, но какая-то сила гонит его, гонит беспощадно. Порою он останавливается, и тогда ветер, неся с собою мельчайшие брызги далекого дождя, обвевает его горячий лоб и прижимается к нему острым холодком.
Влас идет, и тоска ширится в нем, тоска жалит его. Надо вернуться, непременно надо вернуться! Но нет сил, кто-то не пускает, кто-то гонит вперед, все вперед.
В тихом шелесте ветра слышатся какие-то смутные голоса. Кто-то смеется, кто-то плачет. Кто-то зовет, настойчиво зовет Власа. И он не может различить, откуда несутся призывные, смутные зовы: сзади ли или оттуда, куда он через силу идет?
В тихом шелесте ветра крепнут голоса. Вот уже различает Влас отдельные слова. Вот слышит он:
– Власушка... Влас, воротись, воротись!..
Да, это сзади кричат ему, сзади умоляют его вернуться. О, как хочется ему повиноваться этому зову! Но не может он, не может...
Дышать становится трудно: жестокая рука сжала грудь, жестокая рука добралась к горлу. Душно, душно Власу.
– Власушка!.. Воротись, Влас, воротись!..
Конечно, конечно, он вернется! Но нет сил повернуться обратно...
И вот громче и тревожней...
– Власушка! Влас!.. – И чужая рука отпускает горло, падает на плечо, треплет его:
– Власушка! проснись!..
С трудом отгоняя от себя кошмарный сон, Влас приподнимается на постели. Сквозь неплотно закрытые ставни льется в избу тонкий яркий солнечный луч. Марья тормошит Власа и тревожно повторяет:
– Проснись, Влас!.. Утро!
Влас окончательно просыпается. Теплая радость наполняет его всего. Нет никакой дороги. Утро. Как хорошо!
– Утро! – повторяет он. – Ну, хорошо, Марь! Очень хорошо! – И он ласково обхватывает жену за плечи и заглядывает в ее мерцающие в полутьме глаза. – Утро!..








