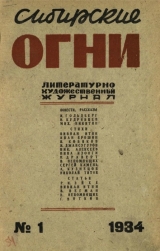
Текст книги "Жизнь начинается сегодня"
Автор книги: Иссак Гольдберг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)
Не так, как раньше, думал он и вспоминал о доме, о деревне, о своем Суходолье.
Тоска о доме прильнула к нему и стала неотвязной. Впервые за все время с тех пор, как ушел он из дому, потянуло его обратно. Впервые закопошилось сомнение: правильно ли поступил он тогда, плюнув на все, покинув хозяйство и не примкнув к новому, к тому, что зарождалось в старой деревне? Влас еще пытался строптиво гнать от себя это сомнение, но его невозможно было уже отогнать. Оно прочно и въедчиво впивалось в него и ширилось, и укреплялось.
И совсем смотала бы тоска Власа, если бы не подвернулись горячие дела на стройке, закружившие и его, как и сотни других рабочих.
Дело о вредителях разрасталось и становилось все более ясным и определившимся. Врага нащупали прочно, и он уже не мог выскользнуть. И казалось бы, что нужно теперь дождаться суда и услышать о каре, которая по справедливости настигнет вредителей. Но еще до суда все оборачивалось для Власа и для многих других по-необычному.
По баракам, в красном уголке, просто под открытым небом возле стройки пошли летучие собрания. Групкомщики, партийцы, знакомые и чужие выступали на этих собраниях и говорили о вредительстве. Но говорили как-то по-новому.
– Товарищи, – убеждали они строителей. – На всякое вредительство рабочий класс должен отвечать удвоенной, утроенной энергией в своей борьбе за соцстроительство. Вот у нас на стройке мы успели предотвратить злостное вредительство, и на этом нельзя останавливаться. Мало, что наш пролетарский суд покарает вредителей. Надо в ответ на хитрости, на происки врага дать хорошую, ударную работу. Надо поставить себе задачу – сократить срок постройки на несколько месяцев. Окончить ее к годовщине Октября!..
Когда Влас побывал на первом таком собрании, он не сразу уразумел, почему такая связь между вредительством и необходимостью приналечь на работу. Но он не стал допытываться и доспрашиваться, а решил сам самостоятельно уяснить себе дело. Решил еще раз внимательней послушать докладчиков. И попал на выступление Абрамовича.
Помня Абрамовича по тому собранию в бараке, на котором обсуждались выводы комиссии, лазившей на леса и установившей чью-то злую руку, Влас стал слушать его с непонятной и непривычной для себя жадностью. Абрамович тоже призывал строителей к лучшей, нежели раньше, работе. Он требовал, чтобы усилия врагов разбились об удесятеренную волю и энергию рабочих.
– Чем лучше и успешней мы, товарищи, будем работать, – говорил он, – тем труднее нашим врагам будет бороться против нас, гадить и вредить нам. Успешное наше строительство, выполнение наших планов раньше срока, – все это сделает нас богаче и сильнее. И, значит, никакие уловки врагов, капиталистов, кулаков и их пособников и помощников не смогут быть нам страшными... Давайте, товарищи, нажмем на работу! Давайте начнем работать по-ударному!..
Слова были простые и ясные. Хозяйственное чутье Власа оценило их мудрость. Да, крепкое и сильное хозяйство всегда легко сможет устоять против всяких невзгод! Даже в крестьянстве, в маленьком деле – и то это совершенно правильно. А особенно в таком громадном хозяйстве, как государство. Да, Власу это близко и по душе вот то, что говорит Абрамович. С головой, видать, человек. Влас придвинулся ближе к столу, возле которого стоял Абрамович, остроглазый, курчавый и порывистый. Влас почувствовал на себе его обжигающий взгляд, но не смутился и прямо и открыто взглянул ему в лицо.
«Да, правильно, – хотел он сказать этому чужому, но так верно говорящему человеку, – хорошей работой всякую беду можно избыть!».
Но не сказал. И выдал эту свою мысль позже, когда артельно вместе с лучшими плотниками, с которыми уже успел сработаться, заявил о готовности повысить норму выработки.
– Тут про проценты толковали. Ну, я на проценты не шибко горазд складывать, а только считайте так: желаю нажать, чтоб заместо одного, один с четвертью урока выходило. Будет это, как вы скажете, по-ударному?
– Будет! – смеясь, ответили Власу. – В самый раз будет.
Вечером в бараке Влас говорил Савельичу, оглядывавшему его с какой-то ласковой хитрецой:
– Они, значит, порчу какую, пакость, а мы им наоборот – работу! С плеча во всю мочь! Ты как думаешь, сдюжат они, не сопрет их?!
– Сопрет! – кивал головой Савельич, понимая, о ком говорит Влас. – Еще как сопрет! Отучатся леса подпиливать да мосты!..
– Мосты... – повторил Влас. – Значит, одним миром они мазаны, те да эти...
– Одним. И, следовательно, одним лекарством порчу эту лекарить надобно. Работой. Ударной.
– Работой. Ударной, – как эхо повторил Влас, ощущая в себе и радость, и тоску...
Глава двенадцатая
1.
Трактор рокотал в широком поле. Синеватые тучи низко плыли над землею. Молодая зелень трав блекла под рассеянным светом запрятавшегося и ныряющегося в тучах солнца. Начинал моросить дождь и брызги его распылялись на ветру. Николай Петрович вел машину по последнему клину. Сеялка засевала запоздалый клочок земли. Еще несколько часов работы и с яровыми будет покончено.
Намокшая кепка сжимала и терла лоб. Пора бы остановиться и, выключив машину, отправиться обедать, но коммунар, работавший на сеялке, подзадорил Николая Петровича кончить сев непременно сегодня засветло, и тракторист не хотел отставать от него.
В коммуне за время отсутствия Николая Петровича произошли некоторые перемены. Коммунара, тихого и ни в чем до того не замеченного мужика, Хороших Павла Емельяновича, поймали с мешком общественного зерна, которое он пытался увезти в соседнее село. Когда его стали стыдить и допрашивать и корить, он, отворачивая опаленное стыдом и страхом лицо, зло и нетерпеливо сказал:
– Может, я с голодухи... Отощамши...
Его заявление вызвало негодование коммунаров, кто-то не сдержался и ударил его, другой помог, и мужика стали бить. Отстоял его завхоз, который увел вора в правление и вызвал милиционера.
Коммуну возмутил не только самый случай воровства, а вот то объяснение, которое ему дал виновник.
– С голодухи! – зашумели коммунары.
– Он, значит, голодует, а мы нет! Он за мягоньким да за жирным куском потянулся!
– Сволочь отпетая!
– На обчественное, на наше обчее добро позарился! Да таких на месте пришивать надо! Без никаких судов!
– Эго што же, братцы, выйдет: как кому голодно покажется, так он, язви его, с коммуны что пожелает потащит?! У-у! сатаны!
Распалился гневом и Василий. Он сунулся в правление, пробрался к притихшему и прячущему виноватые глаза мужику и возмущенно укорил:
– Куды ты, Хороших, совесть-то запрятал? Куды?
Хороших быстро взглянул на Василия и неожиданно скривил губы в жесткую усмешку:
– А куды ты сам прятал ее, когды воровал на заимке?
Василий от неожиданности обомлел. Старое вдруг просунуло свое ядовитое жало и больно укусило.
– Я... – задохнулся Василий, силясь сказать что-то резкое, решительное и раз навсегда кладущее конец этому забытому случаю, но не смог.
– Да, ты! – вскинулся Хороших, жадно цепляясь за замешательство Василия. – А хто ж другой?.. Чем других-то попрекать...
– Ну, будет! – вмешался завхоз и отстранил Хороших от Василия.
Василии оглянулся, заметил неверные, прячущиеся глаза и сконфуженно вышел на улицу.
А позже Василий пришел в правление и, отворачивая горящее обидой и стыдом лицо, сказал Степану Петровичу, председателю:
– Подавал я намеднись заявление... в партию... Так ты разорви его, Степан Петрович...
– Пошто? – удивился председатель. – Раздумал ты, что ли?
– Раздумал... – тихо подтвердил Василий: – Не с руки мне выходит в партейных... Слыхал сам, чем корят: самый последний вор может мне в глаза наплевать, а я должен молчком утереться!..
– Это ты того, Василий, неправильно! – неуверенно возразил Степан Петрович. – Даже вполне неправильно!
– Нет, уж ты разорви... – стоял на своем Василий.
Степан Петрович вгляделся в него, отвел глаза в сторону и, подумав, заявил:
– Сообщу ячейке. Пушай сообразят.
– Чего уж там соображать, – горько усмехнулся Василий и махнул рукой. – Все соображено и обсказано...
На ближайшем заседании ячейки Степан Петрович рассказал о просьбе Василия.
– Совесть у мужика тонкая, – усмехнулся он. – Припомнили ему старый грешок, его и заслабило. Опасается в партию вступать.
Зайцев строго взглянул на председателя:
– Полагаешь, смешно это да пустяшно?
– Ярундовина, – не сдался Степан Петрович. – Нестоющий разговор.
Тогда Николай Петрович, не дожидаясь вторичного замечания секретаря, широко осклабился и резко взмахнул рукою, словно разрубая густой воздух:
– Не плохой парень Оглоблин-то! Действительно, совесть тонкая. С им, товарищ Зайцев, по душам потолковать следует. Разъяснить ему, что и как. Очень даже следует!
Но Зайцев отчего-то неожиданно рассердился.
– Это что же на самом деле! – вспыхнул он. – Няньки мы, что ли? Партия на самых лучших держится, и тут отбор должен быть строгий. И если человек сам чувствует, что недостоин, то силком его тащить преступно и непартийно...
– Заблуждается он, – тихо уронил Николай Петрович. – В заблуждение пришел. Ведь он, Оглоблин-то, самый настоящий пролетарий, сознательный и полезный. А прошедшее, так ведь оно пустяковое, с голодухи это было у него и по темноте...
– Пример может выйти для прочих нехороший, – осмелел Степан Петрович. – Скажут, воров мы в партию, в коммунистическую привечаем...
– А ну вас!.. – рассердился Николай Петрович, но замолчал, встретив упорный и порицающий взгляд Зайцева.
И вот теперь, прорезая последние борозды, тракторист вспоминал об этом разговоре и мучительно соображал: по настоящей ли линии в этом незначительном, но важном деле шел секретарь Зайцев. Казалось Николаю Петровичу, что надо бы Василия обласкать, поговорить с ним, разъяснить ему, что прошлое никакого знака на нем не оставило, что пустяшное это дело давно им изглажено, особенно теперь, когда он такой хороший и деятельный общественник. Но, с другой стороны, силен был авторитет секретаря, который ведь не будет зря и беспричинно высказывать свою твердую волю.
Дождь усиливался. С набухшего козырька кепки стекали тяжелые капли и, падая, щекотали щеки и шею. Николай Петрович мотал головой и отфыркивался. Но надоедливые капли, как и привязавшиеся к нему мысли о Василии, о секретаре и о разговоре в ячейке, не стряхивались и раздражали.
Встреча Зинаиды с Николаем Петровичем впервые, когда он только-что приехал из больницы, была самая простая, обыденная. Тракторист приметил девушку возле детского очага, подобрался, согнал с лица улыбку и, дождавшись, когда она взглянула на него, самым равнодушным и спокойным тоном поздоровался:
– Здравствуй-ка, Зинаида Власовна! Командуешь с малолетнею оравою?
Зинаида потушила мгновенно вспыхнувший в ее глазах огонек и так же равнодушно и спокойно ответила:
– Здравствуй, Николай Петрович. Починился?
– Вполне. А тебе от родителя поклон. Видал я его.
– Видал? Не собирается он домой?
Тракторист усмехнулся и придвинулся к Зинаиде поближе:
– Самолюбие в нем очень большое. Внутри, пожалуй, со всем жаром бы домой обратился, а снаружи скрывает себя, топорщится!
– Самолюбие – это верно, – согласилась девушка. – Гордость.
У тракториста вспыхнули в глазах огоньки.
– Вот вроде как бы и у тебя?
– Чего?
– Да вся ты, видать, в отца своего.
– А в кого же больше?
Тракторист промолчал. Потом другим тоном, потише спросил:
– Письмо наше получили?
– Получили, – кивнула головой Зинаида и, расслышав детский крик, несшийся из окна, повернулась к очагу.
И уже на крыльце, скрываясь в дверях, звонко, сочным голосом крикнула:
– Спасибо за память!
Николай Петрович пошел своей дорогой, пряча в уголках рта веселую усмешку.
В эти первые дни возвращения сюда после болезни он ко всему присматривался новыми глазами, словно видел все по-новому. И по-новому увидел, рассмотрел он и Зинаиду, которая стала почему-то милее и ближе, несмотря на ее кажущуюся холодность.
К работе Николаю Петровичу не пришлось приступить сразу. Тракторист, привезенный из города, был нанят на месяц, и все равно ему бы пришлось уплатить зарплату сполна. Поэтому Николаю Петровичу сказали:
– Передохни дня два, а там мы покеда тебе занятье сыщем. Не бойсь, без дела не будешь!
И, передыхая эти несколько дней, Николай Петрович обходил хозяйство коммуны, убредал в поля, вертелся возле коммунаров, приглядывался ко всему, все примечал. И за эти несколько дней он увидел коммуну и коммунаров так, как раньше не видывал. За эти несколько дней он яснее, чем когда-либо, обнаружил многие недостатки и прорехи в хозяйстве коммуны. И в то же время заметил ярче все хорошее и радостное, что пришло в новую деревню.
Приглядываясь ко многому, он пристальнее вгляделся и в Василия. Пылание этого немножко сумбурного и шумного мужика, его напористая жажда быть хорошим общественником, его старания браться за трудное дело и доводить его до конца – все это и прежде будило внимание Николая Петровича, но теперь, когда Василий сам смутился своего прошлого и почел его преградой для вступления в партию, теперь Оглоблин заинтересовал Николая Петровича как никогда. Тракторист стал прислушиваться к тому, как расценивали другие коммунары поступок Василия, стал сам заводить об этом разговор кой с кем из положительных и исправных общественников. Разные люди по-разному относились к самооценке Василия. Люди, считавшие себя в прошлом выше и лучше «балахонцев», уклончиво и скользко твердили:
– Значит, сам он себя так понимает, что недостоин... Ну, в этом разе ему самому виднее...
Но Балахня бралась за это дело страстно.
– Это чо он, язви его, придумывает! – бушевала она. – У его всего одна какая-нибудь промашка эвон когды была, а он теперь припомнил!.. Дурит он! Ему бы наплевать, нахаркать каждому, кто попреки в старом делать станет, да и все!..
– И попреки-то все сволочи делают. Рази хороший человек будет старое ворошить?!
Артем, разговорившись с Николаем Петровичем о Василии, даже рассердился:
– Я ему, Ваське, за мудрованье его шею намылю! Право!.. Что он казанской сиротой прикидывается!?
– Он не прикидывается, – возразил тракторист, – ему это так самому кажется. Считает он, значит, партию делом большой важности...
– Против этого не спорю. Верно, партия, она штука великая. Да он что же на каждую удочку зацепляется. Ему седни один какой хлюст корявое слово скажет, он и скиснет. Не-ет! Это не фасон. В этом правильности ни порошинки нету!..
Бурля и негодуя, Артем пообещался крепко поговорить с Василием.
Тракторист подоспел к этому разговору и был свидетелем ссоры двух приятелей.
Василий был спокоен и настойчив. Артем кипятился и наскакивал на него.
– Ты чего угодничка из себя строишь? Живым на небо хошь прыгнуть?!
– Я по совести...
– Значит, считаешь себя неоправданным? На всю жизнь из-за кулацкого мешка хлеба замаранным признаешь себя?
Беспокойство мелькнуло в глазах у Василия.
– Сказал ты! У меня такого мненья нету...
– Ага! – торжествовал Артем. – Мненья такого нету, а в партею, в большевицкую, опасаешься поступать! Это как же надо понимать?
– Я не для себя опасаюсь... – понемногу теряя почву под ногами, настаивал еще на своем Василий. – Я, чтобы тени на партею не было положено... Придет какой другой да и разоряться станет: мол, в партее в вашей народ нечистый треплется...
– Фу-у! – негодовал Артем, слегка сбиваясь с верной позиции. – Заладил ты, Василей, одно... Упрямство в тебе...
Николай Петрович оглядел обоих спорщиков и весело усмехнулся.
– Ты свою промашку, Оглоблин, давно уже с себя счистил! Сам знаешь, нет таких преступлений, которые бы хорошим поведением нельзя было счистить с себя. А у тебя и преступления-то почитай никакого не было, а так, ошибка...
Слабая улыбка тронула губы Василия:
– Конешно... Да ведь я о чем, Николай Петрович? Я о том, чтоб не болтали да не страмили партею... Деревенские люди – они какие? Они ко всему худому придираются, а на хорошее у них зенки закрыты.
– Партия – рабочая, трудящихся, – поучал Николай Петрович, сам прислушиваясь к своим словам. – Тут первый закон какой? – если приносишь настоящую и полную пользу классу, социализму, то достоин. А на всякое другое – плюй с высокой точки!
– Вот, вот это самое! – обрадовался Артем. – Это самое я тебе и говорю, Василей! Класс! Понятно тебе, чудак?!
Слово класс видимо смущало и тревожило Василия. Какой-то особенный, не совсем понятный смысл вкладывался в это слово, и смысл этот к чему-то обязывал, чего-то требовал.
– Понятно... – неуверенно откликнулся он.
– Ну, вот! Плюй с самой высшей точки! Тебе дело говорит Николай Петрович. Он сам пролетарского классу.
– А работаешь ты, – продолжал уверенно Николай Петрович, – слышал я, на совесть, хорошо. Чего ж тебе бояться? Шпарь прямо, и все!
– Шпарь! – громко повторил Артем и горделиво поглядел на приятеля.
Василий угрюмо молчал.
3.[5]5
Так в журнальной публикации – сбой в нумерации подглавок.
[Закрыть]
Между тем дело о подпиленном мосте где-то потихоньку и незаметно продвигалось вперед. Однажды в Суходольское, взрывая густые, горячие клубы пыли, прискакал милиционер.
На пустынной улице рылись в серой пыли курицы. Они ошалело шарахнулись в стороны от всадника. Всадник осадил коня возле правления колхоза, спешился и, обмахиваясь измятым картузом, ловко взошел по ступенькам высокого крыльца.
Счетовод слегка встревоженно ответил на сухое приветствие вошедшего и вылез из-за стола:
– Вам председателя?
– Его, – подтвердил милиционер, устало опускаясь на скрипучий стул. – В отсутствии он, что ли?
– Должен скоро навернуться. Минут вроде через десять.
– Ежели не больше, то терпимо, – согласился милиционер и закурил.
Он курил медленно и хозяйственно, а счетовод листал свои книги и ведомости и все украдкой оглядывался на неожиданного гостя и безуспешно тушил в себе жаркое любопытство.
– Срочное, что ли, дело-то? – не выдержал он, отодвигая от себя бумаги.
Милиционер затянулся и раз и другой, и уже потом сухо и кратко ответил:
– Срочное.
Когда Степан Петрович пришел, запыхавшись и отдуваясь от жары, в контору, милиционер уже выкурил толстую самокрутку, а счетовод угрюмо и независимо перелистывал какую-то большую тетрадь и громко щелкал на счетах.
– Надо бы совершенно секретно... – предупредил милиционер председателя. – Где тут у вас можно?
Степан Петрович увел милиционера к себе на квартиру, а счетовод, швырнув от себя тетрадь, оскорбленно фыркнул:
– Государственная тайна!..
Спустя немного времени к председателю на квартиру позвали Василия, завхоза, еще двух-трех коммунаров.
– Вот, – объяснил Степан Петрович, – арестованы некоторые по касательству с мостом и с поджогом. В Сухой Пади и в прочем месте. Поедешь, товарищ Оглоблин, со мною и с товарищем милицейским. На дознание. Как ты тогда искал по этим делам, то можешь указания какие дать и всякое иное.
– Что ж, поеду, – согласился Василий, – какую могу пользу, всегда с полной душой...
– О душе без внимания, – учительно сказал милиционер, – по делу нужно опознать некоторых злоумышленных и контрреволюционных субчиков. А опознать могут, конечно, те, которые знают их, то-есть соседи и бывшие знакомые...
– Может, мне там никто не приходится знакомый, как я опознавать буду? – посомневался Василий. Милиционер успокоил:
– И это к делу касаемо, если не знакомые и окончательно чужие этой местности лица. Значит, ехать надо без промедления времени.
Пока ходили устраивать с лошадьми, милиционер в отсутствия Василия справился о нем у Степана Петровича:
– Мужик надежный? Не трепач?
– Надежный, – уверил его председатель.
Ездили Василий с милиционером и Степаном Петровичем два дня. Потом председатель и Василий вернулись домой и очень скупо рассказали, что были они у следователя и что приводили им для опознания двух крестьян, одного из Сухой Пади, знакомого, а другого неизвестного, откуда-то издалека. Знакомый клялся и божился, что он ни в чем не виноват и что его арестовали по ошибке, а чужой все настаивал на том, что находится он, мол, в этих местах недавно и зря его путают в какие-то нехорошие дела.
– А рожа у него, – добавлял, рассказывая об этом, Василий, – красная, и борода рыжая, как огонь! Самая кулацкая рожа!
– Что ж, разве на ей напечатано, что она кулацкая? – смеялись слушатели. – Вот у нас у Андрей Васильича личность самая разбойная, а известно, что мужик мухи не обидит!..
Прошло несколько дней, и стали уже забывать о приезде милиционера и об арестованных, но тут заявился, наконец, из города, из больницы Филька. Сияющий радостью, возбужденный возвращением домой, он еле успел поздороваться с матерью и с сестрою и побежал по знакомым местам. Он встретился с трактористом возле машины, которую тот чинил и налаживал, и кинулся осматривать трактор:
– Целый он? Насовсем поправили?
– Целый! Здорово, Филипп Власович. С благополучным возвращеньицем!
Николай Петрович весело шутил с парнишкой, трепля его по плечу. Филька, тщетно стараясь скрыть радость от встречи с трактористом, надувался и говорил по-взрослому:
– Ладно уж... Ну, как тут?..
– Все благополучно, Филипп Власович!– насмешливо и любовно сияя глазами, докладывал Николай Петрович. – Все благополучно. Даже двое арестованы, вроде как будто те самые, которые с мостом гадили...
– Ну-у? – встрепенулся Филька. – Это здорово!
– Пока еще, брат, не установлено, что те самые, но есть подозрение. Главное – один рыжий!
– Ну-у?! – еще сильнее встрепенулся Филька. – Пошто же рыжий?
– А ты знаешь присловье такое: рыжий, красный – человек опасный? Вот от того самого.
Филька наморщил лоб и о чем-то задумался. Но задумчивость его была мимолетной и непрочной. Кругом все было такое родное, везде надо было побывать, со всеми перекинуться парою слов, всем бросить клочок, осколок того нового, что ухватил он в городе, от всех узнать, урвать про здешнее, про то, что случилось в его отсутствие. И он на короткое время позабыл о рыжем, которого арестовали.
Только вечером дома, когда Марья жадно и нетерпеливо расспрашивала его об отце, а Зинаида, насмешливо сверкая зубами, подразнивала его всякими пустяками, он вдруг заинтересованно стал добиваться подробностей арестов: когда это было, да кто такие. Но Марья почти ничего не знала об этом, а Зинаида легонько стукнула братишку по затылку и шутливо прикрикнула:
– Ну, ты, допросчик! Заладил!..
Филька уснул эту первую ночь после возвращения домой крепко: очень уж он намаялся за день. Ночью сон внезапно сошел с него. Он проснулся и стал думать о чем-то назойливом, неотвязном. Он стал что-то припоминать. Ворочаясь и поскребывая пятерней коротко остриженную голову, он привлек внимание матери:
– Ты что жа, Филя, не спишь? – встревожилась она.
Филька промолчал. Потом сполз с постели, пошел напился, пошатался по душной избе и, остановившись подле постели Зинаиды, легонько толкнул сестру в плечо.
– Кого? – недовольно пробормотала Зинаида. – Куда?..
– Зинка, – наклонился он к ней и приглушил голос до шопота. – Зинка, а я однако рыжего-то видал!..
– Пошел спать, дурень! – отвернулась от него сестра и снова крепко заснула.
Филька обиженно поплелся на свое место и вскоре сон напрочно одолел его.
4.
Наутро Филька, которому нашлось в коммуне дело, весело трясся на неоседланном пегашке по пыльной полевой дороге. Густой, радостный и знакомый дух шел от земли. Поля лежали приглаженные, на обочинах дороги зеленела крепкая трава. Фильку томило какое-то неуловимое воспоминание. Он оглядывался вокруг и все припоминал: что же это такое? В стороне посвистывали задорно птицы. Их свист внезапно разорвал пред Филькой туман, застилавший его память. Он вспомнил свою поездку с поля за болтами. Вспомнил мужика, угощавшего его калачом и салом. Рыжего мужика! Беспокойное и жадное чувство охватило Фильку. Какой же это был мужик? Откуда?.. Припомнилось Фильке, что мужик расспрашивал его о чем-то, поминал Василия. О чем он расспрашивал? Напрягая память, Филька силился представить себе тогдашнюю встречу и все слова, которые говорил ему рыжий мужик. Но многого вспомнить и представить не мог.
Птицы продолжали распевать задорно, от земли и от травы шел волнующий запах, солнце жгло упорно и нещадно.
Кой-что зацепив памятью из того, что говорил и о чем расспрашивал рыжий, Филька приехал на полевой стан с горячим желанием с кем-нибудь поделиться своими воспоминаниями, сомнениями и предположениями.
На стане он встретился с Василием. И, урвав удобную минуту, Филька приступил к Оглоблину с рассказами.
– Рыжий? Про меня расспросы вел? Нет, Филя, не знаю такого. Нет у меня таких дружков или бы знакомых, чтобы рыжие да с бородами...
– Борода огромадная, – подтвердил Филька. – Широкая бородища.
– С такими бородами нет у меня знакомых, – повторил Василий, усмехаясь, И потом с лукавой усмешкой же добавил: – Окромя вон того, которого в милиции опознавать ездил...
Но не успела еще усмешка погаснуть на губах Василия, как оба, и Филька и Василий, переглянулись, пораженные одной мыслью.
– Филь! – всполошился Василий. – А не этот ли твой рыжий, который в арестном? Ведь все может быть, Филь!
– Не знаю... Может он. Мне бы поглядеть ...
– Самое правильное! Конечно, поглядеть тебе на его надо, признать!
Взбодренные этим соображением, они разыскали председателя, рассказали ему, в чем дело, и спросили его совета. Степан Петрович тоже полагал, что Фильку нужно свозить в район и устроить ему очную ставку с рыжим.
– Шутя-шутя, а может таким способом и до корня доберемся, – сказал Степан Петрович.
После трудового дня, когда легкая прохлада беспомощно и не надолго прильнула к накаленной за день земле, возле правленческого крыльца собрались отдыхающие коммунары. Золотые звездочки папиросок чертили непрочную темноту вечера. Умиротворенно звучали голоса. Артем, сидя на нижней ступеньке, громко рассказывал что-то тягучее и бесконечное. Его слушали молча и добродушно. Дверь из правления раскрылась, и недовольный голос счетовода кинул в толпу:
– Никакого у вас понятия нету. У меня вечерняя работа, строчная, а вы отвлекаете и препятствуете.
– А мы вольготненько, потихоньку, – возразил кто-то незлобиво.
– При счетной работе всякое беспокойство мешает, – учительно напомнил счетовод. – Тут умственность, а не что-либо!..
Папироски вспыхнули ярче, золотые звездочки взлетели и поплыли вниз. Не надолго установилась на крыльце тишина. И только начала упрочиваться эта тишина, как издали, с верхнего конца деревни, покатился какой-то необычный и неожиданный шум. Всхлипнули и залились острым лаем собаки, послышался смутный говор. Артем вскочил на ноги, зашевелились на крыльце и остальные:
– Кого это там несет?
Покрывая собачий лай и смутный говор, затарахтела весело и четко телега. Она направлялась прямо к правлению. Она остановилась возле крыльца. Лошадь фыркнула. С телеги сошли на землю три седока.
– Здорово! Есть кто-нибудь живой?
– Все живые!
– А постарше кто? Вроде председателя или там помощника, что ли?
– Завхоз, кажись, со счетоводом над бумагами мудруют.
Трое поднялись на крыльцо и вошли в правление. За ними, любопытствуя и заинтересованно присмирев, вошли все бывшие на крыльце.
При свете лампы троих разглядели: все молодые, у одного в руках портфель. Завхоз и счетовод насторожились, увидев незнакомых людей. Тот, у которого был портфель, огляделся, снял с головы кепку и весело сказал:
– Ну, здравствуйте! Приехали мы поработать с вами. Я вот дальше поеду, а товарищ Лундин Тимофей с вами останется.
– Здравствуйте! – выдвинулся другой. – Это, выходит, я самый Тимофей Лундин и есть! Примайте живую рабочую силу!
В правлении сразу от новоприбывших стало как-то веселее и оживленнее. Коммунары сдвинулись ближе к столу, возле которого стояли приезжие. Артем высунулся из кучки и сунул руку Лундину:
– С приездом, товарищ! По какой части будешь?
– По рабочей! – смеясь ответил тот. – Специальность моя кожевник, а у вас куда пристроите, там и буду!
Кто-то сбегал в это время за председателем. Степан Петрович пришел вместе с Зайцевым.
И тогда коммунаров строго и решительно попросили очистить комнату.
– Зря! – вспыхнул Артем, выходя на крыльцо. – Ребята-то, видно хорошие! Неужто мы бы помешали!
Утром лошадь, привезшая Лундина, повезла дальше его товарищей, попутно захватив в район Фильку с Василием.
5.
Когда в душную комнату следователя ввели хмурого рыжебородого мужика, и он, не заметив сразу Фильку, взглянул на Василия и облегченно перевел дух, следователь круто повернулся к мальчику и предложил:
– А ну-ка, товарищ Медведев, взгляни на этого гражданина. Встречал?
Филька впился глазами в сразу подобравшегося и насторожившегося мужика и быстро выдохнул из себя:
– Он, дяденька!..
– Кто, он? – качнулся следователь к Фильке.
– Да вот он... На поле я его видел...
– Врет мальчишка! – угрюмо сказал рыжебородый. – Какой он может быть свидетель, он – несовершенных лет!
– А в чем же свидетельствовать он не может? – вцепился следователь в арестованного. – В чем?
– Не знаю... – смешался тот. – Ваше дело...
Следователь усмехнулся и предложил Фильке рассказывать, что он знает.
У Фильки зардели уши. Он набрал полную грудь воздуха и начал говорить. Он рассказывал, как он ехал верхом за болтами, как встретил этого мужика на дороге, как они стали разговаривать. Но, дойдя до калача с салом, Филька смутился и замолчал.
– Ну, а дальше? – с легким нетерпением спросил следователь.
Филька переминулся с ноги на ногу и опустил глаза.
– Калач... с салом. Угощал он меня...
Рыжий метнул в Фильку свирепым взглядом. Веселые огоньки сверкнули в глазах следователя.
– Та-ак... – протянул он, обращаясь к рыжему. – Так, значит, Феклин, вы настаиваете, что никогда не бывали в окрестностях села Суходольского? Настаиваете?
– Настаиваю!.. – угрюмо и непреклонно ответил допрашиваемый. – А что мальчишка врет, так его, может, подучили! Я его впервые в глаза вижу!
– Ай, врет! ай, вруша какой! – вскипел и загорелся весь Филька. – Пошто ты обманываешь? Ведь ты меня угощал калачом? Угощал?..
Остановив Фильку, следователь тихо и раздельно спросил Феклина:
– Скажите, Феклин, у вас родственники имеются в городе? Кто они и чем занимаются?
Самоуверенность чуть-чуть дрогнула у допрашиваемого.
– Имеются... брат у меня...
– А чем он занимается?
– Робит на постройке. Плотником.
– И сейчас, – подчеркнул следователь слово «сейчас», – он там работает?
– Угу! – промычал Феклин, тряхнув головой.
– Ладно, – махнул рукою следователь, и Феклина увели.
Ни Василий, ни Филька, которых следователь тоже отпустил домой, не поняли, при чем тут брат Феклина, работающий плотником где-то в городе, и почему рыжий явно обеспокоился, как только следователь спросил его о брате. Оба в тот же день вернулись домой и вошли в горячую жизнь полей и всего, чем наполнены были те дни в коммуне.








