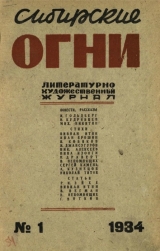
Текст книги "Жизнь начинается сегодня"
Автор книги: Иссак Гольдберг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
Глава пятнадцатая
1.
В столовой коммуны было шумно.
Ужинать сели поздно, и когда стряпухи разложили перед каждым по два ломтика хлеба и предупредили, что добавки не будет, сначала установилась нехорошая, угрюмая тишина, а затем и взорвалось.
– Пошто так мало хлеба?
– На пайку посадили! Самый бой работы, а тут на голодное брюхо!.. Этто што же такое?!
Хозяйка столовой вышла из-за перегородки и стала объяснять:
– От правленья такой приказ. Нехватит хлеба-то до нового. Ну снизили порцию. Я в этом не виноватая!
– Нам все равно, кто приказал! У нас брюхо не спросит – правленье, ты ли!
– Пошто народ морите?
Послали за Андреем Васильевичем.
– Вы чего, ребята, шумите? – прикинулся завхоз ничего не понимающим.
– Ты, завхоз! Мы тебя за этим ставили, чтоб ты нас голодом морил?
– Работаем, работаем, а тут на кусочки посадили!
Ужинавшие побросали ложки и повернулись угрожающе к завхозу. Андрей Васильевич немного струсил.
– Ребята, – просительно заговорил он, – возьмите в соображение, что запасу у нас мало. Надо дотянуть до свежего хлебу. А чтоб дотянуть, економию следует соблюсти!
– Економия! А ты на своей шее економию эту самую соблюдай! На своей!
– Чужим брюхом не командуй!.. Работать работаем, значит и харч должон быть настоящий!
– Вы на себя работаете! Сами хозяева! – врезался в беспорядочный говор Андрей Васильевич.
– Это только так говорится! – крикнул кто-то. Но не успели другие голоса подхватить этот крик, как стоявший в дверях столовой Лундин быстро прошел к столам и поднял вверх руку:
– Стойте, товарищи! Неладный разговор, вижу я, тут промежду вас идет! Совсем неладный!
Лундина в коммуне знали еще плохо. К нему, как ко всякому свежему человеку, попадавшему в деревню, приглядывались настороженно и выжидающе. Поэтому его появление и его возглас произвели некоторое действие. За столами затихло.
– Самый неладный разговор! – продолжал Лундин, оглядывая ужинающих. – В коммуне все хозяева! Значит, если что неладно, так всем сообща и поправлять надо! А на чужого дядю пенять да себя казанскими сиротами выказывать – это забава глупая! Да, попросту, по-рабочему говорю: глупая!..
За столами вспыхнуло недовольство, вот-вот разразится с новой силой крик. Но Лундин не дал этому крику разгореться и продолжал:
– Я, товарищи, правду режу, не стесняясь. По-большевистски! А если у меня что неправильно, так и вы кройте меня без пощады. Только покудова меня не за что крыть, а у вас вот оплошка вышла... Жалуетесь, что мало хлеба? А откуда его взять? Когда коммуна собиралась, когда всё в общее стали слаживать, мало ли кто из коммунаров на сторону запасы разбазаривал? Вошло в думку у некоторых, что раз, дескать, коммуна, то там дадут, и гуляй покудова душа?! Не верно я говорю? Не правильно?
Легкое ворчание прокатилось по столовой. Чей-то голос приглушенно поддержал:
– Верно...
– Разумеется, верно! – укрепившись этой первой слабой поддержкой, подхватил Лундин. – Это как дважды два! А теперь время самое горячее, до урожаю потерпеть нужно, сжаться и не скулить! Чего вы испугались? Хлеба к ужину мало выдали? А вы забыли, что в двадцатых годах мы на фронтах жрали? Да мы бы тогды за два таких ломоточка плясать от радости пошли! И ничего, терпели мы, не бунтовали, а белых мы все же выгнали. На голодное брюхо!
Люди, слушавшие Лундина, который словно застиг их врасплох, очнулись.
– Дак то на фронте!.. По военному времени!
– Никакого сравненья!
– Сравненье полное! – не отступал от них Лундин. – Полное, говорю, с фронтом сравненье! Там – защита позиций да наступление на врага, и здесь то же самое. Защищаем позиции социалистического земледелия, коллективизацию! И наступаем на врагов. Врагов-то не мало кругом. Сами видите, сами знаете!
– Знаем!..
Уловив что-то нездоровое и задорное в этом возгласе, Лундин поискал глазами того, кто перебил его, и внушительно поднял палец:
– Знаете, да, видно, плохо! Ведь это самое разлюбезное дело для наших врагов, когда мы сами начинаем порочить наше общее, кровное дело! Вы вот тут шум подняли из-за недостатков, а врагу, и первому среди них – кулаку, самое это разлюбезное дело. Он уж погреется, попользуется от этого! Не упустит своего!.. А по-рабочему, по-пролетарски, по-большевистски нужно как? Наплевать на временные недостатки, да и нажать на работу! Так нажать, чтобы к зиме самим сытыми быть и государству пользу большую принести!
– Работаем всем горбом, ажно хребты трешшат!...
– По силам работаем! На-совесть!
– Не совсем... – Лундин приостановился и вызывающе оглядел коммунаров. – Не совсем на-совесть работа, товарищи, идет!
– Ты докажи!.. – сорвался кто-то с места. – Докажи!
– На словах можно во всем укорить!
– Словам цена малая!
– А я докажу! У меня цифры имеются! Счет и числа!..
– Давай. Выкладывай!
– Давай твои числа сюда!..
Хозяйка вышла на средину столовой и, немного потеснив Лундина в сторону, пронзительным, высоким голосом прокричала:
– Мужики-и! Кончайте паужин! Управляться нам, стряпухам, надоть!.. Кончайте!
Лундин спохватился. Ужин затянулся. Коммунарам нужно было поесть и пораньше ложиться спать: завтра с зарею на работу.
– Вы, товарищи, ужинайте. Я свои числа да доказательства выложу перед всеми, перед всей коммуной скоро. Может, завтра.
– Посмотрим! – насмешливо и задорно крикнули с дальнего стола. Коммунары угрюмо и поспешно принялись за прерванный ужин.
2.
Цифры и числа, о которых Тимофей Лундин кричал коммунарам в столовой, были неутешительные.
Посевная кампания пришла к концу, а у коммуны оказался громадный недосев. Большой клин хорошей земли оставался незасеянным, потому что нехватило семян. С семенами вышло то же самое, что и с кормами для скота, и как ни выкручивались коммунары, нигде перехватить семян не удалось. Кто-то, памятуя успех Василия, раздобывшего спрятанные корма, сунулся искать этою же дорогой зерно, но ничего не вышло. Все поиски оказались безуспешными.
И совпало, что в дни, когда коммуна была занята целым рядом событий, когда за пожарами и порчей моста пришло покушение на Василия, когда в переплете разноречивых слухов и настроений в коммуне и вокруг коммунаров закрутилось что-то суматошное и беспорядочное, – совпало, что счетовод вытащил свои широкие ведомости и реестры и с непонятной улыбкой и как бы гордясь чем-то, внушительно заявил:
– Вот у меня окончательный итог. Планы плановали на общий посев в 675 га, да чтоб непременно пшеницы было не менее четыреста. А на сегодняшнее число по тем рапортичкам, которые мне через час по столовой ложке товарищ Андрей Васильевич, завхоз, давал, вышло всего только четыреста девяносто шесть и три чети... Ну-те-с, в процентах семьдесят четыре без малого. Ни больше, ни меньше!
Счетовод обвел правленцев и коммунаров, внимательно вслушивавшихся в его слова, торжествующим взглядом и добавил:
– Учет – дело серьезнейшее! Не даром вожди об учете директивы генеральные написали!
Феклуша Баландина, подручный счетовода, пригнулась к столу и спрятала веселую усмешку: эти слова своего начальника она слышала уже не раз, и каждый раз ей становилось смешно от них.
Но Степан Петрович, то ли от внушительных слов про вождей, то ли от объявленной счетоводом низкой цифры выполнения плана, весь ссунулся вниз, осел за столом и молча пожевал губами. Угрюмое молчание оборвал Зайцев.
– Процент позорный! – крикнул он, подымаясь над столом. – За такой процент нас всех бить надо! Беспощадно бить!
– Да-а, – покрутил головой Лундин. – Бить без сожаленья! Это не работа, а... – он покосился в сторону Феклуши. – Сказал бы я какая, да девицу конфузить не хочу...
– Нам понятно! – уронил кто-то, невесело засмеявшись.
– Если понятно, так сердечно доволен я.
– Три четверти плана! – рубнул ребром ладони по столу Зайцев. – В коммуне! когда на себя работали! добровольно и с полной свободой!.. За это судить надо! Руководителей!
– Ты, товарищ Зайцев, тоже тут был... в руководителях... – напомнил Степан Петрович.
– И меня! И я неотпорен от ответственности! Сколько доли моего упущения, столько и взыскать с меня надо!
Андрей Васильевич ухватил минутную передышку в гневной речи Зайцева и примиряюще заметил:
– Семян не было. Каки тут планы, ежли сеять нечем! Искали, шуровали заблаговременно. Их не родишь, ежли нету...
– С кормами весною тоже плохо было, – напомнил Николай Петрович. – Тоже руки опустили, а взялся самый простой человек, Оглоблин Василий, корма и нашлись!
Коммунары сбросили с себя хмурую настороженность, заговорили.
– Пробовали, ну, ничего не вышло!
– Кои хлеб попрятали, так успели захоронить его, что и недоищешься.
– А кои на базар сплавили! Продали!..
– Продавали втихаря и коммунары, – напомнил Лундин.
– Не знаем! Мы не продавали!.. – сухо и неприязненно ответили Лундину.
– Сказать все можно. От слов, конечно, ничего не доспеется...
Слова Лундина. очевидно, сильно задели коммунаров. Но Зайцев крепко ухватился за предположение.
– Ясно! Некоторые шли в коммуну вроде как на иждивение. Государство, мол, все даст, валяй, ребята, разбазаривай свои животы! А то не понимали, что самим потом туго станет, вот как теперь.
Счетовод наклонил голову и, как-то сбоку прислушиваясь к тому, что возле него говорилось, перемешал стопочку тетрадей перед собою и выжидательно поглядел на председателя.
– Еще что? – спросил тот обреченно.
– Насчет состояния задолженности...
– Обсуждали в прошлый раз.
– Бумага получена от райколхозсоюза. Взнос за трактор. Пятьсот.
– Ладно! – махнул рукою Степан Петрович. – Опосля!
В правлении стоял глухой шум. Разговаривали в разных углах приглушенно отдельные группы коммунаров. Зайцев перегнулся к Лундину и горячо что-то ему доказывал. Николай Петрович, недовольно морщась, выслушивал какие-то путанные объяснения Андрея Васильевича. Счетовод усмехнулся, поджал губы и понизил голос:
– На прошедшей неделе срок был...
– Ладно! – повторил председатель и круто отвернулся от счетовода.
Лундин между тем выслушал Зайцева, отодвинулся от него, и громко заявил:
– Теперь, конечно, поздно пререкаться да корить друг друга. Но, между прочим, не мешает разъяснить всем о положении. А то некоторые бузят. Вышла небольшая нехватка в столовой, а там митинги завелись, буза. Огорочаются на коммуну, а того не понимают, что каждый виноват. Сознания мало общего. Разброд идет. Кто-то этим хитро пользуется.
– Что касаемо столовой, – встрепенулся завхоз, – так там заминка с хлебом выходит. Приварок у меня имеется. Жаловаться грех. А хлеб, насчет хлеба не спорю, маловато его выдаем. До-отказу наесться невозможно.
– Иные по единоличному состоянию гораздо хуже ели. Чего они нонче волынят? Простое это трепанье!..
Степан Петрович пробовал проговорить это бодрым голосом, немного даже укоризненно, но взгляд Зайцева смутил его.
– На то и коммуна, чтоб было в ней лучше, чем в прежнем в бедняцком состоянии. На прежнее нечего равняться. Это политика оппортунистов. В болото лезешь, Степан Петрович, в болото!
Было уже поздно. Летняя ночь мягко льнула к окнам. Лампочка чадила, под потолком трепались клочья табачного дыма. У Феклуши слипались глаза, и она часто зевала, стыдливо прикрывая рот красной, измазанной чернилами рукой. Но правленцы не собирались расходиться.
И так до-поздна светились одиноко по всему селу окна правления. До-поздна шли разговоры, то переходя в жаркий спор, то затихая.
3.
Скот нагуливал бока. Марья, встречая в скотном дворе возвращавшихся из стада коров, умильно тянула:
– Красавушки-и! Родненьки-и! Да какие же вы пригожие, да гладкие, да пристойные!..
У Марьи были в стаде любимицы. Сначала она по старой привычке тянулась к своей чернухе и к ее теленочку и порою втайне вздыхала, что пришлось их отдать в общий гурт. Но, принявшись от коммуны хозяйничать возле скота, она вскоре перестала различать своих от чужих и отметила лучших, породистых коров, которые ласкали глаз и восхищали удоем. Из них лучшей была Пеструха Устиньи Гавриловны. Возле этой коровы Марья вилась как возле родной дочери. Ее награждала самыми ласковыми именами, ей источала весь пыл и все восхищенье свое. Товарки по скотному двору иногда посмеивались над Марьей:
– Обихаживаешь Пеструшку, Митревна, вроде будто себе ее ворожишь.
– Да что вы, глупые! – сердилась Марья. – Она же обчая! Мне любо на нее глядеть. Ишь какая статная и расчудесная! Таких бы в наше стадо с десяток, вот бы хорошо!
А когда в июньский парной и томящий день привели откуда-то красавца быка чистых каких-то немецких кровей, когда красавец, кося налитыми кровью глазами и выгибая могучую шею, стал раздувать жаркие вздрагивающие ноздри и взревел мощно и победно: увидел присмиренных и беспокойно завозившихся в скотном дворе коров, – Мария радостно, молодо и несдержанно всплеснула руками:
– Ой, девоньки! Какие ж теперь у нас телятки пойдут ладные!
И с тех пор еще нежнее стала обихаживать своих любимиц.
Увлеченная работой, мелкими радостями, выпадавшими ей в этой работе, и мелкими же, но неизбежными огорчениями, Мария не сразу почувствовала, что в коммуне происходит что-то тревожное и не совсем обычное. Она знала, что на скотном дворе все обстоит благополучно, что скотина здорова и уход за ней хороший, знала, что к зиме будут готовы теплые скотные дворы, стройка которых уже начата. И ей казалось, что и во всем остальном все идет так же просто, ровно и хозяйственно. Поэтому велика была ее тревога, когда до нее, наконец, дошло, что коммунары недосеяли добрую четверть приготовленной земли и что вокруг этого недосева кипит теперь горячая склока.
– Не помыслю, что такое! – жаловалась она Зинаиде. – Быдто все дружно было, этак, по хорошему сговору, а теперь на неладное вышло...
– По сговору, дружно! – раздраженно усмехалась Зинаида и отвечала матери чьими-то словами: – Прошлепали посевной план! До позору дошли!
– Семян, сказывают, нехватило...
– Если бы об коммуне думали, так хватило бы!
– Вот взять хотя бы скот наш, коровок, – ухватилась Марья за свое. – Обихаживаем мы его, холим, он и растет и пышнеет. Лучше некоторые скотинки стали, чем прежде у хозяев своих. А все почему?.. – Марья задумалась. Сложила руки на груди и ушла на короткое мгновенье в свои какие-то легкие думы.
– Все оттого, – пояснила она, прервав молчание и заставив Зинаиду удивленно насторожиться. – Оттого все, говорю, что с веселой и легкой душой мы там коло скотины ходим. Может, когда и штыримся да спорим, может, и неровно работаем в чем, а хорошо работаем. Нечего греха таить, без хвастовства и похвальбы скажу...
– Другие тоже не худо работают! – задорно поперечила матери Зинаида. – Думаешь, только у нас на скотном?..
– Я и не говорю, что только мы одни... Ведь, Зина, к тому пришлось, что оплошали с посевом. Недоглядели. А, значит, душой к работе некоторые приверженность не имеют... Только и всего.
Зинаида не стала продолжать разговора, словно пропустила слова матери мимо ушей.
Но они ей запали в душу, и она пересказала их Николаю Петровичу, с которым теперь уже не стеснялась оставаться вместе и подолгу беседовать.
Тракторист, ласково поглядывая на девушку, переспросил ее:
– С душой, говорит, к работе? А без души плохо?
– Она так понимает, – оправдывая мать, сказала Зинаида. – У ней понятие прежнее...
– Не плохо понимает! – успокоил Николай Петрович. – Действительно, у кого душа на работе горит, то-есть, значит, сознательность, так тот свои поступки выполняет очень прекрасно... Тут у многих в коммуне нехватает этого. Если бы все, как мать твоя, судили и поступали, здорово вверх пошла бы коммуна!
Зинаиде было приятно выслушать похвалу матери. Обласкав Николая Петровича ясным взглядом потеплевших глаз, она призналась:
– Мамка у нас хорошая. Вот бы отец не ушел, он тоже показал бы себя на работе. Он умный и всякую работу хорошо понимает.
– Власа Егорыча я раскусил. Если бы не его гордость, был бы он лучшим общественным человеком.
– Гордый, верно... – вздохнула Зинаида.
– Ну, я так рассуждаю: обломается он в городе. Не таких там в настоящий вид обращали!
– Хорошо бы, если бы так!
– Обломается! – повторил Николай Петрович.
Его уверенность была приятна Зинаиде. Доверчиво придвинувшись к нему, девушка легко вздохнула.
– Об чем это? – пригнулся к ней Николай Петрович, пытаясь заглянуть в ее глаза.
– Ни об чем... Устала немножко. С ребятишками за день умаешься, просто ног под собой не чувствуешь. Шумят они, глаз за ними все время нужен.
– Орава боевая!
– Боевая! – согласилась Зинаида. – И все-то они такие славненькие, коротышки живые!
– Любишь ты, видать, ребятишек, – странным каким-то голосом отметил Николай Петрович. – Хорошо им, наверно, с тобой!
Зинаида смутилась. Слова эти спугнули в ней что-то, и она заспешила:
– Ой, заболталась я! Пойду. Поздно уж...
Вечер дышал бодрящей прохладой. С полей наносило густые медвяные запахи. Где-то за деревней скрипел коростель.
Зинаида пришла домой возбужденная. Мать уже была в постели, и девушка, проходя мимо нее, с необычной нежностью сказала:
– Легла, мама? Устала, поди, намаялась?
4.
Мелкие нехватки и неустройства в коммуне, проходившие до последнего времени легко и почти неприметно, вдруг стали почему-то тягостно ощутительными. Словно скопились они, вышли наружу из каких-то темных, потаенных углов и впервые резко и крикливо бросились всем в глаза.
Началось с уменьшенного пайка в столовой, потом вспыхнуло испуганным удивлением наиболее хозяйственных и хорошо работающих коммунаров перед неоспоримым фактом невыполнения плана посева. Хозяйство коммуны вдруг раскрылось перед многими коммунарами во всей своей сложности. Были у большинства коммунаров до этого такие настроения: я работаю, исполняю свои обязанности честно и добросовестно, а направлять работу отдельных коммунаров – это дело правления, это не мое дело. С такими настроениями было легко и беззаботно жить. Такие настроения незаметно для себя поддерживали в коммунарах правленцы, особенно Степан Петрович и завхоз.
– Мы, значит, расстанавливаем силы, – говорил Степан Петрович, – наше это дело. На что же это будет похоже, ежели кажный член коммуны руководствовать станет делами?
Коммунары соглашались с этим. Соглашаться было легко и выгодно. Меньше возни, меньше хлопот и ответственности. И если на общих и производственных совещаниях порою подымались вопросы руководства, вопросы проработки плана, то разговаривали об этом, главным образом, руководители, а остальные прицеплялись, к частностям, к мелочам, к тому, что бросалось в глаза и не играло существенной роли в общем плане хозяйства коммуны. Так проскочило мимо здравого и сознательного понимания коммунаров установление контрольной цифры посева... И поэтому-то для многих явилось неожиданным и непонятным, что посевной план выполнен едва на три четверти. Еще непонятней это потому, что большинство было совершенно искренно убеждено, что работали все, за какими-нибудь небольшими исключениями, на-совесть хорошо.
– Как же это образовалось такое? – недоумевали коммунары. – Всё, кажись, ладно было. И робили хорошо. Как же так?
И нашлись догадливые, которые живо отыскали причину:
– Стало быть, свыше сил наплановали. Эка сколько в планте-то нагрохали: без малого семьсот га! На такую громадную цифру и людей и машин не должно было хватить! Ни в коем разе!
– Об этом надо бы сказать правленью. Пусть подумают...
– Вот ты бы, Протопопов, и сказал. Тебе сподручней, ты партейный!
– Партейному хуже... – неуверенно возразил Протопопов. – У партейного строгость... дисциплина. Как вроде военный.
Толки и разговоры эти не могли, конечно, не дойти до правления и до ячейки.
У Степана Петровича в глазах были злые огоньки, когда он первый на ячейке сообщил, что коммунары теперь, задним числом, признают план преувеличенным.
– Сами же слушали, поддакивали, а теперь: «свы-ыше си-ил! нельзя нам осилить эстолько!..» Дурит народ!
Зайцев пристально глядел на него и о чем-то выжидающе думал. Наконец, он со сдержанным гневом спросил:
– А ты тогда постарался коммунарам правильно и толково разъяснить, как надо поднажать, чтобы такой план выполнить на все на сто? Не вышло ли так, что о планах толковали, а до каждого в коммуне он не дошел, и получилось легкое отношение к работе? Не вышло так?
– В коммуне не маленькие. Мужики бородатые. Они разве сами не понимают?
– Ты разъяснял? – настаивал Зайцев.
– Да пошто же ты на меня все, товарищ Зайцев? Разве я один?
– Ты – председатель. При том член партии. С тебя и взыскивается полностью.
Обнаружилось, что и правление, и часть партийцев в первые месяцы жизни коммуны понадеялись в работе на самотек. Обнаружилось, что с коммунарами не вели планомерной разъяснительной работы, что понадеялись на хозяйственное чутье, на привычку справляться самостоятельно со всякими хозяйственными затруднениями, понадеялись на дедами и прадедами завещанное крестьянское «планирование».
Актив спохватился. Сначала людей ошеломило. Они растерялись. Они испугались мысли, что ничего уже не поделаешь, ничем не поможешь тому, что произошло. У многих тревожно заныло: не испорчена ли вконец работа и не провалено ли дело коммуны?
Судили, подсчитывали, выводили:
– Плохо дело. Кругом орудуют кулаки. Пугают, портят, сбивают некоторых коммунаров с толку. И работу, к тому же, наладили не по-хозяйственному. Поторопились. Без расчету и без настоящего плана...
И, подхватывая эти настроения, кто-то уже упорно, хотя и несмело, делал вывод:
– Не справимся с коммуной!.. Конечно, может быть, колхозы – дело полезное и хорошее, ну а у нас, видно, не выйдет!
5.
Трое – Зайцев, Лундин и Николай Петрович – сидели в избе, которую занимал Лундин, и горячо спорили.
На столе шипел и фыркал хозяйский самовар, блюдечко в небывалых синих цветах было переполнено мятыми окурками. Тугие полотнища дыма неслышно колыхались вокруг желтого пламени небольшой керосиновой лампочки.
В раскрытое окно втекала душная ночь. Уснувшее село лежало за окном темное и присмиревшее.
Спорили трое уже давно. Спор был упорный, но немного странный: в сущности все были согласны между собою. Но цеплялись за отдельные слова друг друга, за частности, за мелочи. Все трое устали и легко раздражались.
Началось с того, что Тимофей Лундин осторожно, но уверенно заметил:
– Переборщили тут, пожалуй. Сразу коммуну организовали, высшую форму. Надо бы артель. С артелью справились бы легче.
– Коммуна... – возразил Зайцев. – И с коммуной вполне свободно справиться можно. Только бы хотенье... да люди.
– Вот, вот! Дело в людях. С непривычки туго кажется, некоторые и скисают.
– Которые от пустяков скисают, тем и артелью не утрафишь!
– Я не говорю о таких, о лодырях да о неспособных к работе. Но замечается в иных местах, что трудящие и преданные люди теряются, навыка у них нету к коммуне. Тут у вас, сам, наверно, замечал, хорошие мужики, бывает, за брехунами, за шептунами идут. А отчего? Оттого, что кое-которые в коммуну на иждивенье пришли, требуют всего от колхоза, а сами не наблюдают полностью общего интереса. И здесь вот образовалось такое: кинулись в коммуну и решили, что все им дано будет свыше меры и без всяких затруднений и препятствий. И чуть мало-мальская заминка, так сразу хай: «худо в колхозе! беда!»
– Мы маловеров и которые ноют по головке не гладим!
– Одним командованьем делу не поможешь, – вмешался Николай Петрович, внимательно следивший за разговором. – Надо, сам знаешь, товарищ Зайцев, на сознательность нажимать...
– Меня этому учить, пожалуй, не приходится, – сумрачно возразил Зайцев.
– Я не учу. Я замечаю, как у нас насчет сознательности не шибко чтоб...
– Ведется работа. А если слабо, так сами виноваты и поднажать надо. Со всей серьезностью!
Лундин, заметив, что беседа уползает в сторону, вернул ее на верное место:
– Коллективизацию провели на большие проценты. У вас надо считать свыше восьмидесяти. А сколько раз вам пришлось уже очищаться от негодного элементу? Выходит, что худо раскулачивали. Оставили на-племя не малое число злостных кулаков...
– Каленым железом выжигаем их!.. – зажегся протестом Зайцев.
– Об этом не спорю. И все-таки: чьи руки Синюхина толкали пособлять Оглоблина угробливать? Кто амбары поджигал? Кто мост портил? Вот они, остаточки кулацкие.
– До них, до кулаков, добраться трудно. Я об этом болею.
– Тебе не в упрек говорится. Я знаю. А высказываю я такое мнение: свалили в одну кучу, в коммуну, всяких – и бедняков со середняками, и скрытых кулаков да подкулачников, вот от этакой-то мешанины и получается вроде развал. Одна паршивая овца, как говорится, все стадо может испортить. А одна ли в нашем стаде паршивая?
– Паршивых много, – подтвердил Николай Петрович. – Но и того забывать не след, что среди бедноты сознательность растет. Значит, вроде противоядия!
– Теперь разговор о другом. – Зайцев ткнул выкуренную папироску в блюдце и потянул другую из измятой коробки. – О другом. Произошла осечка с планом. Три чети плана, это худо! Никуды не годится! А все отчего?..
Николай Петрович перехватил готовый ответ Зайцева и по-своему закончил за него:
– Оттого, что, пожалуй, план высокий был...
– Ого! – усмехнулся Лундин. – За чужим хвостом бежишь? Насчет нереальности плана! Старо, брат!
– План, хоть его и до меня устанавливали, – решительно заявил Зайцев, – совершенно исполнимый. Напрасно ты, Николай Петрович...
– Давай считать, – наливаясь горячей решимостью, тихо заявил тракторист. – Проверим по цифрам...
– Цифры – вот они у меня! – выбросил на стол растрепанную тетрадку Зайцев. – Вот все тут!
Николай Петрович вытащил из кармана штанов клеенчатую книжечку, перелистал несколько страничек и ткнул пальцем в строчки цифр.
– У меня тоже они. Те же самые, что и у тебя, товарищ Зайцев. По плану установлено засеять шестьсот семьдесят пять га. Прекрасно. А полных рабочих в коммуне сколь? Сто одиннадцать. Верно? Верно. А мыслимо ли у нас при одном тракторе и при недохватке тягловой силы по шесть полных га на рабочего класть? Мыслимо это, товарищи?
– Есть колхозы, где и по восемь на круг падает, – спокойно возразил Лундин.
– Норма не слишком высокая! – подтвердил Зайцев. – Была бы напористость да добросовестная работа!
Николай Петрович упрямо засопел и качнул головой.
– Теперь поздно толковать об этом, – тоскливо сказал он, – вполне поздно. А коммунаров, я так полагаю, этим планом шарашить не нужно. Отпугивать, что, дескать, не выполнили план и хуже прочих вышли, не надо, говорю!
– По головке, значит, их гладить?! – нехорошо засмеялся Лундин, а Зайцев шлепнул широкой ладонью по столу и угрожающе метнул в Николая Петровича:
– Подрывать хочешь установку? Смотри!..
– Меня пугать нечем... Если у меня такое мнение, я его могу среди товарищей коммунистов говорить. Вполне могу! Чужим не стану говорить, а с партийцем всегда поделюсь. Потому что может вред выйти! Форменный, товарищи, вред. Нам надо коллективизацию закреплять, а не расшатывать. Укреплять!..
– Это наша обязанность, – напомнил Лундин. – Партийная обязанность. Можешь не агитировать нас...
– Азбуке не обучай, – подхватил Зайцев.
– Я никого не обучаю... Только по-товарищески говорю: планом наших коммунаров корить не надо. Свыше сил навалили на них и взыскивать непомерного нельзя!
Зайцев встал и устало расправил плечи.
– Ух, ночи-то сколько! Засиделись... А тебе, – обратился он к Николаю Петровичу, – мой партийный совет: держи при себе твои сомнения и не суйся с ними вперед. Не суйся!..
6.
Разговоры об урезанном пайке в столовой не прекращались. Но они перемешивались с другими: с толками и спорами по поводу недосева.
О невыполнении плана стало известно всем. Об этом кричали пустые незасеянные полосы, тянущиеся на окраинах полей коммуны. Еще больше об этом кричали невзметанные, нетронутые пустоши, ждавшие и так и недождавшиеся плуга.
– Вот она камуна! – смеялись между тем втихомолку редкие единоличники, притаившиеся возле Суходольской. – Самую лучшую землю захватили, а одолеть силов нехватило!
– Нахапали! Ни себе, ни людям!..
Смущение вползало в коммунаров. Как-то так случилось, что они внезапно увидели многое, чего не замечали раньше. Увидели и хмуро задумались.
Особенно думать заставил этот новый человек, Лундин, во все вникавший, ко всему приглядывавшийся и обо всем имевший свое крепкое и непререкаемое мнение. Он не зря бахвалился в столовой, когда в ответ на недовольство коммунаров пищей пообещал цифрами доказать, что работа в коммуне шла до сих пор не совсем на-совесть. В свободный час цифры и числа эти он выложил пред собранием, и мужики потускнели, нахмурились.
И Василий, как и всегда во всем пылкий и несдержанный, с горечью крикнул:
– Значит, выходит, зря весь огород городили?!
Но, сразу же спохватившись и еще сильнее пылая, с отчаянной решимостью сам себе ответил:
– Да, нет же! Живем!.. Оплошка вышла, ее исправить можно! Нажмем на работу – все исправим!..
– На словах-то легко, – кинул кто-то, затерявшийся за спинами других. – Языком все можно!
– Нет, не языком! – поддержали Василия со всех сторон.
– На самом на настоящем деле! Работой!..
Не отставая от своего приятеля, высунулся из толпы Артем. Его рябое лицо было опалено возбуждением. Размахивая руками, он закричал:
– Истинно, работой!.. Что, рази, не умеем мы все работать? Али не работали всю весну?.. Лодырей у нас мало. Чо напрасно говорить, – не замечали лодырей!.. А вышла промашка. Так это, может, от недогляду, от уставщиков, которые где чего оплошали...
– Сами не маленькие, – вразумляюще остановил его Зайцев. Но Лундин слегка тронул его за рукав и заговорил торопливо вместо него:
– Было, конечно, товарищи, упущение и от правления. Этого скрывать нечего. Не все правление предусмотрело, не всегда по-настоящему и для полной пользы делу расстановку сил производило. Об этом говорить надо. Но всю вину, как говорится, с больной головы на здоровую перекладывать тоже не резон. Нет, не годится так-то! Все вы имели собственное, хотя может и немудрящее, но хоть какое-нибудь хозяйство, и должны понимать, что в таком большом деле, как наша коммуна, хозяйствовать надо сообща и осмотрительно. И друг на дружку спихивать ответственность не годится... Если правление что упустило, надо было вам всем сообща или каждому в отдельности доглядеть, заявить, потребовать. Ведь главные хозяева в коммуне – вы все! Других хозяев нету...
Лундина слушали с угрюмым вниманием. Его не прерывали.
Внимательно, как и другие, слушала его Марья. Слова его о том, что в коммуне хозяева все коммунары, нашли какой-то отклик в душе Медведевой. Она оглянулась вокруг, взглянула на одного, на другого, на третьего – на всех, таких привычных и издавна знакомых, и недоверчиво усмехнулась. И, не сдержавшись, громко сказала:








