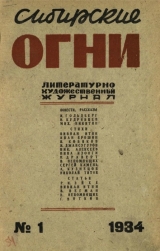
Текст книги "Жизнь начинается сегодня"
Автор книги: Иссак Гольдберг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)
Глава третья
1.
Влас прислал, наконец, письмо. На конверте, пятная марки, чернел штемпель ближайшего города. Долгожданное письмо стала читать Зинаида.
«Устроился я, уважаемые мои жена Марья Митревна и дети Зинаида и Филипп, в городу, – писал Влас коряво, с брызгами, с чернильными пятнами по рыхлой и темноватой бумаге, – горести и муки потерпел, докуль устройство себе нашел, не мало. Но не унываю, потому сам с головою, и надеюсь в скорости написать вам хорошие и радостные вести. А как там у вас хозяйство оборачивается? Чует душа моя: все в раззор пошло и в уничтожение...»
Марья прослушала письмо от мужа, роняя слезы и вздыхая.
– Ничего-то он, однако, толком не пишет! – обидчиво заметила она, когда Зинаида прочла письмо до последней строчки и сложила его пополам. – Как, мол, устраивается, где и об нас что соображает, – ничего не пишет!
– Ворочался бы сюда! – сказала Зинаида. – Стал бы в коммуне работать...
– Не пойдет он...
Письмо было заботливо и бережно уложено в сундук. Туда, где Марья хранила свое самое заветное и ценное. И жизнь пошла попрежнему, так же, как и до письма.
Жизнь шла крадущимися, неровными шагами. Уж чернели пашни, готовые к весеннему севу, уже готова была земля, прогретая молодым и крепким теплом, творить и рожать. Уже хрупкой зеленью окрашивались кой-где прошлогодние травы. И в конторе коммуны по утрам стояла деловая сутолока, и Степан Петрович надрывался, покрикивая на коммунаров, медленно и взразвалку получавших распоряжения.
Коммуна размахнулась широко. Поля готовы были под сев и радовали, а кой-кого из коммунаров и пугали:
– Осилим ли? Как урожай снимать будем? Нехватит у нас сил! Да и с семенами плохо!...
– Хватит! Осилим!.. – настаивали передовые коммунары во главе со Степаном Петровичем. И вместе с ними кричал уверенно и Васька:
– Ешо так треханем, только дайся!
Пашни ширились, в конторе счетовод и помогавшая ему Феклуша подсчитывали гектары, составляли ведомости, учитывали, – а в столовой похлебка становилась все жиже и хлеб стали выдавать скупо, по-пайковому.
– Совсем, бать, отощаем! – сердились женщины. – С каждым днем все хуже да хуже!..
– Убоинки втору неделю не видывали! Все клецки, будь они неладны, да клецки!..
– Помяните, девоньки, еще плоше станет! Вот помяните!...
В коммуне устраивались летучие совещания, шли разъяснения. Коммунары шумели, но смирялись.
– Поддоржитесь, товарищи! – убеждали руководители. – Перевалим до осени, до урожаю – сыты будем, на ноги станем!
Однажды коммунары были взволнованы маленькою бедою. Скотницы, придя по утру к скоту, нашли хорошую корову истекающей кровью. Кто-то исколол ее ножом, и она, лежа на боку, тяжело умирала. Мужики прирезали корову, чтобы она не мучилась, а мясо сдали на кухню.
Когда коммунары ели в этот день вкусную мясную похлебку, в столовой волновался возбужденный и местами веселый говор.
Васька, громко чавкая и сопя, сказал соседям по столу:
– Поймать бы гада, кто исделал этую пакость! Всей бы камуной излупцовать его!
– Из кулаков кто-нибудь! Злобились, уело их, ну и пакостят!
– Корова-то Некипелихина ранее была. Кабы не знатье, што старуху Устинью в район увезли, – прямая дорожка до ейных рук в этом деле!...
– Окромя Некипелских имеются враги...
– Не мало их! – мотнул головою Васька и облизнул ложку.
Кто-то за соседним столом озорно засмеялся.
– Кака сволочь корову решила, не знаю, а вот похлебка скусная! Накормил каммуну неприятель! Тощать начали!..
Васька вылезал из-за стола. Услыхав эти слова, он подошел к говорившему, и пристально поглядел на него:
– Слова твои, парень, похабные, за такие слова рыло тебе своротить надо! У камуны добро портют, а ты надсмехаешься!..
Кругом поддержали Ваську, и шутник сжался и, виновато озираясь по сторонам, выскочил из столовой.
В конторе над происшествием долго ломали головы. Виновных трудно было найти. И потому, что их не было, а чуялось, что враг где-то совсем близко, вот тут рядом, было тревожно и неловко. Завхоз съездил в ближайшее село и привез оттуда милиционера. У милиционера был строгий и важный вид, и он долго бродил по скотному двору и оглядывал мирно жевавших коров. Уехал милиционер ни с чем. Только перед отъездом вызвал он к себе Марью и учинил ей небольшой, но строгий допрос. Марья вернулась с допроса рассерженная, гневная и немного обеспокоенная:
– Пытал он меня ни весть об чем! – пожаловалась она дочери. – Про Устинью все расспрашивал. А я, что ли, Устинью караулила? Да притом она увезенная! Путают только народ!
2.
Письмо Власа ничего не сказало Марье о том, как уходил муж ее из деревни, о том, где бродил он до тех пор, пока попал в город, и о том, как Влас пришел, наконец, в этот город. Потому что Влас непривычен был писать о мытарствах и скитаньях. Непривычен был рассказывать о беспокойных, противоречивых и тягостных мыслях своих.
Поэтому до Марьи не дошло о днях и треволнениях мужа. Не дошло о пути, который проделал Влас от своей деревни до города.
У Власа не было ясного плана, когда он покидал хозяйство и семью. Его несло какою-то непреоборимой силою. Его гнало из деревни чувство обиды за разрушение, которое, как ему верилось и казалось, наступало на деревню с созданием коммуны. Раньше всего – уйти, чтоб глаза не видели гибель хозяйства, а потом уже думать о будущем, об устройстве жизни по-новому, – так чувствовал Влас, покидая деревню. И, подстегиваемый обидою, жадностью и горечью, пришел он в соседнюю деревню, к куму, попросился переночевать. Кум не удивился приходу Власа.
– Кабы до меня довелось, – вздохнул он, выслушав гостя, – дак и я бы, Егорыч, ушел. Како уж там хозяйство, коли ничего своего собственного нету, а все обчее!.. У нас, в Покровке, пока еще бог миловал, не дошло до этого самого...
Переночевав у кума, Влас пошел дальше. Еще мертвые, голые деревья жались к дороге, земля, прогреваемая первым теплом, чавкала грязью под ногами. Поля лежали пустынные и хмурые. У Власа на душе было хмуро и холодно. В конце-концов, что же все-таки делать? В городе тоже, слышно, было не сладко. Хорошо бы забрать ружье и охотничий припас да нырнуть в тайгу за белкой да за иным пушным зверем. А, может быть, лучше всего добраться до приисков, до золота, куда-нибудь на Алдан-реку?
О приисках, о золоте, о дурной и богатой добыче думали многие. И кой-кто из односельчан Власа ушел еще в прошлом году за «долгими рублями». Кой-кому пофартило, выпала удача. Самое верное, пожалуй, было бы уйти Власу в тайгу, на прииски. И чем ближе подвигался он к городу, тем сильнее и прочнее укладывалось в нем это намерение.
Но город еще был далек. А на пути мелькали деревни. И в деревнях шло то же самое, что оставил Влас дома: грозно и властно надвигались на поля, на старый, хозяйский уклад новое – колхозы.
В деревнях знакомые крестьяне по-разному встречали Власа. Иные сочувственно вздыхали и жалели его, но некоторые – и было их не мало – удивлялись.
– Што ж это тебя, Влас Егорыч, с места стронуло? Ты ведь не кулак, не мироед! Тебе бы и орудовать в кольхозе... Хозяйственный ты, работу любишь, да и она тебя тоже!..
– Там хозяйственным, работящим хрестьянам делов нету! – хмурился Влас и распалялся. – Вся шантрапа туды сыпанулась. Вот у нас на что самый бросовый мужичонко есть Васька Оглобин, так он, глядишь, в верховодах скоро окажется, в колхозных. А он по воровству замечен был, и первый трепач и лодырь!
– Ничего неспособного в этим, бать, нету! – возражали Власу. – Ну и окажется в верховодах, обчеством поставленный. Знать, достигнет до своего права...
– Развалят, растащут все! Прахом все пойдет у них!.. Вот от этого и сердце у меня болит. Из-за этого и бросил все!... Глаза бы мои не видели сраму и безобразиев!..
На Власа поглядывали настороженно и внимательно. И говорили ему, растравляя его горячее сердце:
– Обожди, маленько погодя посмотришь, что да в каком обстоятельстве!..
В город Влас пришел почти без гроша. Он устроился на постоялом дворе и отправился искать земляков. Он знал, что где-то на заводе и на постройках работают односельчане, ушедшие из деревни еще в прошлом году. Но в этот день ему не удалось никого из них найти. И пасмурный и озабоченный вернулся он на постоялый.
Таи было шумно и переполнено. Двор был загроможден крестьянскими подводами, груженными всяким деревенским добром. Мужики шумели за большим столом, на котором пыхтел и бурлил громадный позеленевший ведерный самовар. Подсев к мужикам, Влас стал присматриваться и прислушиваться.
Разговор шел все об одном: о новых деревенских порядках и о том, что жизнь на корню меняется.
Старый мужичонка с рыжей бородой и веселыми глазами, хлебая чай с блюдца, рассказывал о том, как в его деревне мужики, которые побогаче да потверже, весь скот прирезали:
– Все едино пропадет пропадом. Ну, аны и прирезали на мясо. Да в город, на базар. А цана хорошая, что и говорить! Мясу-то цана!...
– Теперь трудно со скотом! – поддержали рыжего. – Вот и режем!
– Скоро и резать-то нечего будет!
Влас вмешался в беседу:
– Колхозы эти самые.... Все общее, а в концы концах никому ничего и не получится!
Мужики пытливо поглядели на Власа. За столом затихло. Рыжий допил торопливо свой чай, опрокинул чашку на блюдце, мазнул себя привычным крестом и вылез из-за стола.
– Ну, чего об етом толковать! – нравоучительно сказал он Власу. – Не нами обмозговано, а, значит, коими повыше. Толковать об етом зря нечего.
Влас замолчал.
3.
Опутанный лесами, вырастал новый многоэтажный дом. Шумела где-то бетономешалка, покуривались какие-то дымки. Ползали по лесам, копошились люди.
Через земляков, работавших в другом месте, Влас устроился на этой постройке.
Но первая встреча с земляками, руки и платье которых были вымазаны в известке и покрыты пылью и которые мало походили на тех крестьян, которых он знал раньше, была невеселой. Земляки встретили Власа радушно, но радушие это слегка померкло, едва он объяснил им, почему ушел из деревни.
– Конешно, – сказал один, – тебе хозяйства, обзаведенья твоего жалко, что и говорить. А однако насчет колхозов понятья тут большие. Все на колхозы пошло!.. Не дал ли ты, брат, промашки?!
– Нет! – угрюмо, но уверенно ответил Влас.
– Ну, пушшай! Устраивайся на работу. Работа есть... А там видно будет...
Влас встал к работе рядом с такими же, как и он, мужиками, у которых мысли были о доме, о земле, о хозяйстве. И в обеденные перерывы и потом, после работы в общежитии, разговоры у них шли о знакомом, о родном. Втискиваясь в эти разговоры, Влас искал сочувствия и понимания. И иногда находил их. Иногда рядом с ним оказывался такой же, как и он, недовольный, ушибленный жизнью, непримиряющийся с новым. Тогда Влас оживал, вспыхивал, загорался.
На стройке, у входа в тесную контору, где толпились табельщики и десятники и где ютился местком, появился в это время очередной номер стенгазеты. У пестро раскрашенного листа с четкой и броской надписью «Строитель» в свободные часы останавливались грамотные рабочие и читали. Они читали вслух заметки и объясняли рисунки. Они прочитали однажды, среди других, и маленькую горячую призывную статью – «Подписывайтесь на заем индустриализации!».
Остановившись около стенгазеты рядом с соседом по работе, Влас вслушался в чтение и ядовито сказал:
– Огромадные миллионы с народа с трудящего собираются, а все зря.
– Зря, думаешь? – обернулся к нему рабочий, читавший вслух. – Без ошибки это у тебя выходит?
– Не знаю... – смешался Влас. – Не ученый я, деревенский. А как домекнулось мне, так я и говорю.
– Не ученый! Ты вот толком дела не понимаешь, а с осуждением, с критикой, как говорится, суешься! Хорошо ли этак-то?
Влас промолчал и отодвинулся в сторону.
В общежитии в этот вечер, в копоти и чаде махорки, когда глухо рокотало многолюдье и по всех углах шли то вялые, то жаркие разговоры, к Власу подошел молодой рабочий.
– Послушай, дядя, кажись, Медведевым тебя кличут... – сказал он, – ребята рассказывают, что недовольный ты, а недовольный, выходит, оттого, что многого не знаешь. Приходи завтра на собрание, как-раз доклад интересный об индустриализации и о колхозах.
Оглядев молодого парня испытующим взглядом, Влас медленно ответил:
– Какие уж тут собранья... На работе умаешься, ничего в голову, окромя отдыха да сна, не лезет.
– Другие ж работают не менее твоего, а ходят на собрания да в кружки!
– То другие. У их, может, головы легше!
Назавтра общежитие почти опустело. Был день отдыха, и рабочие разбрелись кто куда. Влас остался у своей койки и с тоскою и огорчением стал перебирать свой скарбишко. Запасная рубаха была вся в прорехах, ее нужно было чинить. Надо бы залатать и штаны. Влас вздохнул. Он вспомнил о доме, о семье, о Марье. Он взгрустнул.
В сыроватом низком бараке было тихо и малолюдно. Тянулись ряды топчанов и коек. Кой-где возились со своими вещами такие же, видать, одинокие и скучающие, как Влас. Тишина стала томить Власа. Сунув обратно в мешок рубаху, он встал и прошелся по бараку.
– Разминаешься, браток? – окликнул его насмешливый голос.
Влас оглянулся. Свернувшись на топчане и кутаясь в рваный тулупишко, поглядывал на него широкобородый старик.
– Разминаешься, сказываю? – повторил старик и приподнялся на локте. – Скушно, замечаю я, тебе. По дому тоскуешь? А ты бы знакомых, земляков в городу поискал. А? Поискал бы, говорю, знакомых? Поди, есть они у тебя? У меня, вот, никого. Ну, прямо сказать, ни единого! Сходи, сходи, браток! Оно и полегшает!
– У меня знакомых настоящих тоже тут нету, – обрадовавшись разговору, пояснил Влас.
– Нету? – протянул старик. – Ну, коли нету, так неладно это. Неладно!.. Я, слышь, в слободное время по городу бродить охочий... А седни скрутило меня, трясет. Кости ноют. Кабы не кости, я сейчас первым долгом на улицу, на базар.
– Сходить, разве? – вслух сообразил Влас.
– Очень просто! Сходи, погляди на город! Шумит! Страсть как шумит!..
Влас постоял в нерешительности, потом решился, вернулся к своей койке. Немного погодя он накинул на себя стеганную домодельную куртку и ушел.
4.
В толпе пешеходов, в шуме сумасшедших, переполненных движением улиц затерялся Влас, обходя и сторонясь прохожих. Влас пробирался с улицы на улицу, оглядывая и людей и здания. Его цепкий хозяйский глав выхватывал из пестрых рядов старых домой новые, строящиеся, многоэтажные. Изумленный изобилием новостроек, расчищенными пустырями, обведенными желтыми тесовыми заборами и заставленными стройматериалами, он вспомнил этот город, который видел в последний раз полтора года назад. Вспоминал, что тогда совсем не видно было строительства, что тогда город стоял, кичась старыми, давно возведенными домами, неизменный и по-старинке прочный. И вот теперь он резко изменился. Он оброс новыми высокими зданиями, он помолодел и стал небывало шумным и оживленным.
– Строют!.. – с тревожным удивлением подумал Влас, невольно останавливаясь возле громадной постройки, в несколько раз превышающей ту, на которой он работал. Он задрал голову кверху, где вылуплялся из лесов пятый этаж. – Здорово строют!..
Его толкали прохожие, на него огрызались, но он, как очарованный, стоял на одном месте и глядел вверх. Непривычные для него размеры постройки, широкий хозяйственный размах тех, кто надумал и доводил до конца эту постройку, ошеломили его, потрясли.
– Строют... – повторил он про себя и почему-то вздохнул.
И так застыл он на одном месте в тревожном и вместе с тем восхищенном созерцании, безропотно перенося толчки и окрики. Но настойчивое и упорное прикосновение чьей-то руки к его плечу заставило его, наконец, притти в себя.
– Влас Егорыч! – сказал знакомый голос. – Ишь, как ты загляделся!
Влас обернулся и узнал Некипелова... И узнав, возбужденно вскрикнул:
– Никанор Степаныч? Вот негаданно-нежданно!
– Обожди-обожди! – торопливо перебил его Некипелов, трусливо оглянувшись. – Обожди, не шуми... Пойдем отсюда!..
Влас сразу притих и послушно пошел за Некипеловым. Они завернули за угол, потом еще, вошли в какой-то тихий переулок и тогда только Некипелов осмелел и, невесело усмехаясь, объяснил:
– Опасаюсь я, брат. Вроде волка травят. Лишенный я и быть мне обязано в лешавых местах, сосланным. А я смылся. Ну, радый я, что тебя, Влас Егорыч, встретил. Ты давно ли в городе?
Влас коротко рассказал о себе и стал расспрашивать Некипелова, что он делает здесь и как живет, но Никанор Степанович отвечал неохотно и сдержанно.
– Да что толковать обо мне! – нахмурился он. – Податься мне некуды, хошь в петлю лезь!.. Слыхал, поди, что и старуху мою загребли да услали к чорту на кулички. Мытарится она, поди, там. Беда!
Влас ничего не слыхал об Устинье Гавриловне и пособолезновал Никанору. Некипелов вдруг нахмурился еще сильнее. Стал злым и угрюмым.
– Ребята-то нонче каковы! – пробурчал он неожиданно.
– Петра, значит, что-нибудь неладно доспел? – догадался Влас.
– Петра?! – оглядел его укоризненно Никанор. – Мой Петра в подлецах еще не ходит! Ето вот, Влас Егорыч, твой выкормленыш! Его еще от полу не видать, а он уж готовый подлец, первейший сукин сын!
– Ты это про Фильку? – недоуменно рассмеялся Влас. – Так он еще несмышленный!
– Нонче каждый сопляк вред может огромадный сделать. Вроде твоего Фильки. Мало ты его лупцевал, Влас Егорыч!
Некипелов впился мутными глазами во Власа и, что-то высмотрев в нем, рассказал о том, как Филька донес на Устинью Гавриловну и сдал спрятанный узелок в правление коммуны. У Власа сердце зашлось от стыда и обиды.
– Ну... не ждал!.. – хрипло произнес он и отвернулся от Никанора. – Не ждал, что парнишка гаденышем таким станет!.. Что с ребятами малыми делают! Избави бог!
– Вот то-то! – торжествующе заметил Никанор. – Совсем испохабили народ, от велика до малого.
Они прошли немного по переулку и дошли молча до угла. На углу Никанор предложил:
– Пошто мы по улице треплемся? Давай зайдем на постоялый. Знакомец у меня тут один держит. Отдохнем в спокою да не на людях потолкуем.
Влас согласился, и они пошли на постоялый, к знакомому Никанора.
5.
В тесной комнатке пахло щами, махоркой и керосином. За перегородкой шумели постояльцы. Кто-то пьяный настойчиво и жалостно тянул:
– Православные! Да неужто, язви их в душу, всамделе бога нету?.. Православные!..
Влас, положив локти на стол, молча слушал Никанора. Он слушал его так уже давно, больше часу.
На столе сиротливо поблескивала опорожненная полулитровка, валялся огрызок соленого огурца, рассыпались хлебные крошки. У Никанора щеки и нос рдели багровым румянцем и глаза поблескивали возбужденно и остро.
– Некуда податься! – приглушенно негодовал он. – Округом ходу не стало. Начисто... Ну, скажем, по-ихому кулак я, сплататор. А ты-то что? Ты под ету линию неподходящий, а и то тебя эвон как утеснили: от своего, трудами, горбом нажитого добра куды глаза глядят уйтить пришлось! Справедливость ето, Влас Егорыч, друг почтенный? Правда ето? Она, паря, правда на полную смарку, на окончательную отмену вышла.
– Правды мало, – наклонил голову Влас и лениво вздохнул.
– Окончательно нету ее! – шумно выдохнул Некипелов, приходя в ярость и пристукнув широкой ладонью по грязному столу. – За ее пострадать приходится! Муку примам на себя!.. Дружище почтенный! От какого добра да капиталу вытряхнули меня! От какого добра, Влас Егорыч! Да ведь за ето глотку перегрызти следует кажному из них! Напрочь перегрызти!..
Некипелов всхлипнул и схватился рукою за спутанную и усеянную хлебными крошками бороду.
– Слышь! – внезапно меняя тон, сунулся он поближе к Власу. – А ведь достукаются! Придет им хана!
Влас недоверчиво и немного неприязненно взглянул на Некипелова.
– Истинный бог! – округляя помутневшие глаза и переходя на громкий, срывающийся шопот, побожился Никанор. – Достоверно знаю!.. Ты погоди...
Он тяжело приподнялся, подошел к перегородке, вслушался в говор и гам на общей половине и вернулся на место. И, удостоверившись, что никто не может подслушать их, продолжал:
– Есть, Влас Егорыч, есть, друг почтенный, понимающие и умнеющие люди, которые зря не сидят. Не век вся ета волынка тянуться будет! Народ, глянь, до чего довели, до чего скрутили! Терпежу совсем не стало. Рабочий народ оглоушили, – понимать ето надо: рабочий народ!
Власу припомнилась постройка, общежитие, рабочие. Влас подпер голову рукою и перебил собеседника:
– Про рабочего ты, Никанор Степаныч, мнение свое оставь. Рабочему ныне везде полный ход!
– Ну, оставлю городских! – спохватился Некипелов. – Пущай, скажем, городские рабочие без притеснения. А наш брат, хрестьянин, хлебопашец и кормилец родине, об ем как теперь понимать надо? В принижении и прямо в кабале!
– Хрестьянам которым туго... – словно прислушиваясь к самому себе, сказал Влас, и убрав руку, вздохнул.
– Страшенное дело, как туго! Дальше некуда итти! – Некипелов внезапно примолк и взглянул на опорожненную бутылку:
– А как ежели еще одну раздавить? Для приятной устречи?!
– Не стоит! – замотал головой Влас. – Завтра мне на работу.
– А к чему тебе на работе раззоряться? Ни к чему! Кабы для себя!
– Наблюдают. Требовают, чтоб работа настоящая была. К тому же самому совестно лодырить...
– Какая там совесть! Ету работу бы к чорту!
Некипелов снова прислушался к шуму за перегородкой.
– К чорту! – повторил он решительно. – Кои поумнее, так те не токмо что силы свои в работе етой кладут, а даже обратно.
– Как это? – удивился Влас.
– Очень просто. Скажем, строют там завод али здание огромадное. Строют, быдто все как есть ладно, а подошло к концу – дело на порчу выходит. Понял?
– Не шибко.
– Не шибко? Ну, ежли тебя с умными людьми стакнуть, ты живо поймешь!
Пьяный за перегородкой вдруг взъярился и неистово закричал:
– Православные! Язви вас в душу! Да кагды жа мне ответ достоверный дадите – есть он всамделе бог-то?.. Кагды жа?!
Некипелов насторожился, взгреб бороду в кулак и зло прошипел:
– Вишь, душу замутили у человека верующего! Всюю веру испохабили!
Влас тоже прислушался к пьяному бушеванию.
– Залил глотку-то, вот и дерет! – ответил он Некипелову. – Кака тут душа? Вино это в ем кипит... вот и мне с непривычки вдарило в голову. Напрасно я, Никанор Степаныч, спортил себя. Не примат у меня сердце хмельного. Не примат!
Он встал, намереваясь выйти из-за стола. Некипелов схватил его за рукав.
– Постой! Чего торопишься? Я тебе об настоящем деле разговор поведу...
– Об деле?
– Об настоящем, друг почтенный... Сведу я тебя, ежели хошь, с людьми настоящими. Которы понимают и всякое способие сделать могут. Сведу тебя...
– Какие ж это такие люди? – заинтересовался Влас.
– Которы действуют! – многозначительно, но непонятно пояснил Некипелов. – Действуют и тебя научат действовать и житье свое ладней устроить.
– Где ж они такие?
– Ишь, заело тебя! – удовлетворенно рассмеялся Некипелов. – Обтерпи! Сведу тебя!
В дощатую дверь без стука всунулся хозяин.
– Никанор Степаныч! – озабоченно позвал он. – Милицейский зачем-то забрел. Смекни-ка, ладно ли тебе это!
– У! вот жисть!.. – выругался Никанор.
– Надо мне уходить, Влас Егорыч! Ты тутошний адресок не забудь! На неделе приходи, разыщешь меня через хозяина.
Непременно приходи, договорим!
6.
В общежитии по вечерам устраивалось громкое чтение. Читали большей частью газеты, вычитывая их иногда сплошь от первой до последней страницы. Но живее и вдумчивей всего читали все, что касалось деревни, земли – о колхозах и совхозах.
Во время громкого чтения в бараке с трудом устанавливалась тишина. Многие с неудовольствием смирялись с необходимостью сдерживаться, молчать и сидеть тихо. И они продолжали толковать между собою, мешая другим слушать чтение. Тогда чтец, молодой курносый, сероглазый плотник вытягивал шею, оборачивался в ту сторону, откуда слышался говор, и наставительно кричал:
– А помолчали бы вы, товарищи! Неужто час времени протерпеть не могите? Ведь мешаете же вы!
Из угла угрюмо и сконфуженно неслось:
– Уж и поговорить нельзя... – Но становилось тихо.
Влас впервые тоже отнесся хмуро и неодобрительно к громкому чтению. Ему это казалось лишним и ненужным. Но незаметно для самого себя он начал вслушиваться в то, о чем читал курносый сероглазый плотник. И многое стало его интересовать. Однажды он с изумлением и тревогой прослушал заметку, касавшуюся соседнего с его деревней села. В заметке описывалось покушение на убийство члена сельсовета.
– Постой! Стой, товарищ! – перебил Влас чтеца. – Како ты прочитал фамилие и имя? Алексей Кривошапкин?
Чтец подтвердил:
– Да, «на члена сельсовета Алексея Кривошапкина, активиста и организатора колхоза «Искра бедноты» напали раскулаченные Егоров и Иваньков и нанесли ему несколько ран охотничьим ножом...»
– На Алексея Григорьича! – покачал сокрушенно головой Влас. – За что же? Такой мужик обиходный, смирный!
– Понятно за что! – отложив в сторону газету, охотно объяснил молодой плотник.
– Кулаки орудует. Мстят.
– Классовая борьба на деревне! – добавил подошедший в это время рабочий с бетономешалки, тот, который звал как-то Власа на собрание. – Это еще так себе, а в других местах гораздо хуже!
– Что ж он им сделал? – недоумевал Влас, не удовлетворяясь этим объяснением и живо вспомнив веселого, деятельного и разумного Кривошапкина. – Может, они пьяные были?
– Тут не пропечатано в каком виде: в тверезом али спьяна, – отозвался плотник. И снова парень с бетономешалки веско и непреклонно вставил:
– Могли быть и подпоенные, или сами для куражу выпили. Это все равно. Резали-то они этого колхозника именно за то, что он им поперек дорожки встал. Коллективизация – она смерть, пуще смерти для кулаков, для мироедов!
– Ну, читай, Андрей, дальше! – напомнил кто-то плотнику. – Еще, поди, про что-нибудь пропечатано в газете. Читай!
Чтение продолжалось. Влас тихо вернулся к своей койке и задумался. Алексей Григорьич, как живой, встал пред ним. Трудящийся, смирный мужик, упорно бившийся над своим немудрящим хозяйством, знавший жестокую нужду, но не сдававшийся и не падавший духом. Чем мог он озлобить против себя этих мужиков, которые ведь давно и хорошо знали его? За что пошли они его убивать?
«Кулаки... – соображал Влас, не слушая чтения и уйдя в свои думы. – Да разве ж они звери? Мало ли что! Нонче многих кулаками пишут, у кого хозяйство справное, крепкое. Ведь вот хотели же его, Власа, прижать, чтоб вошел он в коммуну... Ну, отступился, ушел... Или, вот Никанор Степаныч. Раздели мужика, вытряхнули из богатства, так разве он из-за этого на убийство, на грех пойдет?!»
Вдруг в эти размышления вторгнулось воспоминание о недавнем разговоре с Некипеловым. Стало тревожно от этого воспоминания.
«Напористый мужик Никанор Степаныч! – шумно вздохнул Влас. – Вина уговаривал выпить... И об каком таком деле, о каких таких умных людях непонятно толковал? Напористый!..»
В общежитии вспыхнул говор. Плотник окончил чтение и сложил газету. С газетой в руках прошел он мимо Власа. Влас задержал его:
– Дай-ка газетку... Погляжу.
– Грамотный?
– Мало-мало...
– Коли грамотный, – охотно подхватил плотник, – я тебе книжек принесу почитать. Желаешь?
– Приноси... – нерешительно и настороженно согласился Влас. – Только читать-то когды? Работа томит.
– Время найдется.
– Ну, ладно. А газету оставь мне. Погляжу я, почитаю про Алексея Григорича.
С газетой в руках угнездился Влас на койке и принялся медленно и сосредоточенно перечитывать заметку о покушении на Кривошапкина. И с измятого, по-незнакомому и необычно пахнущего газетного листа повеяло на Власа чем-то новым, незнаемым, незнакомым.
С газетой в руках Влас крепко и упорно задумался.
7.
О доме, о хозяйстве, обо всем том, что оставлено было им там, в деревне, у Власа в душе холодела неутишимая тоска. Влас со второй получки решил послать Марье немного денег. А с деньгами письмо. И в письме пообещал, что как только получше обживется в городе, сразу же выпишет семью к себе, сюда. Но через неделю от Марьи пришел ответ. Письмо писала Зинаида, видимо, со слов и под диктовку матери. В ответ на посулы Власа Марья осторожно советовала обождать:
«Житье у нас, Влас Егорыч, выходит не худое. Кормимся ладно и уповаем на лучшее. А что касаемо хозяйства, так Зинаида и Филька в полных работниках идут в коммуне, а меня коло скота поставили. Худого ничего покамест не видим... Езжать бы нам отседова надо погодить да подумать...»
А в конце письма прыгающими, торопливыми и смешными буквами, так, что еле разобрал Влас написанное, Филька прибавил:
«Отсюдова ехать нам не надо. Мы коммунары и нам хорошо. Ты бы сам вернулся».
Власа это письмо из дому расстроило. Он не выдержал и пожаловался соседу по койке, широкобородому старику:
– Совсем свет перевернулся, Савельич! Сопляк у меня мальчишка дома растет, ему бы родителев слушаться да слушаться и смирным быть, а он, гляди, меня лезет учить!
Савельич, щуря насмешливо глаза, расспросил Власа об его деле, об его заботе. Потрогал даже письмо, поглядел на прыгающие, неровные строчки и сыпнул мелким необидным смешком:
– Учит? Тринадцать ему, сказываешь, парню-то? во-о. Ну до чего народ умнеть зачал?
– Умнее некуда! – обиделся Влас. – Щенята супротив отцов ползут!
– Не щенята! Нет! – вспыхнул веселым оживлением Савельич, и лицо его запылало. – Ребятенки! Мальчишечки! Семя родное! Ты поднимаешь ли, дорогой мой, как фрукта растет? Не понимаешь, сибирский ты, тутошний. Фрукта тут нету. А фрукта, скажем, яблок, растет так: чем-доле уход, тем плоды лучше. Возьмешь семя от хорошего яблока, а она потом тако деревцо даст, лучше матошного! А деревцо, в силу войдя, плод понесет замечательный... Вот и тут, с ребятами. Они ноне не так, как мы взростали, тянутся. Замечательно!..
– Тебе замечательно! – укорил Влас. – У тебя, поди, балованных да супротивных ребят нету, вот тебе и весело!
– У меня?.. – Савельич сразу потушил пыланье свое. Потускнел, спрятал на мгновенье глаза. – У меня, дорогой мой, ребят, действительно теперь нету. Были, слов нету, были. Но померши. Двое.
Влас с сожалением поглядел на широкобородого и примирительно заметил:
– То-то!
– Что «то-то»? – вспыхнул тот. – Думаешь, не могу я в этаком деле правильного понятия поиметь? Ошибка, дружок, вернейшая ошибка! Прямо тебе говорю: дети нонче, без смеху и изгальства сказать, умнее коих отцов растут!
– Загнул!
– Умнее!..
Савельич разгорелся, а с ближайших коек стали подходить любопытные. Стали прислушиваться к спору.
– Об чем толкуете?
– Пошто крику много, драки нет!
– Об детях спорим...
В спор о детях ввязалось несколько человек. Влас приободрился, он надеялся, что в этом споре поддержат его, а не Савельича. Но никто не пришел ему на помощь, никто его не поддержал. Все встали на сторону Савельича. И это было уже не впервые.








