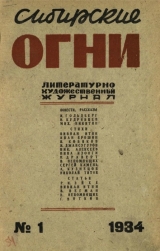
Текст книги "Жизнь начинается сегодня"
Автор книги: Иссак Гольдберг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц)
И. Гольдберг
Жизнь начинается сегодня
Роман
Глава первая
1.
Дым простирался низко по земле, как отвергнутая жертва Каина.
Ветер свирепел и носился ошалело над пустынными стынущими полями.
Голые деревья гнулись и стонали.
Влас стоял на опушке леса и глядел вдаль. Он видел низко стелющийся дым, видел обнаженные, еще мертвые поля, покачивающиеся деревья. Видел привычные, знакомые дали. Мохнатые брови нависали у Власа над глазами, и взгляд его прятался под ними. И взгляд его был наполнен холодною и упорною тоскою.
Дым стелился по земле.
Влас знал, что назьмовые кучи зажжены на полях его вчерашними соседями и друзьями. Вчерашние соседи и друзья, думал Влас, отступились от него, предали его.
– Куды докатитесь? – громко сказал Влас полям, тяжелому дыму, узкой полоске леса и скрывшейся за ним деревне.
– Что с вами станет? – прибавил он и отвернулся.
Весна была молчаливая и злая.
2.
Оплывшая Устинья Гавриловна, позеленев от злобы и ужаса, стояла в стороне и глядела:
– Ах!
Пеструху выводили из стайки. Чужие люди писали о ней что-то на бумагах.
Чужие люди, улыбаясь, сказали:
– Хороших кровей. Породиста!
И нужно было стоять молча в стороне, сцепив пальцы, сжав губы. Молча, чтобы не взъяриться, не прорваться в крике, в вопле:
– Грабители!.. Грабители!..
Вывели со двора карего, трехгодовалого. У него шерсть, как шелк, он поблескивал живым, горячим, играющим телом. Карий вытянул шею и ткнул теплой мордой в того, кто вел его в поводу. А морда у карего гладкая, нежная, и он любит, когда его треплют и щекочут по губам.
Вывели, – а она упиралась и не хотела итти, – Пегашку. Стригунок, взбрыкивая желтенькими копытцами, проскочил вслед за нею и тонко проржал. И стригунка было жалко, как родное, как кровное детище. Стригунка стало жалче всех.
Выводили, выводили. Гнали мимо, на широкую улицу. А на широкой улице гудел народ. И кто-то восхищенно и изумленно охал, и кто-то смеялся. И было страшно от этого смеха.
Солнце висело в серой и холодной высоте – тусклое и нерадостное. Метался беспощадно, беспокойно и изменчиво сухой ветер.
Под тусклым и нерадостным солнцем бледно заиграли отшлифованные землею лемехи и диски. Ветер зазвенел сталью и чугуном затарахтевших по настилу у ворот машин. Катились на улицу, туда, к чужим и враждебным людям, жнейки, грабли, новенькие плуги. С трудом протаскивали громоздкую молотилку и долго возились вокруг нее хозяйственно и дружно. Ухали, смеялись.
Выводили, выносили, выкатывали со двора все добро. Все добро!
И кровь у Устиньи Гавриловны в сердце кипела огнем. И злоба укладывалась навсегда.
3.
Наличники на окнах были резные, крашеные. Над крыльцом широко, просторно и гостеприимно нависала крыша. Точеные столбики весело поддерживали эту крышу. На опрятном дворе, обставленном амбарами и кладовыми, желтели дорожки, а от тесовых ворот до крыльца вел дощатый тротуар.
Устинья Гавриловна любила в перевалку, степенно прохаживаться по тротуару, выходить за ворота и оглядывать улицу. И видела она там бегущую по обе стороны деревню, серые избы, пыльные деревья, свешивавшиеся через жердяные изгороди, и голоногих ребятишек, вяло копошившихся в пыли. И видела Устинья Гавриловна на широком въезде в деревню, вправо от себя, деревянную колокольню церкви, облупленный шпиль и потускневший крест. И всегда Устинья Гавриловна хозяйственно крестилась, отмечая про себя: «Наша церква!».
Никанор был бессменным церковным старостой и правил церковью вместе с попом Гамалиилом безраздельно. И в праздники, когда Устинья Гавриловна со стряпухой Аннушкой управлялась с пирогами, Никанор приводил к столу попа, и на столе было радостно и благолепно от обилия и от чистого гостя.
Порою Никанор зазывал в праздник вместе с другими односельчанами соседа Власа.
Про Власа Никанор Степанович говаривал:
– Не в пример протчим, мужик крепкий да гордый! Ему бы малость капиталов – обосновался бы он широко! Ну, нехватает!
Влас, действительно, был горд. Он хозяйственно и не покладая рук правил своим небольшим хозяйством, своим крестьянским добром. Был жаден на работу, на землю. Всякая мелочь в его хозяйстве была у него на счету. Его лошадь всегда была в исправности, его скот – две коровы с телком и несколько овец – сияли чистотой и сытостью. И хлеб на его полосках стоял густою щеткою.
Власа знали и ценили в деревне, как работягу и как исправного члена общества. Только иной раз кто-нибудь незлобиво посмеется над ним за-глаза:
– Ох, и жаден Медведев до земли! Он бы ее, кажись, заместо хлеба ел! Работу да землю пуще бабы нежит!..
Балахня – та часть деревни, где испокон веков ютилась беднота, – знала, пожалуй, лучше других Власа. С Балахней Влас дружил. Но дружил как-то ворчливо и с попреками. Балахонцам Влас не раз выговаривал:
– Этта што? Этта разве хрестьянство?! Да вы что, язвенские такие, на ноги не подымаетесь?! Обстраивать жизнь надо ладнее!
И балахонские мужики или смущенно отсмеивались, или вспыхивали:
– Не шабаршись!.. Нам, обожди, только зацепку дай!.. Только зацепку дай, дак мы не хуже других развернемся!..
4.
В восемнадцатом году Влас уходил в тайгу партизанить. Две роты красильниковцев, три дня простоявшие в Суходольском, напоили его злобой и негодованием. Он вытащил из-под амбара винтовку, снарядился по-таежному, по-охотничьему и ушел привычной звериной тропою в укромную тишину тайги.
Месяцы, опаляющие, кровавые месяцы, бродил он вместе с другими мужиками по тайге, скрадывал, выслеживал вражеские отряды, делал набеги на железнодорожные станции, портил пути и бил, бил из верной винтовки врагов.
– Земля! – горел он в часы затишья у костра, когда бойцы устало курили прошлогодние листья и траву вместо махорки, и думали о вчерашнем, о домашнем, о привычном.
– Земля! Моя она!... Слободная!.. Я ее своими вот этими руками первернуть могу. Мне только дай ее! Не мешай!..
– Земля!.. – вспыхивал кто-нибудь из товарищей, заражаясь власовым возбуждением. – За что и бьемся!..
И Влас, облегчив свою душу гневным порывом, мечтательно и примиренно говорил о том, как можно, если нет помехи и препон, разворотить землю, обласкать ее трудом, заставить ее обильно и легко родить. В серых глазах его тогда плавились тихие искорки. Серые глаза его видели тогда за пляшущей и безвозвратно умирающей в вышине огненной пылью костра густую, бархатную чернь земли, тщательно причесанную бороною. Видели зыбкую, густую заросль пашни, бурое, тусклое золото зреющего и томящегося под солнцем хлеба, марево над полями и живой, горячий и пахучий ток вспыхивающих сверкающей пылью зерен. Видел золотое обилие хлебов, обставленный хозяйственными и обширными службами двор, веселый и сытый скот, высокие остожья соломы на гумне и радостный трудовой гул над избами, над ладонью, где стрекотали молотила, где выколачивалось ядреное, спелее, рассыпчатое зерно.
– Отобьемся, – мечтательно говорил он в угрюмое и задумчивое затишье, прильнувшее к костру, к товарищам: – отшибем гадов и ворочаемся по домам, к роботе! К роботе, ребята!...
И твердым, сочным и исполненным веры и силы и мужества было это его:
– К роботе!
В восемнадцатом году, истомленный огневой страдою, исходив по тайге не мало горячих и тяжких дней по затаенным, украдчивым тропам, Влас накопил в себе мужичью жадность к земле, нетерпеливое ожидание мирного труда, неутолимую жажду спокойного хозяйствования.
И когда остатки колчаковцев сгинули где-то за Байкалом и можно было вернуться ко дворам, к стылой, заброшенной земле, Влас накинулся на работу как полоумный, как одержимый. Работы было много, хозяйство пришло в упадок. Хозяйство надо было подымать, спасать. Влас вошел в работу целиком. Его оторвали было, выбрав в сельсовет, но год работы в сельсовете был для Власа мучительной, ненужной обузою, уводившей его от земли, от пашни, от двора. И на следующий год он уже не пошел служить обществу. Никуда не пошел, ни на какую общественную работу, – без отказу отдал себя своему хозяйству, своему крестьянствованию.
И в результате жадной и упорной работы земля стала приносить плоды. Обласканная и обихоженная неустанными и тщательными трудами, Власу она принесла много плодов. Хлеб в его амбаре заполнил все сусеки. Хлебом Влас стал богат.
И вот тогда-то за этим хлебом пришли. Ничего не спрашивая, не допытываясь, каких усилий и мук стоил он Власу, сказали:
– Сдавай, Медведев, государству!... Рабочим!
Влас потемнел, но безропотно повел пришедших в амбар.
– Вот он тут, весь! – тая в себе огорчение и холод неприязни, показал он.
– Не прячешь? – усмехнулся кто-то из сельсоветчиков.
– Я не прячу! – с гневной обидой крикнул Влас. – Моего такого характеру нет, чтоб прятать!.. Весь он тут, хлеб!
– Он не спрячет! Нет! – подтвердила сельчане. И крепче и уверенней всех подтвердили балахнинские жители.
В те годы многие вывозили хлеб тайком из амбаров, прятали его по ямам, хоронили от властей, от государства. В те годы у зажиточных, оборотистых и крепких мужиков закипала густым хмельным, бурлящим наваром злоба на новых правителей – за разверстку, за отобранный хлеб, за вывозимое со дворов богатство. В те годы в деревнях острее и обнаженней пошел разлад: откололись от деревни, от мира богатеи, приобретатели, кулаки, стала шумливей, смелей и горластей беднота. И беднота, голь рваная, наседала на богатеев, шныряла по дворам, по амбарам и по гумнам, выволакивала спрятанное, утаенное. Беднота, скатившись с грязной, обтрепанной, неустроенной Балахни, потрясла озорно, крикливо и беззастенчиво совсем уж было наладившийся по-хозяйственному и почти по-старому, домовитый уклад крепких, оборотистых мужиков.
Влас в те годы однажды сцепился с мужиками за Никанора. Влас видел, как вытряхивали у мужика, у соседа, весь урожай, а урожай был обильный и богатый. И Никанор, перекосившись от злобы, от жадности и от страха, кричал на балахнинских ребят, которые суетливо нагребали в мешки пахучее зерно:
– Не вами нажито, окаянные! Не вами!
– Всамделе! – просунулся тогда вперед Влас. – Пошто зорите хозяйство? С чем мужика оставите? Чем он оборачиваться станет?
– Он обернется!
– У его в ямах еще не столько набуровлено!...
– Жалко, не знаем, недотакались, игде его ямы!..
– Жалко!.. Тряхнули бы напрочь!
Кто-то с обидной снисходительностью, словно прощая Власу его непонятливость, посоветовал:
– А ты отступись от этого дела, Егорыч!
– Не мешайся!
– Не мешайся!
Влас обиделся. Он вскипел. Ему казалось, что он правильно вступился за попранную справедливость, за напрасно обиженного человека:
– Человек наживал, а вы его в дым пускаете! Сами, небойсь, не умели наживать, непривычны!
Мужики особенно балахнинские, взбурлили, взъярились:
– Нашим горбом наживал!.. Нашим!..
Влас ушел под градом упреков и злых и обидных выкриков. У Власа обида за Никанора, а пуще того на то, что вот не считаются с ним, Власом, с его мнением, с его словом, – засела глубоко в сердце. Обида эта часто потом вспыхивала и разгоралась в нем все острее и жарче.
5.
Но вот по стране прокатилось новое. Непривычное слово прочно зареяло над деревней. Непривычное слово врезалось в жизнь, как сокрушительный снаряд. Взрывая, взрыхляя, опустошая старое и расчищая место для нового.
Влас, услыхав это непривычное слово и кой-как уразумев его смысл, задумался.
– Колхоз... – покачал он головою. – Это, выходит, примерно, так – я буду работать, поты проливать, а лодыри и пьяницы от трудов моих все себе забирать станут!.. Не пито, не едено, подай им все!.. Сла-авно!..
А Балахня, в которую метил свои злые слова Влас, неуемной бурливой оравой приходила на собрания и единодушно, захлебываясь радостью и разбрызгивая веселую удаль, требовала, приказывала:
– Колхоз!.. Даешь колхоз!.. Чтоб всем!.. Окромя кулаков, всем в колхоз!...
– Я не согласен! – негодуя против балахнинцев, упирался Влас. – Моего согласия нет на это! Не желаю трудами своими на шантрапу трудиться!... Я до работы жаден и не боюсь ее, а вот хотя бы ты, Васька, ты – лодырь и горлапан! Выходит, что я на тебя должен работать, коли все обчее будет? Нет!...
– Нет, говоришь? – весело и задиристо ввязался в спор Васька. – А тебя и не спросют! – И разжег Власа до ярости.
Два передних зуба у Васьки были выбиты, и рот у него темнел черным зиянием. Два передних зуба у Васьки были выбиты тогда, когда его однажды поймали возле чужих амбаров с полмешком ржи. И беззубый оскал васькиной усмешки пуще всего озлил Власа. Озлил до бешенства, до одури.
– Воры!.. – кричал он. – Достоверные воры в этот колхоз ваш в первую голову налезут! Им там, видать, лафа будет!.. Ну, не желаю с ворами!..
– Не желаешь, твое дело, Медведев! – подзадоривали его. – Твоего согласия, брат, никто и спрашивать не спрашивает. А вот постановлено, чтоб всем, которые достойны, так против общества не попрешь!
– Не желаю!
– А попрешь супротив, так не закайся! Не посмотрим, што да как!...
Испепеленный гневом и возмущением ушел Влас с этого собрания. Дома с горечью оглядел свое добро: крепкую недавно наново перекрытую избу, свежесрубленный амбар, стайку и завозни, где мычал сытый скот. Пасмурно вошел в избу и в сердцах поделился своими огорчениями с женою:
– Кончают спокойное житье!
– Да как же это, Егорыч?
– Как!..
Влас отошел от жены и издали, из угла, кидая слова, как мерзлые комья, как камни, рассказал о колхозе, о том, что деревня с ума сошла, о том, что хозяйство теперь в окончательный раззор пойдет. Рассказал о том, что при колхозе, при новых порядках свалят отныне в одно, в одну кучу настоящего, трудолюбивого хозяина и шантрапу, и будет шантрапа, вроде Васьки балахнинского, заправлять всем делом, в каждую дыру лезть, каждую былинку перетряхивать.
Власова жена испуганно слушала мужа, и от его слов лицо ее тускнело, губы складывались в горькую, удивленную усмешку, на лбу собирались мелкие борозды морщин.
– Дак мы же хозяева своему добру?! – полувопросительно воскликнула она. – Налоги да обовязанности отдаем сполна, неужто этого, Егорыч, мало?
– Мало! – отрезал Влас. – Идут новые порядки. Порушение жизни!.. Всем, вишь, селом порешили старое житье на-слом, на порушенье пустить!.. Всем селом в колхоз этот самый, в коммуну войти установили!.. Балахня это вшивая заправляет!
– А ты как? – встрепенулась жена и озабоченно и выжидающе уставилась на Власа.
– Я!?.. – Влас шагнул к столу и звонко шлепнул ладонью по столешнице. – Я ни в жисть! Не пойду!
– А коли заставят, Егорыч? А коли принужденье выйдет?
– Ни в жисть!..
6.
Как только никаноровское хозяйство пошло в общественный колхозный фонд и еще до того, как пришли и забрали дом и выселили семью куда-то на Балахню, сам Никанор незаметно скрылся из села.
Устинья Гавриловна на приставанья соседей и сельсоветчиков, пришедших разыскивать Никанора, плаксиво, но упорно отвечала:
– А хто ж его знат? Ничего не сказал, ну ровнешеньки ничего! Ушел куды-то незнаемо!
– Сбежал, стало быть?
– К чему ж ему в бегах быть? – обижалась Устинья Гавриловна, отводя взгляд в сторону. – Кабы он в чем виноватый, а то...
Никаноровский дом взяли под общежитие. В большой чистой горнице устроили красный уголок. Запестрили стены плакатами, картинками, лозунгами. На обширный обеденный стол набросали в беспорядке книжек и газет. Широко раскрыли двери, над которыми повесили самодельную вывеску.
И двор, по которому еще недавно вперевалку, хозяйственно и гордо прохаживалась Устинья Гавриловна, зарокотал, зазвенел ребячьим гомоном и криком.
В дом, в жилую половину его, вселили самых захудалых, самых грязных балахнинских обитателей. И самые захудалые, самые грязные балахнинцы расположились в никаноровских горницах как у себя дома, словно были они век тут хозяевами.
Устинья Гавриловна, пришибленная и раздавленная свалившеюся на нее бедою, пришла к Власу:
– Влас Егорыч, неужто на них никакой управы нету? А, Влас Егорыч?
Влас молчал. И старуха заплакала, заголосила. И слезы ее были обильны, безудержны, по-бабьи бесконечны, как по покойнику.
– Разорили! Батюшки светы! по миру пустили!.. Ну все, ну все, как есть, отняли, окаянные!.. Пеструшку доморощенную, коровку родную угнали, за Пеструшку сердце у меня, родные мои, пуще всего болит!.. Из дому выгнали да вшивых и сопливых туда насадили!.. Все добро, все добро!.. Ну как же теперь быть? Влас Егорыч, научи! Как же быть?
Влас исподлобья взглянул на Устинью Гавриловну и сжал кулаки:
– От меня какая тебе, Устинья Гавриловна, наука? Я тебе не советчик, не помощник. Меня самого скоро вытряхнут из моего добра! Пристают, чтоб я, как все, как общество!.. А я не хочу! Не жалаю я итти в этот их троюпроклятый колхоз!
– Силком гонют! – всхлипнула жена Власа. – Не знай, как и быть!
– Уйду! – зло сказал Влас. – Куды глаза глядят уйду.
Жена заплакала, и, глядя на нее и вспомнив и о своем горе, вновь залилась слезами и Устинья Гавриловна.
– Я кровь проливал за землю за свою, за хозяйство! – пылал Влас, не обращая внимания на слезы женщин. – Я только-только на ноги становиться зачал, а тут конец всему...
– Истинное светопреставление... – сквозь слезы оживилась Устинья Гавриловна. – Правду намеднись батюшка сказывал: действует, мол, грит, каиновы дети! От каинова семени!.. Сказывал, терпеть надо. Бог грит, терпел да и нам велел... А как терьпеть-то? Силов нету! Моченьки не стало! От этакого добра, как у нас-то было, разве успокоишься сердцем? Как подумаю, как подумаю, так скрозь слезами исхожусь!.. Каиново семя! Лодыри, пьяницы и воры! Им отдай все, а они прогулеванят, пропьют! Все прахом пойдет!.. Все, все, Влас Егорыч!..
7
Городской уполномоченный три дня проводил собрание за собранием. Три дня Влас и еще некоторые крестьяне озлобленно и напористо противились вступлению в колхоз, шумели, спорили до хрипоты.
– Силком гоните! Пошто не по добровольному согласию?!
– Незаконно! Нет нашего жаланья! Пущай которые жалающие, ну они записываются, а мы подождем!..
Городской уполномоченный хитро улыбался и ворошил бумажки, разбросанные перед ним на столе:
– Ежели сказано, что сплошная коллективизация, так нужно обществу подчиняться. Тут всем миром за колхоз мужики встают, а вас десять, скажем, хозяйств, и артачитесь вы зря!.. Какое постановление большинства, так и будет. И обязаны подчиниться!.. Ну, одним словом, кончено, товарищи, с этим делом!
– Кончено! Кончено!..
В эти три дня, когда окончательно вырешалась судьба деревни, Влас осунулся, потускнел, замкнулся в себе. Он по-долгу обдумывал что-то наедине, про себя. Он сделался сосредоточенным и угрюмый.
На четвертый день он вернулся домой со сходки, с собрания возбужденный, на что-то решившийся, почти повеселевший. Он обошел свой двор, оглядел скот, полазил по амбарам, сходил на гумно. Ничего не говоря жене, встревоженно и изумленно следившей за ним, он пригляделся ко всему хозяйству, словно оценивал его. А вечером, после паужна, стал крошить на столешнице самосалку. И, сосредоточившись на этой привычной и легкой работе, сказал вдруг Марье:
– Доведется тебе, Марья, похозяйствовать без меня. С ребятами...
– С чего же это? – чуя неладное, встрепенулась жена.
– Уйду я... Пущай не на моих глазах, пущай без меня раззоряют добро!
– А мы как, Егорыч?
– Вы? Коли не оставят в покое, ступайте как все... Продоржитесь[1]1
Местное, диалектное произношение. В Сибири издавна глагол «держать, держаться» и все производные от него формы произносили не через букву «е», а через «о».
[Закрыть]...
Власова жена опустилась на лавку и потянула уголок фартука к мокрым глазам.
– Ну, брось слезы! – остановил ее Влас. – Брось!
– Куды ж ты, Егорыч? Куды ты пойдешь? Опять мытариться? Опять горюшка хлебать?!.. Егорыч, не ходил бы!
– Оставь! Молчи!..
В эту ночь Влас долго ворочался без сна. Долго вздыхала женщина. Часто принималась плакать. Все силилась понять мужа и не могла.
Покидая деревню, Влас остановился на опушке леса и поглядел, стараясь охватить взглядом побольше и попрочнее, вдаль. Он посмотрел на обнаженные, мертвые еще поля, на покачивающиеся под ветром деревья. Он поглядел на низко, робко и воровски стелющийся над полями дым и вспомнил слова попа, повторенные Устиньей Гавриловной:
«Каиново семя!»
И он с едкой усмешкой, со злобным удовлетворением подумал:
– Дым-то, как каинова жертва!.. Неугодная!..
Неся с собою злобу на деревню, на новые порядки, злобу за разрушенное хозяйство, за отнятую землю, за все страшное и плохое, что по его убеждению, несет колхоз, Влас взобрался на пригорок и, не оглядываясь, перевалил через него. И деревня, еще вчера родная деревня, скрылась для него. Надолго. Может быть, навсегда...
Глава вторая
1.
Счетовод листал большую конторскую книгу и, рывком перебрасывая страницы, бурчал:
– Мне одному не управиться! Мне помощники необходимы, работники! Тут писанины на хороший департамент, а я управляйся один!
– Не один, однако! – усмехнулся завхоз. – Вот у тебя в помощниках Баландина. Загружай ее попуще!
– Толков мало!
Баландина, Феклуша, отодвинула от себя личные карточки коммунаров и вытянула шею:
– С какой стати про меня такой разговор?
– С такой самой! Непонимающая ты. Плохо маракуешь!
– А вы меня учите! – вспыхнула Феклуша. – Учите, говорю! На то и поставлены!
Счетовод захватил кривыми, прокуренными пальцами толстые губы, чмокнул и наклонил голову набок:
– Я не в учителя сюда мобилизован. Для постановки счетоводства у колхозе! Это как сказано: учет есть социализм!.. Учителей требуйте из района! Мне работа нужна. Чтоб раз-раз и готово!
Выбеленные, но уже кой-где облупившиеся стены конторы были увешаны плакатами. На плакатах – машины, широкие, тучные поля, по которым стройными косыми рядами идут тракторные колонны. На плакатах цифры, лозунги, призывы.
Завхоз зевнул и выглянул в окошко.
– Задержался Степан Петрович. Обещал к утру быть, а все нету.
– Город манит! – ехидно сказал счетовод, – у городе передохнуть малость можно!
– Он не ради для развлеченья поехал. Сам знаешь. Запасные части к интеру добывать отправился.
За окном сиял апрельский звонкий день. Влажный воздух дрожал зыбко и трепетно. Солнце купалось во влажном звонком воздухе. Солнце пронизывало голубую высь сверкающим трепетанием.
За окном пела разогретая, только-что оттаявшая, отошедшая земля. Поблескивали серебряные лужицы. Сыпалась тихая певучая капель. Кричали изумленно и радостно петухи.
Петухи кричали внеурочно. Полдень уже давно укатился. На небе безобидно и мирно висели белые обрывки облаков. Курицы бродили тут же и были все в сборе. Петухи кричали от радости, от нового, весеннего солнца, от тепла. Кричали от любовной истомы.
– Вчера никаноровская Устинья Гавриловна на птичник прилезла, – прислушаетесь к петушиному пению, весело вспомнила Феклуша. – Свою хохлатку словить хотела!
– Гляди, зря, однако, не выселили окончательно кулацкие ошметки! – лениво вставил завхоз. – Никанор в бегах, а семья тута околачивается!
– Раскулачивать следует до самого корню! – назидательно сказал счетовод. – Ликвидировать, значит, кулачество как класс! Это как понимать надо? А так: до самого грунта выкорчевывать!
Феклуша шумно засмеялась:
– Устинью так ликвидировали, что лучше не надо! Она с двумя младшими в селифошкиной хибарке. А хибарка еле стоит. Ну после хором-то не сладко кулачихе. Она ходит по деревне и скулит!
– Ликвидировать как класс! – поднял счетовод ладонь вверх и растопырил пальцы. – На каком основании у колхозной, скажем, территории бывшего кулацкого звания семья проживает? Вред коллективизация! Нарушение установок! Уклон против дилектив!
– Не вредная она, – успокоительно заметил завхоз, – ее и так ушибли здорово. Пущай временно жительствует на отшибе.
В контору, хлопая дверью, стали заходить посетители. У счетовода сразу же окаменело лицо. Он придвинул к себе поближе книгу и, осторожно стряхивая чернила с кончика пера, стал выводить неторопливо ряды цифр.
Завхоза обступили коммунары с разными делами. Завхоз выслушивал и невозмутимо отвечал на вопросы, подписывал бумажки, шутил.
Иные из коммунаров заходили в контору так, без всякого дела. Они усаживались на длинной скамье, стоящей у стены, курили и мирно беседовали.
На длинную скамью у стены, у самой двери, уселась Марья Медведева, власова жена. Она выждала, пока завхоз управился с посетителями, с делами, и подошла к нему.
– Что скажешь, Марья Митревна? – осведомился завхоз.
– Выпиши ты мне, Андрей Васильич, мучки с пудик!
– Пошто не ходишь в столовую? Без возни бы, без стряпни. Ребята-то твои ходят?
– Непривышна я!.. – смутилась Марья. – Ребята ходят.
– Коммуна! – внушительно вмешался счетовод и потряс какой-то ведомостью. – Это слово сурьезное! Все общее и никаких отличий. Раз положено в общей столовой питание получать, то и получай! А то лишние записи и лишняя работа счетоводству конторы!
– Выпиши ей ордер, товарищ Маркедонов! – коротко и сухо сказал завхоз, перебивая счетовода. – Выпиши пуд за апрель!
– Шестнадцать килограмм! Пора бы отойти от старого! – буркнул счетовод и написал ордер.
Марья взяла бумажку, кивнула головой завхозу и пошла к двери.
– За своим хожу! – сумрачно заметила она, берясь за скобку двери. – У коих ни горсточки не взяли, а у нас двенадцать мешков!
2.
В те три дня, в которые Влас бился на сходах против колхоза и требовал, чтоб туда шли только желающие, а не всем селом сплошь, деревня решила не только о колхозе, но шагнула сразу дальше: постановили образовать коммуну
– Назовем ее, товарищи крестьяне, примерно, так: «Заря коммунизма»! – предложил городской уполномоченный.
Но об имени коммуны вспыхнул горячий спор. Посыпались предложения:
«Дружная семья»!
«Крестьянская победа»!
«Светлая жизнь»!
Васька с Балахни, размахивая возбужденно руками, прокричал:
– Давайте назовем: «Самосильный Бедняк»!
Над Васькой посмеялись, и после криков, пререканий и споров назвали коммуну:
«Победа коммунизма».
Первые недели жизни «Победы коммунизма» были суматошливы и шумны. Сносили и свозили в общее пользование машины, плуги, инвентарь. Сгоняли в общие дворы скот. Налаживали столовую. Устраивали контору.
К Марье в первые дни пришли и сказали:
– Ну, Медведиха, налаживайся на житье в коммуне! Твой-то ушел, не глянется ему. А ты, женщина, поступай, как все!
Марья затаила в себе обиду, но вошла в коммуну. Она решила, что все равно деваться ей некуда, что все равно хозяйство будет порушено, и, всплакнув, сказала ребятам:
– Пропадем мы без Власа... Запишемся, бать, ребята, в этую коммуну. Хлебнем горя!
Ребята – тринадцатилетний Филька и почти-невеста – семнадцатый год пошел – Зинаида – легко согласились с матерью. Но когда мать обеими руками отмахнулась от столовой, боясь расстаться с печкой и горшками, стыдясь соседей и кумушек, то и мальчишка и девушка, оба решительно заявили:
– Все ходят туда! Почему мы хуже других? Да там и весельше!
– Весельше?! – вспыхнула мать. – Вроде трактира!
– Там все! – повторила настойчиво Зинаида. – Подружки.
– Ну, как хотите! А я дома буду. Не могу я...
И Марья и не заглянула в столовую, а стала приходить в контору за ордерами на продукты, хлопотала попрежнему у печки и вздыхала о прошлом домашнем уюте, о семье, которая разваливается, о Власе, не подававшем о себе никаких вестей.
Изредка к Марье забегала Устинья Гавриловна. Старуха сразу пожелтела, одрябла, сделалась суетливой и настороженной. Она со дня на день ждала, что коммунары выгонят ее из той хибарки на Балахне, где дали ей временный приют. Она прятала глаза и избегала встреч и разговоров с односельчанами.
У Марьи она немного отходила, согревалась душою: с Марьей могла она свободно выплакать наболевшее, высказать то, что камнем залегло на сердце. Ведь и у Марьи, как и у нее, мужик ушел куда-то безвестно, ушел от плохой жизни, от дурных людей, от злых и несправедливых порядков и законов!
– Ничего, Марьюшка? – спрашивала она, приходя. – Никакой весточки?
– Нет, Устинья Гавриловна, ничегошеньки! Уж так-то мое сердце изболелось! Уж так-то!..
– Беды! И мой, как в воду канул! Сыну письмо посылала, от сына про отца никаких известий... И сын Петя тоже не сообщает.
Петя, сын Устиньи Гавриловны, жил в городе. Два года назад его вычистили из вуза, и теперь он где-то как-то устраивался и писал родителям очень редко. А с тех пор, как отца раскулачили и он ушел из деревни, Петя и вовсе перестал писать.
Устинья Гавриловна, жалуясь Марье на свои горести, о сыне выражалась осторожно и извинительно:
– Нельзя ему, слышь, с нами поддоржку иметь. Портит это ему в жизни... Вот тогды ошиблись мы с ним. Надо бы для видимости откачнуться ему от нас, вот он бы, может, и ученье окончил! А мы по глупости да с неопытности и не сообразили!
Однажды Устинья Гавриловна пришла к Марье возбужденная, тая в себе какую-то с трудом скрываемую новость.
– Объявился? – нетерпеливо и ревниво («Вот у людей все по-хорошему! Не то, что у нас!») кинулась к ней Марья.
– Нет, не объявился. Не то... Письмо от Пети пришло. Через добрых людей. По совести сказать, неладное пишет, обидное, а выходит – все к лучшему... Отказался Петя от нас!
– Отказался? – изумилась Марья. – Как же так?
– Через газету. В газетке пропечатал, что отказывается от родителей, потому, грит, они кулацкого звания... Обидно, конечно, ну, все-таки, слава тебе, господи, бать, теперь ему ход будет в жизни. Перестанут притеснять!
– Ох, горюшко-то какое – исполнилась Марья жалости к Устинье Гавриловне. – От родителей отказывается! Родное дите!?
– Да ведь для видимости! – успокоила Устинья Гавриловна и снисходительно, как взрослый в разговоре с малышом, несмысленышем, усмехнулась: – Наш Петя душевный. Он от нас не откачнется всамделе.
Марья посмотрела на старуху и широко раскрыла глаза. Марья недоумевала. Удивленно разглядывая Устинью Гавриловну, она старалась вникнуть в ее слова, старалась что-то понять, но не могла.
Она не понимала – как это у Устиньи Гавриловны сердце не болит за поступок сына, отрекшегося от родителей, всенародно заявившего, что он не признает их больше своими родными?
И Марья впервые по-настоящему задумалась об Устинье Гавриловне, об ее Никаноре, о всей ее родове.
3.
Марья по-настоящему только теперь впервые задумалась о Никаноре и об Устинье Гавриловне.
Когда жизнь влеклась однообразно и привычно, когда жизнь простиралась от поскотины до поскотины, вымеренная привычным и однообразным трудом, когда каждый день бывал похож на предыдущий и сегодня было как вчера и как завтра, – думать о соседях не приходилось. Знала Марья, что у Устиньи Гавриловны дом – полная чаша, что никогда никаноровские не знали ни в чем неудачи. Знала, что многие работали на Устинью Гавриловну и на ее семью и что сама она трудилась совсем мало и только ростила и холила свое рыхлое тело. Но Марья считала, что в жизни так уже и положено: одни богаты и ни в чем не нуждаются, хотя и не работают, а другие сохнут на работе и голодают. И не могла взять в толк Марья, когда при ней, вспыхивая жгучей злобой, кто-нибудь из бедноты, из балахнинских жителей орал про Никанора:








