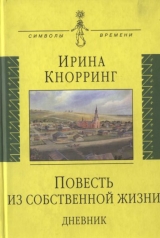
Текст книги "Повесть из собственной жизни. Дневник. Том 1"
Автор книги: Ирина Кнорринг
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 49 (всего у книги 58 страниц)
Письмо от Наташи. Такое, что я ревела. Как будто я сама его писала. Все похоже. И какая я несчастная и маленькая.
Опять давно не писала дневник и зря. Было что записать из своих мыслей и настроений. Мысли скверные, настроения – еще хуже. Из того, что я перечувствовала, скажу только о вчерашнем разговоре с Мамочкой. Мы пошли гулять и, как только дошли до каменоломни, около нее она начала говорить. Этого места я боюсь: все страшные разговоры начинались именно от этой каменоломни. Но разговор не был таким уж тяжелым, как я думала. Не о Васе, во всяком случае. Мамочка говорила: «Мы с Папой-Колей вчера ходили гулять и все время говорили о тебе». Это уже что-то обещает, однако я сказала как можно спокойнее: «Ну и что же?» – «Ну, Папа-Коля говорит, что ты страшная самка, что это во всем в тебе проявляется, что ты увлечешься первым, кто за тобой станет ухаживать». Мне стало как-то смутно. Это я-то самка, я, которая думала быть искренней и оригинальной?! Я, с моей ролью в Сфаяте, я – самка! Я, конечно, ничего не говорила, но про себя не могла не согласиться, так как я человек о себе довольно справедливый, что это так. Не думаю, чтобы я так уж была самкой по натуре, это просто возраст такой, но что сейчас во мне очень силен этот инстинкт, так это так. Мамочка говорит, что в ее время всячески старались это скрыть, а я не скрываю, только и всего, вся и разница. Первая мысль – не показывать стихотворение «Трепет». Я все-таки расстроилась и рассердилась, начала говорить глупости и чистейшую ерунду, только Мамочку до слёз расстроила и сама расплакалась. Около мимоз мы примирились, к этому месту мы всегда примиряемся, тут всегда крутой разговор преломляется в благоприятную сторону. А все-таки я и придя домой много ревела. Не хочу быть самкой – и только. А любви все-таки ведь я хочу. Но если я действительно найду в жизни что-нибудь похожее на то, о чем писали в старых книгах, то и любви не надо, жизнь – ярка, широка и интересна. А все-таки я стою в каком-то тупике. Мамочка говорит, что так нельзя жить, как я живу, что нельзя дичиться людей, нужно со всеми, даже с дураками, разговаривать, чтобы выявить себя. Хорошо, согласна, но неужели за четыре каких-нибудь месяца бросать роль, которую я вела уже несколько лет? Или такая перемена в сущности не изменит роли? Не знаю. Но разговаривать тоже не буду. Скорее бы в Париж, там начну совсем-совсем новую жизнь.
Пока решила серьезно и усиленно заняться французским. Достала самоучитель Dessagnes’а [349]349
Речь идет о неоднократно переиздававшемся учебнике: Dessagnes P.Le français pour les étrangers. Méthode directe («французский для иностранцев»).
[Закрыть]и занимаюсь действительно много и только французским. Решила все остальное бросить и действительно бросила.
Вчера получила ответ из редакции «Своими путями». Конечно, жаль, что печатают только одно стихотворение, [350]350
«Забывать нас стали там, в России» («Своими путями», № 3/4, 1925, с. 11). Обращено к Тане Гливенко.
[Закрыть]а не все, но это бы еще ничего, а вот зачем переделывают его?
Забывать нас стали там, в России,
После стольких незабвенных лет.
Даже письма вовсе не такие,
Даже нежности в них больше нет.
Скоро пятая весна настанет,
Весны здесь так бледны и мертвы…
Отчего ты мне не пишешь,
Таня Из своей оснеженной Москвы?
И когда в октябрьский дождь и ветер
Я вернусь к друзьям далеких дней, —
Ведь никто, никто меня не встретит
У закрытых наглухо дверей.
14 ноября 1924
Это уже совершенно лишнее. Мне понравилось только, что редактирует его М. И. Цветаева. Я уже решила, и на этом только успокоилась, что какие бы ни были ее переделки, придерусь и напишу ей письмо. Это не страшно, потому что против моих возражений, возражений автора, все равно никаких аргументов не приведешь. И еще: говорят, что «если она не свободна от иногда весьма существенных недостатков формальных и стилистических…» Намек на критику. А вот из «Эоса» писали: «Благодарим за прекрасные стихи». А ведь в «Своими путями» послала лучшее, какая же, значит, дрянь все то, что печаталось раньше, да и вообще все, что я когда-либо печатала?!
Пишу карандашом, так как таким паршивым пером ничего не напишешь.
Папа-Коля ездил в Тунис и купил себе скрипку. Скрипка старая, с трещиной под грифом, но звук хороший. Доволен, как школьник. Все время играет. Я страшно рада за него. Мамочка потом говорила, что не может слышать скрипки, что в одной маленький комнатке нельзя так играть, что у нее даже зубы болят. На меня музыка действует по-другому: бьет по нервам. Я тоже просто слышать не могу, ухожу к себе и реву. Терпеть не могу себя в таком состоянии, когда плакать хочется.
А состояние скверное. Ужасно скверное. Кажется – из-за стихов. Хочется писать и ничего не получается. И последние мои стихи такая ерунда. И не бросать же? Как ни бросай теперь, все равно не бросишь. Совершенно разочаровалась в себе, перестала верить в свои силы, а ведь были моменты, когда верила! Нет, не бывать мне поэтом.
Сегодня ровно четыре года, как мы приехали в Сфаят.
Татьянин День. Ходили праздновать к итальянцу, там пили мускат. Погода до сих пор стоит великолепная, было жарко в моем костюме.
Папа-Коля целые дни играет. Между прочим, мне хочется подобрать стихи к «Мазурке» Венявского. Как мазурка, она разбивается на строчки. В ней 8 строчек. Не помню, какой размер. Рифмы женские. Главная задача в том, чтобы передать словами мотив. Так как музыкального развития у меня нет и музыку я знаю скверно, то боюсь, что это мне не удастся. Хочу еще написать стихотворение «Собаки», посвященное милой сфаятской пятерке: Чарли, Ятьке, Рынде и Бимсу.
Реву, реву и реву весь вечер. Как-то вдруг почувствовала себя жалкой, бесталанной, удивительно неинтересной и пустой.
На Масленице Папа-Коля устраивает концерт, сам будет участвовать, Таусон, Шульгин, Елизавета Сергеевна, даже Новикова хотят притянуть. Мамочку приглашают мелодекламировать; потом танцы и там опять не будет моего участия. Ничего никому я не могу дать. Как-то до сих пор мне казалось, что это только здесь так, что себя берегу для чего-то другого, будущего, а ведь и в будущем ничего не будет и нечего мне беречь. Пустоту берегу. Даже в Париж мне больше не хочется, все равно и там я буду на запятках. С «Мазуркой» билась-билась, и ничего не вышло. Это окончательно подорвало мою веру в себя и в мое будущее.
В пятницу приехали в Сфаят Полетаевы. Я раньше думала, что познакомлюсь ближе с Нюрой, не будет так скучно. Нюра моих лет, миниатюрная, довольно изящная, лицо кукольное, хотя она вовсе не некрасива, как некоторые говорят. Видимо, мудрит с волосами и утопает в космах. Это некрасиво, но ей, вероятно, нравится. Одевается довольно безвкусно, ногти грязные. Держится довольно просто, хотя наивничает. По-моему, она глупенькая. Хороший альт, мы теперь с ней вместе поем. За ней ухаживает Всеволод Новиков и, по-видимому, не без взаимности. Ну и пусть их шатаются! Мне до них обоих мало дела.
Что произошло за это время? Кажется, ничего. Так же скучно, так же беспросветно.
Сейчас глаза болят от слез. Много плакала. Читала Мамочке последние стихи, в том числе и «Трепет». Она после долгих размышлений сказала: «Да… У тебя сейчас есть только одно желание, оно сильно обнаруживается в тебе». – «Ни одного!» – «Нет. Желание любви». Через несколько секунд я в слезах пришла в свою комнату. Мамочка всячески меня успокаивала, убеждала пить бром, нервничала сама, чуть на довела себя до истерики. О, стихи мои, горе мое! Все это правда, хотя немного уже и отсталая. И что-то могу еще желать? Стихи я люблю больше любви, а ведь больше я ничего и не знаю. Ведь жизнь, ту настоящую жизнь, о которой говорит Мамочка, я знаю только по книгам!
Господи, что будет, что будет дальше?
Мамочка страшно беспокоится за мое здоровье. Сегодня, когда Бологовской был в Сфаяте, она пригласила его ко мне. Выслушав меня, тот сказал, что в легких все благополучно и всё, все мои недомогание – нервные. Прописал мне режим: рано вставать, обтираться холодной водой, больше гулять и найти постоянную работу. Что же, попробую с завтрашнего дня приняться за лечение. Нервы мои, действительно, сильно подгуляли. Это я сама вижу. Попробую завтра встать рано, буду еще больше гулять. Только вот Владимир Иванович хочет обязательно, чтобы я ходила не одна, а в веселой компании. Когда Мамочка сказала ему, что я хожу гулять с Петром Александровичем, он вздохнул: «Ну, уж тут никакой бром не поможет». Веселой компании мне все равно не найти. Кто – Нюра и Всеволод? – влюбленная пара. Щуров? – да ну их! Я предпочитаю пятерку наших собак, правда! Надо еще найти постоянное дело и притом «по сердцу». Что же? Я занимаюсь французским, даже беру уроки у Елизаветы Сергеевны, только, по-моему, из этого мало толку будет. Язык знает она немногим лучше меня, когда задает вопросы, так очень долго и путано составляет фразы и проходит больше точности грамматики, то, что должно усваиваться механически, как, напр<имер>, времена глаголов, она старается объяснить аналогией с русским и, конечно, неудачно. Ну да это все равно, это не мешает мне собой заниматься и читать. Кроме того, мне бы еще хотелось заняться латинским, одной, ведь если когда-нибудь я буду учиться, то латыни все равно не миновать. Думаю начать все сначала. А так: какие же еще дела? Стирка, шитье белья, штопка, уборка – мало ли дела, но какого дела?
Еще одна важная вещь, о которой уже давно можно было бы написать: Петр Ефимович Косолапенко прислал нам письмо, он выхлопотал себе стипендию и учится в Генте, [351]351
В бельгийском городе Генте (Gend) в Политехническом институте училась большая группа русских студентов, обратившихся в Федоровский комитет за помощью. Подробнее см.: Федоров М. М.Русская молодежь в высшей школе за границей: Деятельность ЦК по обеспечению высшего образования русскому юношеству за границей: 1922/1923–1931/1932 учебные годы. – Париж, 1933.
[Закрыть]и он советует мне послать мои бумаги проф<ессору> Экку, [352]352
Профессор А. А. Экк в то время возглавлял кафедру истории России в Генте (Бельгия), а также принимал участие в организации русских учебных учреждений в Париже.
[Закрыть]с ходатайством о стипендии. Экку можно писать по-русски. Мамочка с Папой-Колей, конечно, жадно ухватились за эту идею. Послали мое свидетельство поручику Алмазову на «Георгий», тот должен сделать копию и засвидетельствовать у судьи. А тот, т. е. Алмазов, уже две недели тянет с этим делом. Теперь мое отношение к этому: мне не хочется. Поступить в университет – это, конечно, цель, но не с этой осени: 1) Я не знаю языка, значит все равно год пропадет даром. 2) Я сама еще не знаю, к чему меня тянет. За год жизни в Париже, посещая Народный Университет, вращаясь, может быть, среди молодежи, я бы с большей уверенностью и желанием выбрала факультет, а не по указке родителей. Почему историко-филологический, а то и прямо – исторический? Ведь это было решено с тех пор, как я себя помню. Меня готовили к этому с самого дня рождения, и если бы мы были в Харькове, если бы все было по-старому, то я бы и поступила на курсы на историко-филологический факультет и была бы искренно довольна своей работой. Теперь, ввиду моих «склонностей к литературе», история отошла на задний план. А я так серьезно затрудняюсь в выборе факультета, даже смешно. И вернее всего, что выберу этот самый «фамильный». И 3) Мне хочется пожить в Париже, работать на фабрике и т. д. Мне это интересно. Что поделаешь, если я такая глупая, но мне этого больше всего хочется. Я ничего не боюсь, я буду рада всему, даже лишениям. Когда адмирал говорит, что «весной в Россию поедем», что там что-то такое готовится, так я совсем не так радуюсь, как другие. В Париж хочу! Мне кажется, что я начинаю отвыкать от России, может быть, это не так, так как в сущности я кроме России ничего не видела, а Сфаят – это только часть России, я отвыкла и от самой территории, если можно так сказать, а не от русских.
Недавно пришло письмо от Васи. Он пишет, что Нёня Богдановский очень серьезно болен, у него воспаление легких, страшно я боюсь за него, невольно вспоминается Платто. Больше – я почти уверена, что его нет в живых. Мне страшно даже писать об этом.
Между прочим, Вася пишет, что с «самого уезда (?) ни одного письма не получал». Этому можно поверить, т. к. все наши парижские адреса меняются неимоверно часто. Если он не врет – Бог даст, мое письмо не дошло, – я была бы так рада!
Сергей Сергеевич Девьер женился. Он уже давно писал об этом, и вот недавно женился окончательно. На все вопросы Мамочки и мои – русская она или француженка – не отвечает. Смешные были эти его письма ко мне: «Вы скажете: а как же Сфаят? Неужели все забыто?» «Да, это мои лучшие воспоминания, но жить прошлым так тяжело, я, наконец, решился». «Я не так просто решился на этот шаг» (цитирую приблизительно). Все ему казалось, что я его обвиняю, осуждаю, что мое письмо холодное, официальное – я разозлилась и послала ему ругательное письмо, не совсем ругательное, и вышло, что он получит его как раз в день свадьбы. Лучше, если бы он его не получил, уж очень оно резкое. Для такого-то дня. А странно мне представить, что он женат, имеет жену, любит ее (хотя после такого письма я в этом не совсем уверена), а я, может быть, встречусь с ней… Как-то это странно. Ведь он бы ничего не имел против, иметь женой меня… Я рада, что он женился, по крайней мере в Париже я буду избавлена от того, что было здесь.
Если мне когда-нибудь и льстило, что он за мной ухаживает, так ведь это уже давно и забыто. И стало смешным. Боже мой, ведь и Вася забыт. А воспоминание о Лисневском мне прямо противно! Да и любила ли я когда-нибудь, не Лисневского, конечно, об этом чучеле и говорить нельзя, а Васю? Ну, я вскочила на своего конька, а надо спать; пожалуй, так режима не выдержу. Как-нибудь напишу о том, как я думаю о Париже. Мне как-то чудно писать об этом, но, с другой стороны, только такой откровенностью я и сделаю интересным мой дневник…
Усиленная подготовка к «концерту». Спевки, сыгравки и т. д. Папа-Коля придумал такую штуку: мелодекламацию с цитрой. Выбрал одно из лучших стихотворений Ахматовой «Колыбельная» и подбирает мотив. И спрашивает Петра Александровича: «Ну вот кто там у вас хорошо читает?» – «Тыртов, Панкратович». – «Ну вот кто-нибудь из них и прочтет». Это Тыртов будет читать Ахматову? Своим чуть ли не басом «Колыбельную»? Мамочка говорит, что она бы взялась за это, а Папа-Коля убеждает, что это неудобно, что вечер «ученический». Неудобно! А Елизавету Сергеевну с Нюрой приглашают петь, Анну Брониславовну чуть не умоляют танцевать, а Ахматову давать Тыртову – что это – насмешка, шарж?!
Мне было вообще многое обидно. Я люблю Ахматову, и, конечно, я бы сама могла ее прочесть! Почему даже никому в голову не пришло это? Меня никто, даже Папа-Коля, не считает за настоящего человека, не допускает мое даже самое маленькое участие. Словно так и хочет выставить меня совершенной идиоткой, ни на что не способной. Может быть, это и мелочно, но мне обидно. И не хочется показывать виду, что обидно, и реву потихоньку.
Почтовый день. Мамочке и мне письмо от Нёни, из госпиталя. Слава Богу, поправляется. Как я рада, что предчувствие не сбылось. Письмо от Лели. И хорошее, и плохое. Нытик она, еще хуже меня. Я еще не писала, что получила на прошлой неделе письмо от Абрамович. Очень хорошее письмо, простое, не вычурное, этакое жизнерадостное… Она права, все хорошо, и Париж, и фабрика, и Сфаят, – все это жизнь, а жизнь хороша.
Следую «режиму», т. е. встаю на полтора часа раньше: вместо одиннадцатого часа в полдевятого. «Дела» себе никакого не нашла, да и не найду до мая. Вчера утром занималась французским и даже латинским, а сегодня – злая и расстроенная. Правда, «Колыбельную» будет декламировать Мамочка (сейчас Папа-Коля бренчит на цитре), и я этому рада, но мое участие, значит, устраняется окончательно. А уж если я здесь, где всего-то полтора человека, не могу быть полезной, так что же думать о Париже!? Там-то меня совсем затрут. Мне еще вот что обидно, я только сейчас себя на этом поймала: «Колыбельная» – мое любимое стихотворение, лучше его нет, а Мамочка как-то не видит, не понимает, что оно самое лучшее, читает его не так, как я, не оттеняет, по-моему, и будет теперь за работой машинально повторять его, перевирать слова, а ведь это молитва, больше молитвы. Мне просто «жалко». Сознаю, что это глупо, но мне «жалко». Конечно, она прочтет его хорошо, но лучше, если бы она его совсем не читала, ведь ей все равно – что. Жаль, что Папа-Коля уже написал аккомпанемент. Да, можно любить ревниво даже стихи!
День был замечательный, т. е. именно день сам по себе: прямо летний. И без того зима в этом году необыкновенная, а сегодня-то и совсем жарко было. Я даже в теннис играла. И уж чувствую, что теперь все остальное перестанет для меня существовать. Правда, нет Платто, нет Звенигородского, моих вечных компаньонов, но теннис – всегда теннис, а такая погода сама по себе поднимает настроение.
Мамочка пришла от Насоновых страшно взволнованная. «Никогда я больше туда не пойду!» Такая вещь: Мамочка дала Ел<изавете> Сергеевне номер газеты, где рассказ Минцлова «Тайна» (чудный рассказ); [353]353
Опубликован: ПН, 1925, 8 февраля, № 1470, с. 2.
[Закрыть]и Сергей Александрович бил себя в грудь, говорил, что он христианин, что это гадость, подлость, «в воскресном номере», «соглашение с жидами», «все это ерунда». «Я христианин, я вас прошу не приносить в мой дом таких книг». Мамочка взволновалась, а по-моему, волноваться не стоит, если люди настолько глупы, что не отличают легенды от догмата, – так о чем же здесь говорить! Мне даже нравится, что все здесь такие идиоты, как-то бодрее чувствуешь себя. Теперь Сергей Александрович со мной страшно сух, напр<имер>, после всенощной предупредил Нюру, что завтра обедня в 10, а мне – ни слова. Мне это тоже нравится. Не будь я такой тихой – была бы известна не менее своего отца. Мне и то кажется, что я закушу удила и буду открыто плевать на всех.
Вчера Мамочка пришла от Насоновых тоже страшно взволнованная. Дело было так: она рассказывала о статье Демидова, [354]354
Речь идет о статье: Демидов И. П.По поводу рассказа С. Минщтова «Тайна»(ПН, 1925,18 февраля,№ 1478,с. 2). Рассказ имел резонанс в кругах русской эмиграции. См. также: Мережковский Д. С.Вокруг «Тайны» С. Р. Минцлова (ПН, 1925, 26 февраля, № 1485); Одиннадцать Праведников. Вокруг «Тайны» С. Минцлова (ПН, 1925, 22 февраля, № 1482); И.Д<емидов> О С. Р. Минцлове (ПН, 1925, 13 декабря, № 2822, с. 3). Из воспоминаний митрополита Евлогия: «Когда в „Последних Новостях“ появился рассказ Минцлова „Тайна“, в котором разработана тема об Иуде-предателе в Евангельской трагедии, небезызвестная в богословии, в Церковном совете (Храма Св. Александра-Невского в Париже. – И.Н.)поднялась буря, и члена Совета, бывшего члена Государственной думы (кадета) И. П. Демидова, помощника редактора „Последних Новостей“, исключили как левого из состава Совета большинством голосов против одного – д-ра И. И. Манухина, выступившего с особым мнением в защиту Демидова и вскоре из протеста покинувшего Приходской совет. Мои усилия поднять в Совете интерес к более интенсивной церковно-приходской жизни, к запросам церковного народа ни к чему не привели. В заседаниях обсуждали бесплодные вопросы. […] Сколько речей, пикировок, жарких прений по поводу мелочей! Вскоре я убедился, что в отношении духовной организации церковного народа на Совет рассчитывать нечего» («Путь моей жизни», с. 376).
[Закрыть]о том, что русские дети в эмиграции забывают русский язык. На это Всеволод Новиков ей говорит: «А я своих детей так совсем не стану учить русскому языку, совсем это ни к чему». – «Так что же – отсюда вам один только шаг до подданства!» – «Конечно, как только уйду из Корпуса, сразу же приму подданство. Я это совершенно серьезно говорю. Все равно в Россию ни мы, ни наши дети не вернутся, и нужно нам забыть, что мы русские, и нужно это скрывать, иначе никуда не устроишься и т. д.» И это говорит один из тех дураков, которые носят погоны, говорит о дисциплине и воинской чести и собираются идти в Россию не то с Николаем Николаевичем, не то с Кириллом Владимировичем, [355]355
Речь идет о двух великих князьях, претендентах на Российский престол.
[Закрыть]где выгоднее. Кажется, будь это при мне и будь я немного взвинчена и возбуждена, я бы назвала его подлецом и сорвала бы с него погоны.
Елиз<авета> Сергеевна сейчас лежит, и мы с Наташей пели вдвоем. «Плавали», что поделаешь, а Сергей Александрович и Новиков все перемигивались и пересмеивались. Мне это неприятно, не хочется завтра идти. Все равно пойду, петь не буду и совсем лучше – я уйду из хора.
Вот черновик письма к Экку. [356]356
Черновик не обнаружен. Но в деле И. Н. Софиевой (БФРЗ, ф. 13, оп. 2, ед. хр. 3769) хранится «Заявление», в графе, «где находились и чем занимались с тех пор, как покинули Россию», она пишет: «[…] В 1925 г. приехала в Париж, работала (вышиванье, куклы). В 1926 г. поступила в Институт. В 1927 г. заболела диабетом и бросила работу. Продолжаю учиться» (там же, л. 1). Добавим, что Ирина занималась работой (вышиванье, шитье, вязание) до конца своих дней, т. к. зарплаты мужа даже на скромную жизнь не хватало.
[Закрыть]Такие письма еще хуже писать, чем письма в редакцию.
Получила письмо от Нёни, Мамочка – от Васи. Написала письмо Наташа. Вот и все. И хочется спать. Писала про Насоновых и опять разозлилась. На днях опять, при Мамочке, Сергей Александрович орал на Петра Александровича, что тот не отдал ему 2 фр<анка> 50 с<ентов>. Петр Александрович принес свою расходную книжку: «Нет, вы врете, вы заматываете» и т. д. Мамочка опять пришла сама не своя. Боже, что за люди!
Сейчас я ни с того ни с сего задумалась о звездных пространствах и вспомнила космографию, и вспомнила в первый раз с очень теплым, хорошим чувством, словно родную: и толстую Димину тетрадь, и аккуратные чертежи и т. д. Сам Дима в белом, с перевязанными руками (он упал с велосипеда), а дверь раскрыта, и там – солнечные дали и вообще много-много солнца, и велосипед, и много хорошего. Ведь была весна.
Сегодня получила письмо от Экка. Конечно, отказ. Это бы еще ничего, все равно без знания языка (да еще 1/3 курса читается по-фламандски) мне было бы трудно справиться с работой. Скверно то, что без знания латинского и греческого меня все равно никуда не примут. И что теперь делать – не знаю. Не могу предположить. Ничего не понимаю. Вообще у нас теперь так страшно говорят о Париже, что я стала бояться этих разговоров. Будущего боятся все – отчего же я его не боюсь?
Я себя не нашла. Я живу или собираюсь жить по указке. Я ничего не люблю, кроме стихов вплоть до самой косности их. Еще люблю природу, тоску и больше всего – солнце. Меня никуда не тянет. Я даже не могла выбрать факультета. Я не боюсь завода, а университета боялась бы. «Хочу» – по инерции и назло Сфаяту. Я ничего не хочу, кроме – путешествовать и изучать языки. У меня в жизни и в душе – ничего нет. Чем я могу заменить все это?
А что происходит кругом?
Монастырев, командир «Утки» и редактор «Морского сборника», [357]357
Бизертинский «Морской сборник» – первый русский зарубежный морской журнал – выходил в 1921–1923 гт. тиражом несколько сот экземпляров. Основателем и редактором его стал командир подлодки «Утка», капитан II ранга Нестор Александрович Монастырев. Тираж изготавливался в литографии Морского корпуса, находившейся в форте Джебель Кебир. Всего вышло 26 номеров журнала, представляющих чрезвычайный интерес, т. к. многие материалы, связанные с историей Русской эскадры, сохранились лишь на его страницах: документы о гражданской войне, статьи по военно-морской теории и технике, статьи политического характера, стихи и проза русских изгнанников и, конечно, хроника жизни Русской эскадры (см. «Бизертинский „Морской сборник“ 1921–1923: Указатель статей. Биографии авторов» / Сост. В. В. Лобыцын. – М.: Российский Фонд Культуры, 2000).
[Закрыть]принял французское подданство. И к этому все относятся спокойно. Касауров и Булатов в Сфаксе украли велосипед и в Тунисе продали его. Крюковской работает aide géomètre’ом [358]358
Помощник топографа (фр.).
[Закрыть]около Загуана, проводит дорогу и берет с арабов взятки. Вообще много гадости делается на свете!







