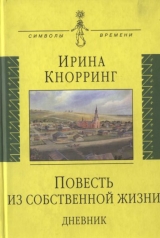
Текст книги "Повесть из собственной жизни. Дневник. Том 1"
Автор книги: Ирина Кнорринг
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 58 страниц)
Не в замученный, полуразрушенный Харьков я хочу вернуться, а в такой, каким я его покинула, чтобы громкое «Чайковская, 16», не произносилось с трепетом и позором, чтобы не на виселице увидела я тех, кого так страстно хочу я видеть, и не в морозную ночь, а в ликующий майский день. О Боже, это только мечта, она не сбудется! Слишком это хорошо для мира! Мир полон страданий, разочарований, печалей, люди не умеют жить. О, если б кто-нибудь открыл тайну жизни, для чего она дана людям, какая ее цель!
Ну и мерзкий же город этот Симферополь! Пылища такая, что не дай Бог! Совершенно без зелени, садов нет, один раскаленный камень. Городишко маленький, и мне, привыкшей по Харькову, к большим расстояниям, пройти его весь – ничего не стоит. Мы живем на самой окраине, в «уезде». Кварталом ниже нас проходит линия железной дороги, а за нею степь. В степи еврейское кладбище, у стены которого расстреливают. Вокруг Симферополя тянутся небольшие горы. С начала Бетлинговской виден южный берег, ясно виднеется Чатырдаг и другие высокие горы. Недалеко от нас, на нашей же улице, есть мечеть, такая прелестная, квадратная, маленькая, с очаровательным минаретом, такая изящная, славная! Говорят, что в 9 часов утра и вечером с минарета кричит мулла, но мне так и не удалось это слышать. Вообще, скверный город!
Сегодня мы уговорились сойтись в городской столовой к двум часам. Мамочка пошла на свою временную службу, [107]107
Речь идет о работе М. В. Кнорринг в Отделе народного образования, где она разбирала архив Харьковского учебного округа.
[Закрыть]а Папа-Коля – в редакцию. [108]108
Н. Н. Кнорринг был секретарем газеты «Земля», органа Ген. штаба армии Врангеля.
[Закрыть]Часов дома не оставалось. Я встала поздно и читала Оскара Уайльда. Только что кончила чудесную «Балладу Редингтонской тюрьмы», как вспомнила, что пора идти. У Забниных на часах половина первого. Я думала, что у них часы по-старому (стрелки переведены на час вперед), и решила пойти, а жара невыносимая, пыль столбом и невозможный ветер.
В (городской. – И. Н.)столовой, конечно, наших еще никого не было. Пошла домой. Посидела минут десять и опять пошла. А в столовой самое интересное. Там (прежде. – И.Н.)собирались мы, Олейников, Владимирский со своим приятелем, которого здесь случайно встретил, и Донников, когда был здоров. Папа-Коля приносил из редакции самые свежие новости, а другие – всевозможные слухи. Часто вмешиваются в разговор и посторонние, большею частью такие же беженцы.
После обеда проводили Мамочку опять на ее службу, погуляли в каком-то саду. И опять – дома, в нашем маленьком чуланчике. Газетчик кричит: «Теле-грамма! Теле-грамма! Занятие нами Одессы!» Ну уж это что-то враньем пахнет.
А мои золотые часы все еще лежат в комиссионной конторе. А меня все еще мучают мысли о Колчаке. Он был предан чехо-словаками, предан! Могли предать такого человека. И кто же!? Я читала подробности его предательства, и в этот миг он мне казался близким, чуть ли не родным. Пусть гибнут люди, мне не жаль их, ненужных, ничтожных жизней, но погубить такого человека – это безумие. Проклятие, еще раз проклятие большевикам! Пусть тысячи, миллионы тысяч поплатятся за его жизнь своею кровью!!! Да будут прокляты и все чехо-словаки, и вся Сибирь, этот грустный край, погубивший двух, [109]109
Речь идет о кузене Ирины – Игоре Кнорринге, и об адмирале А. В. Колчаке.
[Закрыть]а вероятно и больше, бесконечно любимых людей. Сибирь – страшный край, не хочу больше о ней ни слышать, ни думать. Я так ясно представила себе Колчака в последние дни, когда он уезжал из Иркутска через станции, занятые восставшими, в группе солдат, дружески разговаривая с ними, и когда на одной из станций под Иркутском был предан и выдан большевикам; я словно переживала этот момент, эту злость его и его возмущение. «Значит, меня предали»… Нет, я не могу выразить того, что хочу. Нет слов, чтобы выразить, как на меня подействовала эта фраза почему-то. Я так ярко почувствовала то, что он переживал в этот момент… Нет, бесполезно это выразить словами.
Вот мои главные желания, без которых мне жизнь не в радость:
I. Победа Добрармии – похоже на то, что это исполнится.
II. Возвращение в Харьков – несомненно при всяких условиях.
III. Всех застать живыми – ходят слухи, что в Харькове сильные расстрелы.
IV. Квартиру (увидеть. – И.Н.)целой – никак не исполнимо.
V. Жить в Харькове – смотря как у Папы-Коли будут дела с гимназией.
VI. Гливенки тоже (их увидеть – тоже никак не исполнимо. – И.Н.) – собираются, как только можно будет ехать, в Петроград.
VII Догнать класс – несомненно.
Лихим безвременьем обвеяна,
Неисчислимых бед полна,
Ты вся костьми сынов усеяна,
Страданьем гордая страна…
Я думаю, когда Богданов писал эти стихи, он не думал, что Россия будет когда-нибудь в таком жалком состоянии. Не думал он, что Великая Русь, второе государство в мире, будет в Крыму; только в Крыму вся единая, великая, неделимая нашла себе убежище. Куда же девались ее богатые окраины? Финляндия, Польша, Грузия, какой-то Азербайджан… Украина бунтует, казаки хотят отделиться, и вся Великая Россия занята Совдепией, где первенствуют евреи. [110]110
И. Кнорринг имеет в виду национальный состав (в процентном отношении) органов советской власти – ЦК РКП(б), Совета народных комиссаров, Наркомата по делам армии и флота. Наркомата иностранных дел, Наркомата внутренних дел, Наркомата юстиции, Наркомата образования, Коллегии ВЧК и др.
[Закрыть]Где же ты, о Русь? Нет в России уголка, где бы не было войны. На Дальнем Востоке Япония воюет, на Западе – Польша, на юге – Добрармия, и на севере – восстания. Едва ли когда-нибудь она будет вторым государством в мире! Если только Врангель выведет Русь из такого положения, то он, право, молодец!
Это не долго, одно короткое мгновение, так же, как в Туапсе было бы не долго, гуляя на молу, броситься в море. Стоит только пересилить себя и… жизнь переменится. Стоит только навсегда отказаться от всего, быть может, даже – таланта, т. е. не написать больше ни одной строки стихотворения, это лучше, чем впоследствии писать тысячи таких, какие пишутся теперь, особенно женщинами. Стихи мне всегда были утешением, мне было приятно, что я смогу что-то написать, но легче бросить теперь, чем после. Я даже теперь чувствую, что стихи были в некотором роде мое призвание, и не писать их мне даже как-то странно. Только благодаря им я чувствовала себя не совсем такой, как другие. Я не гордилась ими. Может быть, гордость таилась где-то там, в глубине души, когда я одна наслаждалась моими, еще никому не известными стихами. А теперь не буду. Ведь живут же все бесталанные люди, и у каждого из них есть свои призвания. Буду такая же и я. Откажусь. Ведь у Деникина хватило же мужества отказаться от власти, хватит и у меня – от стихов. Брошу, это только одно мгновение, отказаться от них раз и навсегда, и только; просто и ясно. Так же просто, как отказаться от той жизни, которую я вела с осени девятнадцатого года до ноября. Именно к такой жизни я стремилась за последние годы в Покровской (гимназии. – И.Н.),тогда я почувствовала счастье, когда на совести не было упрека. Я думала, что счастье именно в этом. Теперь мне пришлось отказаться от этой мысли, и это очень просто. Я мирилась с мыслью, что в России будет большевизм, и хоть это было тяжело, но я все-таки смогла примириться: я относилась к этому эгоистичнее. Теперь же, когда я должна отказаться от того, что я так любила, я стала патриотичнее. Коротко и ясно. Свой альбом со стихами я, пожалуй, не уничтожу, оставлю его на память о детском увлечении, но запрячу его далеко-далеко, чтобы забыть о них. Одну минутку, и с ними будет все порвано. Конечно, это грустно, это тоже трагедия, но зачем я должна быть не такая, как большинство? Благоразумие мне подсказывает, что я еще очень мало приношу жертв, а главное, от них никому не легче, но я с этим, конечно, не соглашаюсь. Быть может, я стремилась к славе, и воображение уносило меня слишком далеко; а не давать ему больше пищи, это – жертва. Я убедилась, что все люди стремятся к славе и что они все большие подлецы, есть исключения, но я едва ли к ним принадлежу. Что еще из меня выйдет – неизвестно. Вероятно, я пойду на преступление, на гадости и кончу жизнь где-нибудь под забором или на виселице. Ведь люди не умеют жить! Черный Крест мне укажет дорогу, и я принесу ему в жертву прошлое. Жизнь – обман. Во всяком случае, я буду жить или умру, во лжи или в правде, это все равно. Я теперь буду с дневником откровеннее, буду заглядывать в самые тайники моего сердца. Я буду писать совсем откровенно, переломлю свою гордость – не для дневника, а для Черного Креста. Я никогда не буду прочитывать написанное, а перечту дневник много лет спустя, когда пойму жизнь. Она для меня загадка, и мне ясно, что она и для всех загадка. Как жить – это вопрос для всех.
Вчера я весь день была занята своим новым стихотворением. Решила в последний раз попытаться. Все переделывала, сокращала, добавляла. Вышла дрянь. Но все-таки я подумала, что не будет преступлением, если я еще напишу. Читать я его никому не стану, пускай все думают, что я их бросила. Но вот что странно: раньше мне нравились мои стихи, когда я еще их никому не читала. Прочитанное – мне оно уже не нравилось. А теперь, наоборот, мои старые стихи мне нравятся гораздо больше, чем последние. Мое единственное стихотворение, написанное в Славянске, вроде «Траурного марша», «Исчезни мрачное сомненье», – гораздо лучше последнего, а тема почти одна и та же, по крайней мере я так хотела. Теперь хочу написать «Траурный марш» вроде Славянского, только сильнее. Размер в том прекрасный, как раз для марша, куплет в пять строчек; и заканчивается первым куплетом, только с некоторым изменением, и это я тоже люблю. Я и думаю написать по образцу того, хотелось бы писать под какой-нибудь марш, чтобы навеять на себя такие настроения, что подскажет не разум, а музыка. Жаль, что здесь нельзя услышать Шопена, его марш сюда бы очень подошел.
Сейчас мы пойдем на кладбище. Вчера сторож должен был расчистить могилу и посадить тую. Против обыкновения я с удовольствием пойду туда. Хотя терпеть не могу всякие кладбища; в Харькове даже к брату не ходила, но здесь почему-то меня тянет. Не потому что настроение скверное (оно, наоборот, приподнялось).
Занималась с Мамочкой (соседка дает книги) вяло и скучно.
Ну, слава Богу, кажется, все хорошо. У большевиков дела не очень-то ладны. У них ходят всего только два поезда из Харькова в Москву, а из Харькова на юг только раз в неделю. Благодаря этому у них в городах совершенно нет ни угля, ни продовольствия. В Харькове фунт соли стоит несколько тысяч, а хлеб 1000 рублей. Безумие и ужас. Но зато они бьют тревогу. Польша занимает всю правобережную Украину. Под Киевом взято в плен 25 тысяч, и вообще на западном фронте большевики несут большие поражения. Дальше действует Петлюра, Махно и еще пятнадцать каких-то атаманов. Япония объявила войну большевикам и дошла уже до Байкала. На Украине сильные восстания. Наконец, на днях начнется наступление с Таврического фронта. Весной всегда у добровольцев победа, в этом даже и сами большевики признаются. Врангель сказал, что к июню, а может быть, и раньше, он будет на Украине. Дай Бог, чтобы Донников выиграл свое пари. Я верила в него как некогда в слова Пиневича, что к апрелю мы будем в Харькове. Верила потому, что если Центро-Страх, [111]111
Центро-Страх– прозвище Пиневича.
[Закрыть]такой пессимист, паникер, мог так говорить, значит, это так. Остается только благодарить Бога, что мы не остались в Майкопе с нашим вагоном и не остались в Туапсе и что жизнь наша осталась целой. А она в Туапсе, при большевиках, была в опасности: глупая Харьковская пропаганда [112]112
Харьковское отделение Отдела пропаганды Особого совещания при Главнокомандующем ВСЮР (его архив также разбирала М. В. Кнорринг).
[Закрыть]привезла в Туапсе все свои дела и, между прочим, книжку с фамилиями всех своих служащих. А в последнюю минуту Пиневич, очевидно, так нервничал, что кроме старых документов ничего не трогал. Сам он страшно боялся, говорил, что его жизнь находится в крайней опасности, жил под именем Пиевского; кроме того, у него был документ на имя Сахарова и еще чей-то паспорт. А эта книжка была сожжена, но уже при большевиках. Затем Мамочка, когда служила у них в отделе народного образования, работала за столом Харьковской пропаганды. Случайно открыла тумбу – и что же она там видит. Огромная кипа бумаг с фамилиями и адресами всех служащих. Она там нашла много знакомых харьковцев. Там наших служило трое: Мамочка, Олейников и еще один – сторожем, Решетников. Так они потихоньку таскали, таскали эти бумаги и в Тургеневском сжигали. Ну уж если бы только большевики добрались до них, то несдобровать харьковцам – кто из них не был в ОСВАГе.
Антон Матвеевич поправляется. Кризис у него был на 17-й день. Это очень редкий случай, и редко кто доживает до этого. Ядвига Матвеевна опять повеселела и ожила. «Тося жив, Тося поправляется»… И потом она была очень ошеломлена всеми новостями, которые происходили во время болезни А<нтона> М<атвеевича>, о которых она не имела представления; прямо прыгает от радости.
Ну вот я и кончаю мой дневник, мой первый дневник. Три года тому назад я начала его, полная дикого стремления, думая, что это будет «Повесть из собственной жизни». И теперь кончаю, наученная горьким опытом. Я узнала себя. Три года! Как это кажется давно. Сколько произошло за эти короткие три года. Разве, начиная этот дневник, я думала, что когда-нибудь дойду до такого состояния, что буду серьезно думать о самоубийстве, что столько придется страдать, так искренно буду жаждать войны, так глубоко ненавидеть, называть людей подлецами и негодяями и радоваться, когда их все больше и больше вздергивают на столб! «Ужасный век, ужасные сердца!» [113]113
Заключительные строки драматической сцены А. С. Пушкина «Скупой рыцарь» (1830), позднее вошла в «Маленькие трагедии».
[Закрыть]
Кончаю. Прощай, дневник!
Тетрадь IIНачата 1 (14) мая 1920 г. – кончена 21 января / 3 февраля 1921 г.
Мой адрес:
Симферополь. Бетлинговская ул., № 43, кв. 3.
Семинарский пер., № 4.
Училищная ул., № 10, кв. 6.
Севастополь. Морской Корпус
«Генерал Алексеев»
«Константин». II класс, каюта № 8
«Кронштадт». Мастерские
Bizerte. Sfaiat. L’École Navale russe [114]114
Бизерта. Сфаят. Русский морской корпус (фр.).
[Закрыть]
Начинаю свой дневник. Я мечтаю только об одном, чтобы в нем не было столько пессимизма, как в первом. Я надеюсь, что с ним я буду делиться только радостью неожиданных событий. Ах, если бы только скорей в Харьков, и чтобы всё, всё, всё было по-старому. Если бы полгода нашего беженства прошли как сон и не оставили следа.
Сегодня почему-то, когда я встала, никого не было дома. Папа-Коля у себя в редакции, а Мамочка – неизвестно где. Так что я с самого утра села за дневник. Настроение у меня бодрое и веселое, солнце светит, небо чистое, жара непомерная, и хорошо! Как-то жизнь прельщает. Я не думаю о том, что надо будет учить географию (Россию несуществующую), что придется идти в городскую столовую, есть изо дня вдень пшенную кашу; я думаю только о том, что я скоро, может быть, очень скоро, буду в Харькове и, если не увижу всего того, что хочу видеть, то, по крайней мере, одну Таню. А что может быть приятнее, как провести с ней, в каком-нибудь укромном месте, несколько часов!
Мамочка пришла, и мы сейчас будем проходить «климат России», где сказано, что самый хороший климат на Черноморском побережье Кавказа, а я, прожившая там зиму, говорю, что это самый скверный климат на земном шаре!
Как я люблю, когда никого нет дома! Делай что хочешь, и никто об этом не узнает. Ах, если бы в Харькове у меня была по-прежнему своя комната! Несбыточная мечта! И там мы будем также ютиться по комнатам, где не почувствуешь себя самостоятельным человеком. Нельзя ни кричать, ни шуметь, ни приходить поздно! Здесь даже я не могу лечь спать, когда хочется: если слишком рано – неудобно, в той комнате могут сидеть; если слишком поздно – тоже нельзя, потому что приходится проходить через спальню Забниных. Хочешь что-нибудь сварить – жди, когда у них мангал освободится; самовар ставь, когда они не пьют. Забнины очень славные люди, но жить у них это не то, что у себя в квартире! Очень стеснительная такая жизнь. И не предвидится ей конца…
Что-то сейчас в Харькове? Быть может, ничего особенного, и скоро прекратится такая жизнь, а может быть, там произошло что-то такое ужасное, после чего и думать о нем не захочется, а не то что жить там! Да, может произойти много печального со времени нашего отъезда из Харькова. А так хочется застать свою квартиру целой, и всех знакомых живыми! Так хочется попить вечером чай в уютной столовой, всем вместе из настоящих стаканов, а не из наших жестянок и т. д. Я помню, когда мы с Мамочкой ночевали первую ночь в Керчи у инспектора городского училища, мы были поражены: большие, чистые комнаты, столы, стулья, кровати, статуэтки, картины, занавески на окнах, на столе самовар, стаканы, вазы, висячая лампа, – это нам показалось так необычайно после Туапсе, где мы ничего не видели, кроме грязных стен и громоздких парт. И так это было приятно, что мы находимся в человеческой обстановке, что хоть сколько-нибудь чувствуешь себя человеком! Но мы только тогда почувствуем себя людьми, когда перестанем называться «беженцами». В этом слове заключается какой-то яд, оно позорно и унизительно. Всеми оно произносится с остервенением и злобой, все их ругают, во всем их винят! Кто не был беженцем, тот не поймет, как тяжело носить это имя!
Сегодня вечером мы идем в театр. Сюда приехал наш знакомый артист Ильин, он достает нам контрамарки.
Приятель Владимирского, Каменев, приехавший из Батума, рассказывал, что там делается. Англичан ненавидят (так им и надо!). Власть английская, строгая. После одиннадцати часов никто не может выйти на улицу под страхом смертной казни. А казак упрям, он непременно выйдет, когда нельзя. Однажды один терец поздно вечером напился пьян и стал бить англичан. Те подошли к нему со своими стеками и хотели его арестовать. Он драться. Тогда англичане приступили к нему по правилам своего бокса, да пока принимали позы, он одному в шею, другому в ухо, пятерых уложил, остальные разбежались. Молодец, страсть люблю, когда бьют англичан! Народ они корректный, холодный и противный! Вчера были в театре. Был водевиль, оперетка и танцы. Танцы прошли прекрасно, лучше всего! Восторг! Особенно «вальс», так называемый «Он и она» и «Итальянский нищий» на фоне старинных дворцов, при красном свете. Сегодня опять пойдем, только в летний театр. Положительно все люди с ума посходили: есть нечего, а в театр идем. У кого-то завтра занимать будем?.. Вчера еще прекрасно пел Сибиряков, особенно арию из «Фауста». Еще недурно в оперетке пел еврей арию: «Кто первый спекулянт, кто главный комиссар, кто пишет там статьи и фельетоны» и т. д. и после каждой строчки с достоинством произносит: «Еврей», и каждый куплет доканчивает словами: «Евреи повсюду нужны»…
Вчера были в городском саду, в театре. В первом отделении шел «Превосходительный тесть». [116]116
Одноактная комедия А. Морозова.
[Закрыть]Великолепно играл самого «тестя», [117]117
Фамилия артиста в тексте отсутствует.
[Закрыть]очень хорошо, а остальные довольно скверно. Во втором отделении сначала пела одна цыганские романсы, у нее великолепный голос, и пела она очень красиво. Потом мелодекламировал Ашаров – отвратительно, а под конец Марадудина говорила юмористические рассказы Тэффи, Ядова и, кажется, свои. [118]118
Сведений о том, что М. Марадудина писала рассказы, не обнаружено. По всей видимости, это были рассказы А. Т. Аверченко, в моноспектаклях которого она много участвовала.
[Закрыть]Говорила превосходно. Особенно понравилось «Новое племя» – о нас, беженцах, которых она называла «покачтоки», потому что у них, действительно, все делается «пока что». Она рассказывала о том, как они странствовали, как живут, как одеваются и чем отличаются от остальных. Сама она такая веселая, живая, и так живо передавала все это, что весь театр буквально покатывался со смеху. Хорошо еще говорила о том, как «жидочки-спекулянты» ехали на Украину. Она пользовалась колоссальным успехом.
Каменева и Донникова зовут «Фараоновы коровы» [119]119
Библия повествует: одному из египетских фараонов приснился странный сон: он увидел семь тучных коров и семь тощих. Тощие коровы съели тучных, но от этого ничуть не потолстели. Иосиф так растолковал вещий сон: семь лет в Египте будет урожай, а следующие семь – голод (Быт 41:1–4). «Фараоновы тощие коровы» стали символом людей, которым ничто не идет впрок, а также – положения, не исправимого ни при какой затрате средств и усилий.
[Закрыть]: один человек, как человек, а Александр Васильевич тощий, как щепка, но аппетиты у обоих грандиознейшие. Хотя в таком случае все обедающие в городской столовой должны называться «Фараоновыми коровами».
Каменев рассказывал: идут в Батуме по улицам казаки строем, пешие. «Что это такое?» – спрашивает он. – «Кавалерийский полк проходит!»… Комедия, кавалерия без лошадей!
Сегодня в городе встретила похороны корниловца. Гроб раскрашен, как и погоны, в красный и черный цвет. За гробом идут музыканты, корниловцы, пешие и конные… Лошадь его, должно быть, самое близкое существо. Помню, когда мы уже сидели на палубе «Дооба», грузились казаки. Вот приезжает казак к пристани, слезает с лошади и, перекрестив ее, пускает на все четыре стороны. Грустное, трогательное прощание!..







