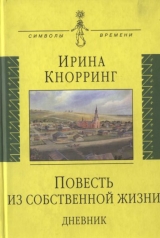
Текст книги "Повесть из собственной жизни. Дневник. Том 1"
Автор книги: Ирина Кнорринг
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 48 (всего у книги 58 страниц)
Вчерашний день – есть что записать.
Во-первых, пришла я днем к Шурёнке Марковой. Девочка прихварывает. Ник<олая> Македоновича нет дома, а ей должно быть страшно тоскливо, без мамы. Пошла к ней. У нее сидит Коля Завалишин и рисует ей бумажных кукол, сначала было весело, я всячески старалась развлечь Шурёнку, балагурила, шутила с Колей, потом Коля разошелся, начал по обыкновению дурить, перебирать все вещи, приставать с насмешками ко мне и Шуре. Шурёна рассердилась: «Я пойду и скажу Александре Михайловне», и вышла. Я сидела на кровати. Он подошел ко мне, взял меня за плечи, с перекошенным страшным лицом и блестящими глазами, повалил меня на кровать и начал целовать. Я пробовала сопротивляться – куда, ведь он сильнее меня. Мне казалось, что я могу его убить, но я только дала ему в физиономию. Не помню, как пришла Шурёнка и что потом было, я сознавала только, что меня оскорбили и оскорбили жестоко. Я сейчас же ушла и рассказала все Мамочке. Какое волнение поднялось дома, так и передать нельзя. Кончилось тем, что Мамочка вызвала Александру Михайловну и поговорила с ней, а Папа-Коля видел Колю. Тот не отпирался, был очень смущен: «Я… я не соображал». – «Ну, а что бы вы сказали на моем месте?» – «Я бы сказал, что я подлец!» – «Вот это я вам и говорю», и посоветовал ему написать мне письмо. На этом дело и кончилось. Но как странно: когда в прошлом году Сергей Сергеевич мне поцеловал руку, я не могла ему так ответить, а только страшно волновалась, и это волнение продолжалось несколько дней, а теперь после этой безобразной сцены я успокоилась гораздо скорее Мамочки. Как-то чувства притупляются, а может быть, и нравственность.
А вечером были в театре. Сюда приехал русский бродячий театр «Золотой Петушок». [343]343
Театр был основан А. И. Долиновым в 1923 г.
[Закрыть]Ставили миниатюры, шаржи, очень изящно, ну, словом, – великолепно! Хорошие голоса, красивая постановка, стильно, изящные костюмы, ну – восторг! С громадным удовольствием пошла бы и сегодня, подбивала молодежь, да с этой публикой каши не сваришь, то «занят», то «некогда», то «дождь», то «посмотрим». Кажется, все-таки несколько гардемарин собираются, я думаю, что Щуров мне скажет, а не скажет, так это будет свинство.
Вчера ходила со Щуровым в театр. Встретили там Васю Чернитенко, он тоже во второй раз. Сначала он влез на балкон с другой стороны, потом увидел нас, раскланялся и пришел на нашу сторону. С ним были два русских: один Касуленко, другого я не знаю; и жена этого другого, против ожидания, очень милая, молоденькая и веселая. Вася тоже был веселый, все звал меня остаться у него ночевать, а не идти по дождю. Компанией я была вполне довольна, но каков же был мой ужас, когда за своей спиной я увидела самого Завалишина и Колю. Но все обошлось благополучно; мы до самого конца не узнали друг друга. Как только зажигали свет, я поворачивалась к нему спиной и начинала говорить с Васей.
Несколько номеров было превосходных. Больше всего мне понравились «Уличный певец», «Cadrille Russe» [344]344
«Русская кадриль» (фр.).
[Закрыть], «Danse moderne» [345]345
«Современный танец» (фр.).
[Закрыть], «Vous dansez, marquise» [346]346
«Потанцуем, маркиза» (фр.).
[Закрыть]. Два последних номера были удивительно изящны. «Русская кадриль» – парни и девки с припевами по-русски, лубочно и очень стильно. А «Уличный певец» сначала смешно, весь театр хохочет, а под конец, когда девочка в унизительной позе, с молящими глазами протягивает руку с шапкой, шарманка затихает, старуха со стариком тоже протягивают руки и застывают живой картиной, весь театр замирает в каком-то оцепенении. Сильная картина. Выполнено художественно, и эта сцена прямо потрясла меня. Очень хорошо еще Ира Казим пела русского «Соловья».
От Васи все нет писем. [347]347
Речь идет о братьях Доманских.
[Закрыть]Даже не писал – в Довилле он или вернулся в Париж. Я уже беспокоюсь, не случилось ли с ним чего. Он должен был писать, ведь последнее время он полюбил всех нас, а писать-то уж обещал. Володя тоже не пишет.
С прошлой почтой было письмо от Васи. Он в Париже, живет в «Hôtel S teGeneviève», где и все. Сидит без работы, что-то будто и наклевывается, но он сомневается. Столяров его устроить не мог в Довилле, так как он не знает языка. Что-то странно и не совсем понятно. Доволен хоть тем, что живет с товарищами.
С прошлой почтой получила письмо из Ростова от некой Валентины Александровны Абрамович. Она слышала обо мне от Наташи, у нее узнала адрес и написала весьма вычурное письмо. Ничего. Это с первоначалу так. Завтра отошлю ей ответ.
С той же почтой получила две открытки от Мимы. Мамочка чего-то недовольна: «Вихлястое какое-то письмо», «как-то и отвечать не хочется». Но письмо, как и все его письма; я ему ответила в таком же духе и тоже открыткой. Давно я ждала его письма. Он всегда так, и когда был кадетом: редко заходил, мало говорил, а как попадал в лазарет или в карцер, так прямо заваливал письмами. Я была уверена, что он напишет из Туниса.
И Миме, и Абрамович я ответила. Осталось только написать Васе. И не могу. Как-то не могу найти ту линию, которую можно было бы проводить в письмах. Что я ему напишу? Я никогда не ставлю себе этого вопроса, когда пишу, напр<имер>, Миме, даже Шуре Петрашевичу, а тут почему-то сильно затрудняюсь. Ну что я ему напишу? У нас давно уже не было темы для разговора. И никак не подберешь тут искусственного тона: он слишком сильно бросится в глаза, ведь мы знаем друг друга без масок.
Вот и написала во вторник вечером. Долго думала и написала прямо, что мне трудно писать ему, что у нас не было определенных отношений, и прямо поставила ему вопрос: что я для него? Девчонка, которую он так игнорировал в последнее время, или человек, к которому он может относиться с уважением. Представляю, как он будет реагировать: наморщится, выругается, поднимет брови и буркнет: «Вот же, действительно», это я тоже ему написала. Высказала вообще все, что ни за что не сказала бы. Потом долго колебалась, посылать или нет. Раздумывала и колебалась очень долго, до тех пор пока не отнесла письмо Леммлейну. Пока еще не жалею, но боюсь, что придется пожалеть. Весь день вчера по этому поводу было кислое настроение. Вечером немножко разошлось. Во-первых, получила письмо от Петрашевича, а во-вторых – опять после двух лет пошла на спевку.
Положение Корпуса до сих пор не выяснено, хоть, по-видимому, до весны мы просуществуем. Не знаю – радоваться или нет? Конечно, ехать зимой очень и очень скверно и безнадежно, но, с другой стороны, ждать еще пять месяцев – я не знаю, как их переживу. И так тихо идет время и ничем-то его не заполнишь. Ну, вот я опять расхандрилась. Когда с Папой-Колей ходила гулять – такая хорошая погода, тепло, ярко, солнышко, цветы и так хорошо и просто было на душе, а теперь, как услышала, что сейчас только 2 ½ часа, так все насмарку пошло. Боже, как безнадежно тянется время!
Сегодня годовщина того дня, когда все «началось». Мне хочется сказать словами Ахматовой:
«Я этот день люблю и праздную».
И в самом деле, я его люблю. Только с этого дня началось и другое: разлад в семье. Сегодня мы опять поссорились с Мамочкой, конечно, из-за пустяка, и опять я почувствовала, что становлюсь все дальше, все больше и больше чужой. Вася тут был ни при чем, а только толчком. Ну да это все равно. Итак, я этот день все еще люблю и по-своему праздную.
Написала сегодня одно глупейшее стихотворение и его вариант, из «нецензурных». Если бы они были настоящие, т. е. искренние, я бы написала их просто в дневнике, а так как они уж слишком вымышлены, то я долго не знала, куда их сунуть. Такой папки у меня еще не существует. Мотив такой: через полгода в Париже я встретилась с Васей и опять полюбила его (это мои глупые и вредные мысли). А сами стихи мне все-таки нравятся.
Бери меня, целуй, замучай!
Смотри в глаза, смотри смелей!
О, позабудь тот странный случай
Уже давно минувших дней.
Раздень меня, что хочешь делай!
Я для тебя добра и зла,
Я Душу вырвала, из тела,
Безумьем совесть залила.
Лишь полюби меня раздетой,
Униженной и смятой тут.
А после не глумись над этой,
Над самой лучшей из минут.
(Вариант)
Бери меня. Целуй. Замучай.
Истомой пряной напои.
Ты не забыл тот странный случай
И слёзы тихие мои?
Хочу греха. Тебя хочу я,
Ведь в жизни скучно и темно.
Душа в тоске и поцелуях
Уж явно просится на дно.
Люби меня. Дай муки грешной.
Любовь – жестокая борьба.
И вот опять скользит насмешка
На плотно сдавленных губах.
Зачем? Неужто терпкой мукой
Ты снова напоишь меня,
Что вечно помнила в разлуке
Неяркий свет седого дня.
Встречали Новый Год втроем и, кажется, одни во всем Сфаяте. У нас на этот раз был не традиционный глинтвейн, а бутылка шампанского, и не сосиски, а свиные котлеты. Еле дотянули до двенадцати и скисли. Я хоть никогда не ложусь раньше, а тут, как назло, спать захотелось. Чокнулись, расцеловались, и почему-то сделалось страшно грустно. Невозможно грустно! Сегодня никакого праздничного настроения, хотя и говорю, что самый большой праздник в году – это Новый Год и день рожденья. Весь день проболталась без дела, и так и не собралась написать письмо Миме.
Папа-Коля хандрит. Новиков сегодня показал ему новый подбородник на скрипку, и он совсем расстроился, уж очень хочется ему купить скрипку. Я всячески уговариваю его съездить в Тунис и купить, Мамочка тоже, хотя, по-моему, она не совсем этому сочувствует. А я бы, кажется, не знаю от чего отказалась, только бы у Папы-Коли была скрипка. А он страшно хандрит. Пишет дневник, как сам говорит – «все о смерти», и только настраивает себя на такой лад. Ужасно мне жалко его. Ему страшнее думать о будущем, чем мне.
А пока я о будущем не думаю. Что будет, то – будет!
Поэтические ранги
1) Талантливый ребенок. Ребенок, который пишет стишки. Число таких поэтов бесконечно.
х = n.
2) Подающий надежды. Юноша, кое-кому читающий свои стихи.
х = n = а.
3) Начинающий поэт. Тот, чьи стихи появляются в журналах. х = n – (а + b) = n – а – b.
4) Молодой поэт. Тот, кто выпустит первую книгу стихов.
х = n – (а + 2b) = n – а – 2b.
5) Поэт. Издавший вторую книгу стихов.
х = n – (а + 2b + с) = n – а – 2b – с.
Генералитет
1) Известный поэт.Чин достигается количеством книг и критикой.
у = n – (а + 2b + с).
2) Большой поэт.Чин дается часто после смерти. Достигается обилием критических статей и лекций.
у = n – 3 (а + 2b + с).
3) Мировой поэт.Чин дается не ранее пятидесяти лет со дня смерти. Достигается толстыми фолиантами, переводами на иностранные языки и т. д.
1 < у < 10.
В прошлую почту получила письмо от тети Нины, от Нины и Игоря. Такие хорошие, хорошие письма! Два дня отвечала. Нина выходит замуж за какого-то датчанина, как-то странно, не могу себе представить ее женщиной, женой. Не могу представить. Очень милое письмо от Игоря. Да все хорошие!
Опять долго не писала. Постараюсь хоть приблизительно перебрать все то, что произошло за это время.
Рождество. В сочельник суета, суматоха, все злые, а я больше всех. Для чего-то затеяна генеральная уборка, а у меня насморк, вечером петь надо и т. д. Кое-как этот несчастный день дотянулся до вечера. В 5 часов всенощная, потом получили на камбузе «харч» и начали украшать ёлочку. У нас была маленькая, но очень изящная ёлочка на столе. Пришел Дима Николаев, показывал свои фотографии, потом зажгли ёлочку. Делать было нечего, сидели и ели апельсины. Когда свечки догорели, зажгли опять лампы и настроение опять стало самым ультрабудничным. На первый день – еще хуже. Делать нечего, тоска тёмная, если бы у меня не было насморка, то с удовольствием бы начала стирку. Ужасно скучно прошел этот день. К Насоновым приехали гардемарины. У них хоть чего-то ждали, хоть этот приезд выделил 7-е января из числа других дней. Не знаю, завидую я им или нет? Я бы хотела, чтобы к нам приехали наши близкие, письма из Иркутска далеко перенесли мое воображение. Словно из какого-то далёкого странствия я опять вернулась домой.
В пятницу получили очень большую почту. Первое, за что я схватилась, это был журнал «Студенческие годы». Стихи напечатаны [348]348
Студенческие годы, 1924, № 6 (17), с. 14–15. Опубликованы стихи: Вечер, Терцины, Бедуинка и др.
[Закрыть]хорошо, красиво, опечаток нет, и не так-то уж они плохи по сравнению с другими.
Вечер
Тень упала на белые стены,
Косяком уползла в потолок…
Завтра синее платье надену,
Руки спрячу под теплый платок.
Знаю, будет неряшливо платье
И растрепаны пряди волос.
Все равно: в этом сером Сфаяте
Только холод, туман и хаос.
Дождь стучит в черепичную крышу,
Я не слушать его не могу.
В круглом зеркале завтра увижу
Очертанья неискренних губ.
Тень от полки, где свалены книги,
Чернотой неподвижной легла.
Знаю, силен мой образ двуликий
Разделенной души пополам.
Молча день наступающий встречу,
Буду ждать перед этим окном,
Если надо – веселые речи
Разбросаю, не помня о чем.
А потом, как всегда, одиноко,
В непонятной тоске, не дыша,
Над испытанным томиком Блока
Человеческой станет душа.
Вечер бросит небрежные блики
В зачарованную пустоту,
И проснется мой образ двуликий
В соловьином, звенящем саду.
* * *
Бьются звенящие градинки
В красную крышу.
В сердце чуть видные ссадинки
Ноют всё глуше и тише.
Еле заметная трещина,
След одинокого горя…
Светлая радость обещана
Где-то за морем.
Стертый, затерянный, маленький
Путь мой я сделаю сказкой…
Падают звонкие градинки
В бешеной пляске…
Терцины
Ты говоришь – не опошляй души.
Сама душа, ведь пошлая, трепещет.
А разум ждет в тоскующей тиши.
На сердце холод жуткий и зловещий.
И как не слушать шепота земли?
На свете есть диковинные вещи.
Ползут в морском тумане корабли.
Зачем теперь на них смотреть украдкой,
Когда в душе все струны порвались?
Ты говоришь: там холодно и гадко.
Пусть так. Но это – темный храм.
Лампадами горят мои загадки.
Все чувства и мечты хранятся там.
Пусть нет сокровищ там. Без содроганья
Его ключей я никому не дам.
А я молчу. Хочу великой дани
С земли, с травы, с деревьев и с камней,
Где цвел мой взгляд наивного незнанья.
Да, хорошо не знать! Души моей
Тогда бы яд не разделил так быстро.
Но как не знать тоску весенних дней.
Прильнуть к земле, холодной и душистой.
Бедуинка
Как будто на пестрой картинке
Далеких, сказочных стран
Красавицы бедуинки
Отточенный, гибкий стан.
Из древних легенд и преданий,
Из песен степей и гор
Возникли синие ткани
И пламенный, дикий взор.
Как в статуе древней богини,
В ней дышит величье и мощь.
В ней слышится зной пустыни
И темная, душная ночь.
Над ней – колдовства и обманы,
Дрожанье ночного костра,
И звон, и грохот тимпана
Под темным сводом шатра.
И вся она – сон без названья
У серых стволов маслин.
Глухой Атлантиды преданье,
Лукавый мираж пустынь.
Блестящи на ней браслеты,
И взгляд величав и дик,
Как кованые силуэты
Из ветхозаветных книг.
Хедди
(арабский мальчик)
Кусочек природы, как ветер, как птица,
Подвижный, как пламя высоких костров,
Веселый, как день, никого не боится,
В какие-то тряпки одетый пестро.
Приветлив, как солнце, беспечный ребенок,
Задорен и весел смеющийся взгляд.
Осклаблены зубы, а голос так звонок.
Как писк воробьев, как трещанье цикад.
Как будто сошел он с рекламы летучей,
Как будто бы создан из этой земли;
Сродни ему змеи, и кактус колючий,
И белые камни в мохнатой пыли.
Простой и беспечный, как юные годы.
От мыслей и фраз бесконечно далек.
Он – часть этой яркой и дикой природы,
Колючих растений нелепый цветок.
* * *
Возможно ли счастье
В тревоге летучей,
В дыханьи весны?
Душа – силуэт у стены —
Порвалась, как туча,
На части.
Возможны ли светлые миги
Здесь, в комнате странной,
В просторном гробу?
Я здесь истязаю судьбу.
Лежат на столе деревянном
Все новые книги.
И кажется – света не будет.
Как жалки стихов моих трели,
Ушедшие сны.
А там, в аромате весны,
Проходят без смысла, без цели
Угрюмые люди.
Дрожащему сердцу не верю,
Не жду сокровенного чуда,
Тоске не пытаюсь помочь.
Дождливая ночь,
Безумие, юность и удаль —
За хлопнувшей дверью.
Бизерта <1924>
И я уже жалею, что послала туда такую, в сущности, ерунду. Поэтому будет большое свинство, если в «Своими путями» меня не примут. Ведь туда я послала все-таки лучшие стихи. Потом распечатала письмо от Дёмы. Тоже перенесло меня куда-то далеко. Потом получили письмо от Сергея Сергеевича (он женится), от Петрашевича, от Мимы открытку. Мамочка среди других – и от Антонины Ивановны, где та писала кое-что о Васе, когда он был в Довилле. Я боялась получить письмо от Васи, он, по-видимому, тоже боится и не хочет отвечать на мое письмо, потому и не пишет совсем.
Глядя на журнал и на письма от родных и близких, я была счастлива, я чувствовала себя настоящим человеком, а не «сфаятской барышней». Я почувствовала в себе какую-то силу, мне захотелось сказать и сделать что-нибудь дерзкое по отношению к Сфаяту, просто плюнуть в него и сказать, что я не такая! И снова почувствовала, что я вернулась домой из дальних странствий. Может быть, действительно я вернулась в семью из своих ультраличных переживаний?
Ну ладно. В субботу была ёлка. Думала, что будет тоска тёмная, и не хотела идти. Но Мамочка убедила, что народу здорово мало. Пошла. Сразу же подцепила пятиротников и с ними просидела весь вечер. Взяла себя в руки и начала развлекать их и развеселять. Удалось, и время провели славно. Вначале скучно было, бегали вокруг ёлки, я воспользовалась тем, что нога болит, и сидела, избавила себя и других о такого удовольствия. Когда начались танцы, я все убеждала мальчиков танцевать. И убедила. Как они волновались перед танцами. Киташевский, напр<имер>, никак не решался пригласить меня, а когда пошла с Годяцким, он очень растерялся и меня приглашал: «Годяцкий – потом мне». Очень скучала Ирина Насонова, никого-то не было около нее, а она ведь привыкла к ухаживаниям. Я позвала ее к себе и заставляла Годяцкого танцевать с ней.
Вчера я позвала этих же мальчишек идти за нарциссами. С нами ходил и Бимс. Прелестная собачонка, обыкновенно он меня боится и лает издали, а тут совсем привык и лизался. Он страшно устал, и мы его уже тащили на руках. А дома он, пока мы пили кофе, спал, как маленький ребенок. Ах, славный пёсик!
Вечером эти мальчики позвали меня идти в кинематограф. Ходила вся пятая рота (8 человек), кроме Бориса Николаева. Тот, хоть и страшный любитель кино, но такой дикарь, что со мной не пошел.
Вечер.
Сейчас я расстроена. Даже не знаю точно – чем. Папа-Коля получил письмо от Васи, очень коротенькое, официальное. Это меня расстроило. Хотя я сегодня решила твердо наплевать на всех, но это меня расстроило. Сейчас перечитала кое-что из прошлогоднего дневника и опять разволновалась, почувствовала, что не вернулась еще домой, в семью я не могу вернуться, слишком сильны еще старые образы.
Там, в той комнате, уже играют «разгонный», значит, много времени прошло с почты. А я только одно глупейшее письмо Дёме написала и больше ничего. Опять расхандрилась.
В Корпусе встречали Новый Год. Была всенощная и обедня. В церковь я не пошла «принципиально» и очень собой довольна. А потом Мамочка пригласила всю пятую и седьмую роту к нам пить шоколад. Я поздравила Володю Доманского с именинником, кажется, я одна об этом вспомнила. Время провели славно.
Да. Еще одно событие из вчерашнего дня. Папа-Коля пошел на камбуз за ужином, поскользнулся на ватер-вейсе и так упал, что его донесли. «Вот, Николай Николаевич нечаянно упал», – так «доложил» Мика Матвеев. Так все благополучно, но страшно нервное состояние у него и голова болит. Одним словом – на положении больного.
Сегодня в два часа в кают-компании было общее поздравление. Ну об этом и говорить нечего.
Потом с несколькими пятиротниками мы ходили гулять в Кебир, лазали по укреплениям в сосновом леске, по камням и т. д. И мне вдруг стало ужасно жаль, что я уже не могу так лазать, что я «выросла», захотелось снова быть сорванцом-девчонкой, как в гимназии. И я была уже недалеко от того, чтобы самой сесть на ишака, но мне так нравится моя роль в Сфаяте и так хочется выдержать ее до конца, что я поправила волосы и стала опять спокойной и холодной. Боже, что бы сказали бы гимназические подруги, если бы увидели меня в такой роли. А с другой стороны, что бы сказал Сфаят, если бы я стала играть в «разбойников». Может быть, в будущем я еще вернусь к этим милым и веселым занятиям, а пока мне хочется твердо выдержать мою роль.
Вчера Мамочка затащила меня в кают-компанию. Были дамы и кое-кто из кадет. Мамочку просили мелодекламировать, а я всячески удерживала ее: такую ерунду, да еще с аккомпанементом Ел<изавета> Сергеевны, ведь это ронять и искусство, и себя. Тоска была темная и грустно. Начали танцевать. Я долго выдерживала роль, как и на елке, решила взять другую и начала веселить себя и других. Я танцевала и играла с таким азартом, что было весело. Теперь я довольна собой, и все-таки досадно. Мелкая деталь: танцевала с Володей Руссианом. Славный мальчик, хороший ученик, страшный черносотенец. Вот все, что я о нем знаю. Знакома с ним совсем мало, только кланяемся. И вот я почувствовала, что мне ничего не стоит им увлечься. Это я поняла из того, что охотнее всего танцевала с ним и во время игры искала глазами его, совершенно невольно. Это, конечно, настолько глупо и смешно, что и писать не стоит, мне только хочется заметить, как во мне натянута чувственная струна, как легко ее заставить дрожать и, главное, – как я хочу этого дрожания! Что поделаешь, любить хочу – но только не здесь! Здесь – ни за что! Хватит с меня. Здесь буду твердо и неуклонно играть свою роль.







