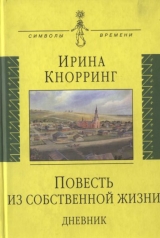
Текст книги "Повесть из собственной жизни. Дневник. Том 1"
Автор книги: Ирина Кнорринг
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 58 страниц)
Сейчас я просматривала мой первый дневник, а там от 24 апреля 1920 г. (Симферополь) нашла интересную вещь: там были написаны 7 желаний, «без которых мне жизнь не в радость». Замечательно, что все они провалились, за исключением последнего: «догнать класс». Как, значит, я была тогда удалена от того, что меня ждет и что я сама буду. Теперь те желания мне кажутся нелепыми и даже вредными; ведь это полная реставрация, а я теперь принципиально стою за новшества, хотя бы они были совсем неприемлемы для меня. Та заметка, написанная 3 года тому назад, навела меня на мысль и сейчас подвести итог моим ближайшим желаниям. Постараюсь быть искренна и объективна. Теперь у меня желаний меньше, и все они возможнее и выполнимые. Вообще, я теперь, даже и в желаниях, полагаюсь только на себя.
Мои ближайшие желания.
1. Дружба с Лисневским. Пусть даже ближе и хуже, чем дружба. Это меня не пугает.
2. Расчет с экзаменами. Правдой или неправдой, это мне все равно.
3. Прогресс в стихах.
4. Успех в кругу избранных. Надо признаться, что я честолюбива.
Вот, кажется, и все, что я могла из себя вытянуть. Теперь у меня желания узкоэгоистические и глупые, но и далеко не вечные: на один год, не больше.
Вот мне уже исполнилось 17 лет. Как-никак, а невольно делается жутко. Восемнадцатый год, ведь это уже порядочный возраст! И вместе с тем – никаких устоев, никаких руководящих правил! А года идут, идут… Есть чего испугаться!
Вчера было много интересного, а именно: получено три письма. 1-е от тети Нины из Иркутска, 2-е от Наташи Пашковской, 3-е от Волкова из Парижа.
Письмо тети Нины – это целая драма, [274]274
Письмо не обнаружено. О судьбе членов семьи Н. Б. Кнорринг см. в указателе имен.
[Закрыть]я не буду писать его содержание, ведь оно тут. Пишет много обо всех детях. Дочерям еще можно позавидовать, да и то не стоит, а мальчишки несчастны оба. Под впечатлением этого письма я написала стихотворение «Как много брошено камней». Ужасно грустно и тяжело. И еще тяжело то, что если когда-нибудь и соберется наша семья, т. е. все Кнорринги по двойному родству, как раньше было в Елшанке, если у них есть такое сильное желание сойтись опять, то они, может быть, еще и сойдутся, а вот я уже к ним не смогу примкнуть. Так вот прямо и чувствую, что в семье Кноррингов я буду совсем чужой.
Второе письмо от Наташи. Живет в Петрограде, по-видимому, не так уж плохо, как все мы жили при большевиках. Учится, через год закончит курс гимназии. Принимала участие в каком-то драматическом кружке. Одним словом, живет интересно. А мне все-таки завидует: «Что ни говори, а все-таки Африка!» Пишет стихи, прислала мне несколько. Удачны. Старые мотивы в новых словах.
Наконец, третий пакет, адресованный на мое имя, оказался сборник стихов Анны Ахматовой «Белая стая». [275]275
Вероятно, речь идет о последнем издании: Ахматова Анна.Белая стая: Стихотворения. 3-е изд. Пг., «Алконост», 1922.
[Закрыть]Оказывается, что Папа-Коля выписал мне ее ко дню рождения. Стихи интересные, хотя я еще только просмотрела.
Эту неделю у меня не было никаких уроков с Конст<антином> Константиновичем, я писала последнее сочинение: «Новые течения в современной русской литературе». Понедельник бездельничала, вторник – разбирала материал, среду и четверг – без перерыва писала. Вышло 27 страниц. Я удовлетворена. Сегодня подам Конст<антину> Конст<антиновичу>. Скоро будет экзамен. Я о нем думать не могу – руки отваливаются. Чувствую, что у меня нет серьезного отношения к делу, нет сознания его важности. Что делать, если голова другим занята! Иной раз по целым дням бегаю из угла в угол, от одного дела к другому и нигде не нахожу себе места.
Лисневский уже получил свои нашивки на погоны и переведен в следующий разряд. Доволен. Теперь стал «свободным», надеюсь, он использует эту свободу.
Завтра Вознесенье. Сегодня, после долгого перерыва, чуть ли не с самой Пасхи, пошла в церковь. Пел Круглик со своей ротой, и так здорово, что я решила не уходить.
За эту неделю произошла одна неприятная история в Корпусе. Была кража на камбузе в кладовой и, как выяснилось, это были кадеты 6-ой роты и даже знакомые мне, между прочим, Биршерт, Дима Николаев и Женя Наумов. Но Женя отвертелся. Это дело решили потушить, но отношение к ним в роте очень тяжелое.
У меня ничего нового. Все по-старому. Об экзаменах не могу и слышать и стараюсь не думать. Не знаю, что будет. По-прежнему одна. Лисневского не видела, т. е. видела издалека и не разговаривала с ним. Погода прекрасная, часто хожу гулять с Шурёнкой или Ириной. [276]276
Речь идет о А. Марковой и И. Насоновой.
[Закрыть]А в общем, скучно. Не знаю, во что все это выльется.
Вчера умерла адмиральша. [277]277
Жена адмирала А. М. Герасимова – Глафира Яковлевна.
[Закрыть]Тяжело, что и говорить. Сегодня все время панихиды, завтра похороны. В Сфаяте как-то жутко стало. Я не была ни на одной панихиде: стыдно сознаться, я боюсь. Еще с детства боялась покойников, и вот до сих пор этот страх не прошел. Говорят, мертвые лица притягивают, вот это мне и страшно. Только взглянуть боязно, а потом не оторвешься. Это говорит даже Мамочка, а у нее совсем нет такого чувства страха. Что же будет со мной, когда я вообще боюсь всего непонятного, тем более, мистического.
Сегодня получили письмо от Самариных. Михаил Павлович подробно написал мне отчет о моих стихах и дал несколько советов. Одно мне ясно, что там, в России, жизнь далеко шагнула вперед, а здесь – болото. «Бальмонт устарел», а здесь он считается новатором. Жизнь ушла от меня, и мне ее не догнать, еще мне стало ясно, что цели нет ни в чем. Поэзия тоже бесцельна. Для чего эти красивые фразы?
Вечером, после всенощной, я, Ляля, Милочка, Сережа и Мима ходили гулять. Те трое удрали вперед, а мы с Милой шли позади и разговаривали о мистицизме, о философии, в которой совершенно не разбираемся, о религии. Почти без разногласий пришли к выводам, что все в жизни бесцельно, что загробной жизни нет, что церковь – одна обрядность и едва ли есть «нечто», что служит для всего оправданием. Я чувствую, что постепенно начинаю терять веру во все. Боюсь, что скоро потеряю и Бога. А почему? Ведь у меня в жизни не было ничего, что бы могло меня сразу сделать атеисткой.
Я благодарна судьбе за вчерашний день, вернее – за несколько часов вчерашнего дня. После обеда мы компанией ходили гулять. Были: я, Ляля, Мила, Сережа и старший Городниченко (4-ой роты). Потом нас догнал Коля Овчаров. Сначала мы решили отправиться за цветами; а потом свернули с дороги и полезли прямо в гору, где наверху большие скалы и пещеры; где, говорят, есть арабская молельня. Долго лазали по этим скалам и колючкам, ободрались, оцарапались, побежали прямо через поля на большой камень, «Ноев ковчег» – назвали его. Там посидели, пожарились на солнце и вдруг решили пойти на пляж. Отправились. Дурили на речке, катались с дюн и пошли к самому морю. Вижу – какая-то одинокая фигура в белом спускается с соседней дюны. Всматриваюсь – не могла узнать. Пришли на берег, разулись, конечно, все очень мило и просто, и начали играть в горелки. А та фигура приближается к нам; наконец узнала – Лисневский. У меня и без того было веселое настроение, а тут меня всю так и перевернуло, и когда была наша с Милой очередь бежать, я помчалась прямо к морю, и был сильный прибой, и вернулась я чуть не по пояс мокрая. Пошли в пещеры, играли в «платочек», в фанты. Вели себя так, как можно только на пляже. На обратном пути компания разделилась: Городниченко позвал идти за цветами, а мы с Колей Лисневским пошли налево. О чем говорили – не помню, о чем-то хорошем только. Потом нас догнали Мима, Сережа Шмельц и Коля Овчаров. У речки мы подождали тех двух. Отдохнули на дюнах, вставать было ужасно лень. Вдруг вижу, Коля прощаться начинает. Мне страшно не хотелось, чтобы он уходил. Подходит ко мне: «Вы уходите?» – «Да, мне надо поспеть к разводке нарядов». – «Ну, так и я пойду». Он, видимо, обрадовался: «Идемте». Ляля с Леней остались. У нас все время шел очень интересный разговор на символическом языке: «У меня нет „солнца“», – говорит Коля. «Кому угодно говорите это, только не мне», – отвечаю. «То, что вы думаете не „солнце“, а „луна“» и т. д. Под Кебиром оба Коли (Овчаров и Лисневский) удрали вперед и оба обещали вечером быть у меня. Мима, Сережа и Коля были, Лисневский не пришел. Это мне было грустно, тем более что я не могла найти ему оправдания.
Несколько часов прошли очень шумно, весело и хорошо. Это яркие пятна на фоне моей жизни.
Сегодня так тепло, что не дай Бог. Сейчас поссорилась с Мамочкой, даже не помню почему, у меня какое-то ужасно тревожное состояние и достаточно было пустяка, чтобы все прорвалось: «Я тебе не знаю – что могу наговорить сейчас. Оставь меня, прошу!» Мамочка совсем расстроилась: «Я тебя оставляю, я от тебя совсем отхожу». Дальше: «Ты жестоко ошибаешься, думая, что общество этих мальчишек тебе заменит нас». Потом: «Я думала, что ты умнее», и все в этом роде.
Сейчас никого нет. Мне страшно тяжело и больно. Чувствую, что осталась совсем одна, отстала от одного берега и не пристала к другому. Но мне как-то ничего не жалко. Я опять надеваю маску. Господи, неужели же за несколько часов невинного счастья нужно платить душевной болью?
Теперь уже окончательно решено и переговорено с Кольнером, что в начале июня, должно быть 1-го, у меня будет экзамен письменный по литературе, а числа 10-го устный русский, логика и психология. К середине июня – история. А на меня такой страх напал, что ни за что взяться не могу! Хоть вешаться впору!
Ямного ждала от Троицы: это была последняя надежда. Эти дни должны были решить некоторые трудные вопросы. И вот теперь, когда они прошли, все стало будто еще неяснее <так! – И.Н >и темнее. Дело в том, что на этих днях я ждала Лисневского. Когда и где – все равно: на предполагаемый вечер, на прогулке или у себя. Через две недели у него начинаются экзамены, значит – или теперь, или никогда. И вот, субботу и воскресенье он проводил у меня. Первый раз – с Новиковым, вчера – с тройкой пятиротников. Казалось бы, все шло хорошо, я чувствовала на себе его милый взгляд, угадывала и понимала его мысли. Но само вчерашнее обстоятельство меня расстроило: я им показывала Блока, и он вызвал, конечно, страшные раздоры. Они все вооружились против меня, издевались над заумностью и т. д. Лисневский, правда, ничего не говорил, но, несомненно, он с ними. Мне бы страшно хотелось поговорить с ним наедине; я бы приложила все усилия, чтобы показать ему, как жизнь широка и многогранна, что что-то еще есть вне Сфаята и Кебира, что жизнь идет и не спрашивает нашего позволения. Мне кажется, он понял бы меня: недаром все-таки мой инстинкт выделил его. Ведь он еще молод, в нем должны быть живы инстинкты жизни, остальное все наносное. Я люблю его и хочу ему счастья. Пусть уезжает отсюда, пусть учится в университете, в консерватории, в академии художеств – все равно, пусть только выйдет в самую гущу жизни, поймет и оценит ее. А если ему суждено закисать на эскадре и быть «молодым стариком», то пусть бы лучше умер скорее.
Сегодня вечером я ходила гулять с Милой, Сережей и Сёмой Панкратовичем. Опять у нас был ожесточенный спор о Блоке, о футуризме, особенно о новшествах. Мы горячились, кричали и не понимали друг друга. Я назвала их «шишковцами», [278]278
« Шишковцы»… – Последователи А. С. Шишкова, писателя и поэта, автора религиозных од, выступающего за архаический стих, сторонника гражданского стиля, ставящего задачей поэта – умение смешивать высокий славянский слог и просторечивый российский.
[Закрыть]говорила, что они еще обеими ногами стоят в XIX веке, что еще не доросли и не доучились до понимания современности. Они все кричали о том, что «выше Пушкина все равно никого не будет», что надо писать для толпы так, чтобы «всем было понятно»; и что в XVII веке жилось еще лучше, чем в XIX. Они безнадежны со своим упрямством и самомнением. Да на них-то мне наплевать. Только бы Колю вывести из этого болота.
Когда мы вчера вечером ходили гулять, то Сережа и Сёма Панкратович кого-то испугались (они были без отпуска) и пошли по сокращенкам через Гефсиманский сад, а мы с Мимой – по шоссе, встретили кое-кого из сфаятцев. А сегодня уже до меня дошли сплетни, что вчера я с кадетом Крюковским была в «лунном наряде». А в «салоне» Насоновых вчера много говорили обо мне и смеялись; главным образом над Мимой и Лисневским. Будто бы Коля все ходит у меня под окном и поет серенаду (про себя, очевидно) и очень жалел, что не мог вчера попасть в «наряд» ко мне. Мне кажется, что это говорил Павлик Щуров. А Коля недавно уверял меня, что у меня есть один верный поклонник и именно П.Щ. Пока что эти сплетни меня забавляют, но если они станут принимать серьезный характер, я им скоро положу конец.
Высоцкий рассказывал: как-то на днях, вечером, пошел он к себе на радиостанцию в Кебир, это было уже после 12-ти. Входит туда к нему Лисневский с книгой и просит разрешения позаниматься там, «а то в роте мешают» и что-то в этом роде. «Пожалуйста, занимайтесь». Книга у него была русская история. Сначала он внимательно читал, но скоро начал клевать носом и наконец заснул. Тогда Высоцкий обращается к нему: «Да вы, Лисневский, шли бы уж спать». Тот просыпается: «Да, правда. Все равно ничего не выучишь!» Назавтра получает по истории 5. Вот и у меня сейчас такое же положение: завтра экзамены, я завалилась книгами и тетрадями, уж и счет им потеряла, нахожусь, как говорит Дембовский, «в саду Саводника и Шалыгина»; и вот преспокойно сажусь за дневник: «все равно ничего не выучишь».
Начало аналогично, неужели же будет одинаково и следствие?
Вчера с утра страшно нервничала, не находила себе места. Надо сказать, что этот экзамен сошел «неправдой»: я не только знала те 10 тем, которые Домнич дал Кольнерудля выбора, но даже почти на все писала раньше сочинения. Были только две темы, которых я боялась: «Крестьянин в литературе 2-ой половины XIX в. и хождение в народ 70-х годов» и «Главнейшие поэмы в литературе XIX в. – „Мертвые души“ и „Кому на Руси жить хорошо“».
Оказывается, что Кольнер не выбрал темы, а на экзамене предложил мне вытянуть три билета и выбрать одну из тем. И первая тема, которую вытянула, была «Крестьянин» и «Поэмы». Третья была «Татьяна Ларина как первообраз героини в русской литературе».
Я, конечно, эту тему и взяла (замечательно, что это был младший номер, и Кольнер прочел ее первой, так что вышло, что я взяла первую, какая попалась). Написала я пять больших страниц. Писала 2 ч<аса> 40 м<инут>и 2 часа переписывала. Писать было хорошо. Экзамен был в б<ывшей> комнате Запольских, [279]279
Речь идет о семье Дмитрия Владимировича Запольского, старшего лейтенанта, воспитателя Морского корпуса.
[Закрыть]рядом с канцелярией, писала я совершенно одна. Написала, надо сказать, хорошо, подпустила критику, ввернув довольно удачно разные произведения и даты. Но… «правельно» и еще что-то в этом роде, и в результате – 11. Раньше мне казалось, что я буду рада и 8-ми, а сегодня ревела из-за 11-ти. А П. А. Матвеев страшно злится, что я в этом сочинении обнаружила такое знание критики, ворчит, что его 4-ая рота так не напишет. Боюсь, что он теперь будет придираться на устном. А на устный теперь вся надежда: письменный не удался, так на устном надо непременно – 12. Страшно боюсь. А неприятно: неужели же какой-нибудь кадет сдаст экзамены лучше меня!
Сегодня мать Сережи Шмельца прислала ему копию с моего удостоверения об экзаменах в 5-й класс Симферопольской гимназии. Это для меня целый праздник! Значит, отпадают все экзамены за младшие классы.
Вчера в Сфаяте умер от чахотки Хаджи-Мед Бирамов. [280]280
А. А. Ширинская вспоминает, что «иноверца» хоронили со всеми полагающимися военными почестями, к великому удивлению местного арабского населения ( Ширинская А. А.Бизерта: Последняя стоянка).
[Закрыть]Завтра его будут хоронить на арабском кладбище!
Вчера Коля Лисневский был старшим дежурным на камбузе, а вечером был у меня. Было как-то скучно (были еще Мима и Панкратович, но ушли к 10-ти). Коля собрался было уже уходить, как я ему предложила пойти прогуляться. Он обрадовался. Мы пошли в кают-компанию. Там никого не было, и было темно. Коля играл, а я сидела и думала о том, что почти уже достигла цели, но почему-то нет у меня удовлетворения. Но за вчерашний вечер я ему очень благодарна.
А сегодня узнала, что кадет Крючков получил известие из Севастополя, будто отец Лисневского расстрелян (он моряк, кажется, капитан I ранга). Это будет для него страшный удар. Мать у него умерла, а отец для него, действительно, всё. Он всегда с такой любовью говорил о нем: «Первое время, когда я поступил в Корпус, я страшно плакал: ведь мы с папой всегда были вместе». Конечно, надо скрыть от него, по крайней мере, на время экзаменов.
Вот и прошла страшная пятница. Экзамены сдала на 12. Думала – не знаю как буду рада, а вышло совсем не то. Словно какое-то разочарование или недовольство, и грустно невмочь. Все время страшно хочется спать, рано ложусь, поздно встаю, как-то ничего не хочется делать. Может быть, это простая реакция против экзаменационной горячки, а вернее, что тут есть другая причина, «совокупность», как выражаются в Корпусе. Дело в том, что в субботу был педагогический совет, где, между прочим, разбиралось дело по поводу кражи на камбузе. Биршерта и младшего Крюковского совет постановил исключить, а Диму Николаева и других, как поддавшихся влиянию Биршерта, – оставить. Но вдруг появляется приказ Беренса: Николаева, Крюковского и Медведева исключить из Корпуса [281]281
Речь идет о кадетах – Диме Николаеве, Дике Крюковском и (?)Медведеве.
[Закрыть]и зачислить в команду на разные миноносцы без права выезда на берег. Это жестоко – они там пропадут.
Это известие произвело на меня тяжелое впечатление. Но есть и еще причина: плохи дела у Лисневского. По истории у него годовой балл – неудовлетворительный (5), таких в роте пять человек, за «усердие» – 3, и так не только по одной истории. Папа-Коля не беспокоится: «выгребет на экзаменах». Но по истории, может быть, еще и выгребет, но что будет по математике, на которой он, по словам Новикова, на последнем уроке «попался». Я думала-думала и решила, что ему не плохо бы и остаться. Он еще слишком младенец, да и лет-то ему немного, не мешало бы еще годок побыть школьником. Эскадра его сгубит окончательно, а я этого-то и боюсь.
И вот – Коля кончает, и вот – я его теряю. Пусть это эгоистично, но мне сейчас страшно грустно и тяжело. А может быть, и «все к лучшему», как говорит Коля. В этих словах, несмотря на всю их нелогичность, скрывается живительная правда. Но это все равно, я не хотела такого «лучшего». Вчера я назвала себя атеисткой, значит, уже не могу обращаться к Богу. Опять одна. Все равно: я его любила, и мне больно терять его…
О чем я еще могу писать? Опять о себе? А я себе страшно надоела. Надо сейчас заниматься. Я только начала русскую историю, а через месяц экзамен. А заниматься не хочется. Хочется подольше посидеть над дневником, подумать над собой. Скоро приедут на каникулы Ляля с Наташей, [282]282
Леля Насонова и Наташа Кольнер продолжали учиться в Бизерте в монастырском пансионе.
[Закрыть]опять все будут мне в глаза тыкать их успехами. Я очень рада, что прошлый экзамен прошел так хорошо: господа Кольнеры прикусили язычок! Не одна их Наташенька «замечательно способная»!
Сейчас не знаю, что предпринимать дальше. Думаю, с отъездом Коли опять вернуться к прошлогоднему образу жизни. Буду жить одна, по-монастырски, не вылезая из своей кабинки; а там пускай кумушки болтают, что хотят! Надо бы приналечь на занятия, да скорее распроститься с Сфаятом. Все равно мне тут места никогда не будет. А быть на затычках в компании какой-нибудь Наташи или Ляли – спасибо, не хочется.
Ночью долго не спала, и еще в голову лезла всякая ерунда. Было досадно на себя за то, что я не имею власти над собой. Умом отлично понимаю, что мне надо делать, и никогда не могу довести своей политики до конца. Срывается. Сейчас мне надо заниматься, заниматься и заниматься. Взять Платонова и – зубрить. [283]283
Речь идет об учебнике С. Ф. Платонова «Очерки по истории смуты Московского государства в 16–17 вв.», выдержавшем в 1909–1917 гг. более 10 изданий.
[Закрыть]Я дошла только до Годунова, а экзамен через месяц, а главное – я совершенно забыла среднюю и новую историю, абсолютно ничего не помню… А в общем, все как-то нехорошо. На душе иной раз становится тошно, совсем теряешь себя, теряешь нить, по которой движется время. В самой себе опять начала видеть врага. Поняла, что во мне вовсе нет силы воли, как почему-то мне казалось раньше, поняла, что принадлежу к числу вечных Гамлетов, бесчисленных и ненужных. Жизнь все время щелкает меня по самолюбию, и все время я остаюсь на запятках. Я хочу считать себя выше других и, может быть, имею на это право, а меня все стараются унизить и не замечать. Я, наконец, могу ни с чем не считаться и всех презирать, и я умею быть гордой. Есть только две вещи, которые могут поднять меня, это – экзамены (пока что – блестящие) и стихи. Но экзамены едва ли поднимут меня в глазах большинства, а стихов моих все равно не признают «шишковцы». И хочется мне наплевать на всех, и не могу: мелочное самолюбие не позволяет. Боюсь только, что мое положение здесь скверно отзовется на мне, сделает меня гордячкой, выработает самоуверенность и самомнение, а также привычку смотреть на всех свысока и ко всем относиться с пренебрежением. Вне Сфаята я бы не хотела быть такой…







