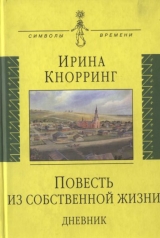
Текст книги "Повесть из собственной жизни. Дневник. Том 1"
Автор книги: Ирина Кнорринг
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 58 страниц)
Новый год начался недурно, т. е. работой. В субботу Надя говорит мне: «Ирина, мы с мамой решили, что пора уже нам устроить каникулы, мне теперь так много дела, я готовлюсь к спектаклю с 3-ей ротой. [192]192
Любительские спектакли в Сфаяте ставил художественно-литературный кружок Морского корпуса. В них участвовали военные и штатские: преподаватели, кадеты, гардемарины и «красавицы Сфаята». Руководила кружком Г. Я. Герасимова.
[Закрыть]Да ведь и в гимназии распускают тоже в это время». На это я ей возразила, что в гимназии занятия начинаются не с ноября, как у нас, и решила не сдаваться. Потом уж меня Мамочка убедила, что ведь преподаватели-то начали занятия не с ноября. Я согласилась. Пришли мы с Надей в барак и заявили преподавателям, что мы «распустились». Теперь я свободна. Не скажу, чтобы это меня очень радовало.
Встречали мы Новый Год. И нахожу, что это совершенно правильно. Ведь это праздник гражданский, и если мы живем по новому стилю, то и встречать надо по-новому. Церковный год – 1 сентября, а 14 января – это просто «старорежимный». Просто, мы не можем отвыкнуть от старых привычек. В эту ночь Папа-Коля был дежурным. Мы сварили глинтвейн, изжарили каких-то оладий, к нам пришли Насоновы, и мы очень мило и хорошо встретили Новый Год. В преподавательском бараке тоже была встреча. У них было очень шумно, даже, пожалуй, слишком. Один молодой мичман, по прозванию «Катя», [193]193
Не удалось выяснить, о ком идет речь.
[Закрыть]нарядился дамой, но, в конце концов, так напился, что начал даже стрелять. Произошел переполох. В барак моментально явился Помаскин с револьвером, Брискорн – чуть ли не со штыком и Папа-Коля – с колотушкой. В результате, говорят, что «Катя» списан в 24 часа.
Со вчерашнего дня я отдала себя общественной работе: теперь идут приготовления к празднику, и предстоит много печь. Надо, например, сделать шесть тысяч пряников. Никто из дам не идет, но у меня совесть чиста: я работала вчера все время. Так буду и впредь. Ведь это работа для всех. Сейчас жду, когда Вера Петровна Тихомирова позовет меня на камбуз.
Одна приятная новость: у нас новый регент (бывший кок). [194]194
см. примеч.189.
[Закрыть]
Прежде всего необходимо быть откровенным с самим собой. Без этого невозможно быть честным человеком. Надо сознаться, что у меня есть один порок, за который я имею право себя презирать. Это – лень, или даже не лень, а вернее, просто неумение пользоваться временем. У меня есть много обязанностей по отношению к самой себе, много начал, которые я должна кончить.
Нет, это не лень, о чем я писала прошлый раз. Я нашла для этого удачное слово. Это слабоволие. Да, надо быть откровенным с самим собой. Увы, надо сознаться в том, о чем не хочется и думать. Только тогда я и полюблю мой дневник, когда я буду в нем вся как я есть, когда в нем будет много правды, горькой правды, а не как фантазия или идеал.
Сейчас я одна. Мамочка с Папой-Колей ушли в Надор на вечер, там студенты справляют Татьянин День. Я туда не пошла и здесь, одна, справляю именины Тани, той самой Тани, имя которой за последние полгода даже «не упоминается в моем дневнике». Но не потому, что я забыла о ней, разлюбила ее, нет, ее я никогда не забуду и не разлюблю. Пусть мы с ней никогда больше не увидимся, никогда не сойдемся, она для меня навсегда останется прежней, милой Таней. Какая она теперь? Что с ней? Боже, как хочется ее увидеть. И я хочу, чтобы этот день ее именин был всегда, всегда хорошим и приятным. И я именно отмечаю этот день, потому что она так безнадежно далека от меня; потому-то у меня с ней связано столько хорошего, и это, именно это хорошее, я уже не встречу и ее не увижу. Милая, если бы она знала мое одиночество, мою тоску!
Быть гением, быть великим, совершать подвиги могут лишь немногие, но быть честным и высоко поднять свою нравственность – это право каждого. Ерунду я о себе думала раньше, что я что-то особенное, и меня никто не понимает. Такой же я человек, как и все, может быть, даже и меньше других. Но что же мне мешает стать больше? Для этого не нужно ни талантов, ни гениальности, нужна только прямая, просветленная мысль.
Мысль у меня есть; хоть я физику не понимаю, но все-таки самые элементарные понятия о себе пойму. Многое еще для меня остается неясным, убеждения непрочны и слабы, но у меня есть одно убеждение, которое, по-моему, лежит в основе всего: человек живет в свое удовольствие, все делает только для самого себя, творит добро или зло только для удовлетворения своей совести, мотивируя тем или другим. Самая тяжелая обязанность – обязанность перед самим собой, перед своей совестью.
Давно, давно я не занималась этим хорошим делом. В душе уже много кипело и даже перекипело за это время. Было время, когда я была страшно зла, когда я чувствовала себя глубоко обиженной. Дело в том, что ведь сейчас у меня, действительно, нет ничего интересного. Жизнь идет так бледно и невесело. Вот если бы не было моего холодного наблюдательного пункта, как я называю критическое отношение к окружающему, да светлых, правда, далеких надежд на далекое будущее, то и жить не стоит. Но утешаться одними только надеждами невозможно; постоянно только наблюдать – тоже тяжело, для этого нужно быть слишком убежденным реалистом, т. е. не уметь чувствовать. Создать в самой себе новый мир и жить исключительно в нем – я не могу уж потому, что я все-таки реалистка. Остается одно: отыскать в своей повседневной жизни что-нибудь такое, что можно возвысить, то, чему можно отдаться, если не целиком, то, во всяком случае, настолько, чтобы создать себе хоть какую-нибудь цель. И я нашла: это наши многочисленные спевки. Поем мы много, но я готова петь еще больше. Поем – одно только и есть утешение. Может быть, это и ложная идеализация, но ведь если нет счастья, так надо его выдумать. Я живу от спевки до спевки. А тут вдруг неожиданный каприз «верхов»: реформация хора. Приказано составить хор из гардемарин и кадетов. И в прошлое воскресенье этот хор уже пел. Казалось бы, что такая реформация непонятна. Но нам всем ясно, где тут собака зарыта: и адмирал, и Китицын – глубочайшие атеисты; если они и ходят в церковь, то только потому, что этого, наверно, устав требует. Кит возмущается тем, что служба длится больше часа. Приходит он всегда к концу. Когда мы поем что-нибудь концертное, длинное, он всегда «страдает», это видно по лицу. Это его раздражало. Ну а мальчишки, конечно, ничего нотного учить не станут. В прошлое воскресенье, когда пели они, адмирал был очень доволен. «Молодцы, скоро спели», – откровенно признавался он. А мы получили полную отставку. Это для меня было уже так горько, что я совсем расстроилась, расхандрилась. Хотя еще не все кончено: регент сказал, что Пост и Пасху он будет петь еще с нами. Но довольно об этом.
Вчера утром Мамочка уехала в Тунис. Вернется она в субботу. Все-таки скучно без нее. Так и кажется: вот сейчас она придет из мастерской с брюками в руках и с сантиметром на шее, [195]195
Речь идет о пошивочной мастерской, производящей одежду для преподавателей и кадет Морского корпуса, в которой работали мать и дочь Кнорринги. Руководила мастерской Г. Я. Герасимова.
[Закрыть]придет и сразу начнет передавать какие-нибудь новости. Какая она все-таки общительная, всегда все расскажет, всегда всем поделится. Должно быть, с такими людьми жить легко.
Сегодня у нас в Сфаяте были блины. Блины были хорошие, с селедкой, с яйцом и даже на сливочном масле. Обошлись они Хозяйственной части около тысячи франков. Когда адмиралу указывали на эту страшную цифру, он возражал, что «все-таки необходимо справить христианский обычай». Вот истинный христианин!
Еще так недавно моя душа кипела сильным желанием. Теперь оно уже догорает, и пройдет еще очень и очень немного времени, как все мои желания и надежды рассыплются в прах. Дело в том, что недавно корпусом получена телеграмма от Меркулова: [196]196
Начиная с апреля 1920 г., когда была создана Дальневосточная республика, объединившая Забайкальскую, Амурскую, Сахалинскую, Приморскую и Камчатскую области, на Дальнем Востоке шла беспрерывная борьба Народно-революционной армии с белогвардейскими частями, а также с армией Японии. «Богатый домовладелец» Владивостока Н. Д. Меркулов, совместно со своим братом, земским деятелем С. Д. Меркуловым, при поддержке Японского правительства, организовал 26 мая 1921 г. переворот во Владивостоке, став во главе правительства.
[Закрыть]он предлагает Корпусу ехать во Владивосток. Последнее время всюду только и было разговоров, что о Владивостоке. Большинство отнеслось к этому проекту очень недружелюбно. Появились остроты: «Не мы к Меркулову поедем, а он к нам». Но Китицын совершенно серьезно обсуждает вопрос, на каком корабле ехать. Ехать предполагается в сентябре, езды до Владивостока четыре месяца! Пожалуй, немножко рискованно. Но меня это известие разожгло. Меня больше не привлекает ни Прага, ни Париж, только бы поехать! Но, увы, все, что мне хочется, то никогда не бывает. Интересует меня, конечно, не Владивосток, но самая дорога. Разве когда-нибудь после представится такой случай? Разве раскачаешься? Вслед за этим читаю в газете: «Хабаровск занят красными». Надежды не теряю. Вчера доходит да меня такая новость из «La Dépêche Tunisenne» [197]197
«Тунисские известия» (фр.).
[Закрыть]: «Владивосток пал». [198]198
25 октября 1921 г. войска Народно-революционной армии вошли во Владивосток. Было объявлено об установлении на территории Дальнего Востока советской власти и о вхождении Дальневосточной республики в состав РСФСР.
[Закрыть]В этих двух словах непонятная сила, какой-то удар. Они мне напомнили что-то далекое, далекое… Я выслушала это известие с таким чувством, с каким давно, на Кавказе и в Крыму, узнавала о падении одного города за другим. Какой-то животный ужас впивается прямо в сердце, не то грусть, не то отчаяние. И теперь – как будто это случилось совсем близко от меня, как будто грозит мне бегством и неизвестностью. Наоборот, оно оставляет меня надолго в совершенном покое. Только не нужен мне этот покой. Пока я молода – мне жить хочется, хочется больше новых впечатлений, более глубоких, сильных, пусть тяжелых, переживаний!
Завтра уезжает в Прагу часть студентов, а также и Первая рота гардемарин. [199]199
Примерно за год до этого момента Союз русских студентов в Тунисе начал проводить анкетирование «недоучившихся» студентов. В частности, в Морском корпусе были выделены специальные «классы», где молодых людей «подтягивали» по математике, физике, гуманитарным дисциплинам. В начале 1922 г. в Бизерту прибыли представители Русской учебной коллегии из Праги У. Жиляев и Л. Художилов, составившие вместе с местными педагогами аттестационные комиссии. В период с 4 по 11 марта 1922 г. в Тунисе прошла серия отборочных коллоквиумов. В результате в Прагу для продолжения учебы выехали 40 студентов (Крезе Л., МилославскийП. Русские студенты в Тунисской области, с. 2). Согласно отчетному письму секретаря Бизертинского отделения Союза русских студентов в Тунисе А. П. Келлера: коллегия «захватила с собой первую группу студентов и гардемарин в количестве 75 человек» (БФРЗ, ф. 13, оп. 2, ед. хр. № 918). Из чего следует, что кроме студентов уехали 35 гардемарин, абитуриентов.
[Закрыть]Их едет провожать «папа Китицын». Вот нянька. Калюжный мне рассказывал о нем, как он о них заботится, всегда и устроит, и выручит, и поможет. Недаром адмирал назвал его «папашей первой роты». Меня трогает такое отношение, вот уж любит их! Но зато уж и они его любят.
Итак, они завтра уезжают. Недавно они были произведены в корабельные гардемарины, и по этому случаю и по случаю отъезда каждый день устраиваются пирушки: то дамы чествуют гардемарин, то гардемарины прощаются с Корпусом, то вторая рота провожает первую, то Александров – преподавателей. Из моих преподавателей уезжает Куфтин (физик). Жаль его отца-старика, он служит здесь в библиотеке. Зовут его «Не тронь книгу». Летом уехала его любимая внучка, [200]200
Речь идет о Татьяне Куфтиной.
[Закрыть]а теперь и сын. Остается он уже совсем одинок. Пришел к Насоновым и заплакал. И Дитриха жаль: тоже сын уезжает. Всюду суета, волнение. А у меня тоска. Говорят, что завидовать нехорошо. Не знаю. Знаю только, что это мучительное чувство. Мне кажется, что я завидую тем, что завтра уезжают. У меня тоска какая-то непонятная, необъяснимая. Говорят, у всех сейчас такое чувство. Я чего-то нервничаю, постоянно плачу. И не могу понять – о чем? Просто нервы расхлябались. Скучно мне. Ведь я совсем, совсем одна.
Вчера уехала Первая рота. Весь Корпус и весь Сфаят пошел ее провожать. Только я дурака сваляла, не пошла. А уж как жалела. Ведь такие моменты не повторяются. Что ж из того, что у меня там не было почти никого знакомых. Ведь это в высшей степени интересный момент: для них начало совершенно новой жизни, для Корпуса – начало конца, начало развала. И радостно, и больно. Сразу стало как-то пусто, грустно, невероятно грустно.
Владивосток пал, это уже факт.
Эти дни я говела. Вчера причащалась.
Говорят, что Корпус переводится в Сербию. Недавно Беренс вернулся из Парижа (мы были уверены, что он не вернется: кто попадает в Париж, тот уже, обычно, не возвращается) и во вторник вместе с Тихменевым был в Корпусе. Адмирал их водил, конечно, на скотный двор (достопримечательность Сфаята!), показывал кроликов, потом показывал теннисную площадку и библиотеку.
В это время пришли в баню «восьмушки», [201]201
Помещение бани было приспособлено под офицерскую столовую (столовой частью Морского корпуса руководил полковник А. Ф. Калецкий). «Восьмушки» – бывшие воспитанники 8-ой роты.
[Закрыть]т. е. новички 7-ой роты (там все 9-ти, 10-ти, 11-ти лет), они занимаются отдельно, у них преподает Папа-Коля; и их «демонстрировали», заставляли сдваивать ряды и делать тому подобные военные мудрости.
Потом все три адмирала [202]202
Адмиралы А. М. Герасимов, М. Л. Беренс и А. И. Тихменев.
[Закрыть]пошли в барак и просидели там очень долго (я за ними наблюдала, мне интересно – зачем они приезжали; они, да еще вдвоем, даром никогда не приезжают; всегда только с новостями, а то Корпус с Эскадрой не в ладах). По обыкновению, все новости распространяются по лагерю с быстротой молнии, на этот раз – никаких. Адмирал упорно говорит, что никаких новостей нет. Однако когда я вечером шла в церковь, адмирал разговаривал с о. Георгием. Я услышала только несколько слов. Спасский: «Ну, и так еще…». Герасимов: «Да определенного ничего, он не разговорчив. Только сказал, да жена уж проболталась». Дальше, к сожалению, я ничего не слышала, да и неловко было, идя на исповедь, заниматься таким делом. А потом уж распространился слух, что Сербия принимает две тысячи русских эмигрантов из Тунисии. [203]203
Данные о количестве русских беженцев, прибывших в Сербию с этой волной, значительно разнятся в разных источниках. Ю. Софиев вспоминает: «С первого дня моего пребывания в Дубровнике я обратил внимание на то, что на улицах города постоянно встречались молодые люди в русской гардемаринской форме» (Софиев Ю.Разрозненные страницы, с. 46).
[Закрыть]
В воскресенье Папа-Коля читал на форту публичную лекцию на тему «Сто лет назад». К сожалению, или к счастью, я не была на этой лекции. Произошел неприятный инцидент. Только Папа-Коля коснулся характеристики Александра I, как поднимается Александрова и громко заявляет ему: «Неужели за сто лет вы не нашли ничего прекрасного, как только критиковать наших государей?» – повернулась и ушла. За ней ушли гардемарины 3-ей роты. Произошло замешательство. Александров предложил Бергу (Берг заменяет Китицына) увести кадет, на что Берг ему очень хорошо ответил: «Зачем? Пускай мальчики слушают всю правду». Гардемарины 3-ей роты вышли во двор и начали громко петь, кричать и кидать каменьями в крышу того класса, где происходила лекция. Берг несколько раз громко сделал замечание Мейреру (командиру 3-ей роты) и вообще вел себя замечательно хорошо. После лекции все возмущались Александровыми и выражали сочувствие Папе-Коле. Ночью кто-то повесил на нашу дверь плакат: нарисована красная звезда, красные флаги РСФСР, затем (лозунги. – И.Н.)«В борьбе обретешь ты право свое» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Только эффект зачинщиков не удался: Папа-Коля слышал шорох около двери, догадался, в чем дело, и тотчас же снял его. Наутро адмирал организовал комиссию по расследованию этого дела. Был допрос преподавателей, бывших на лекции. Комиссия работает. Кажется, адмирал издал приказ, что дамам вход на лекции на форту воспрещается. Говорят, что Комиссия постановила, что два Николая Николаевича [204]204
Речь идет о Н. Н. Александрове и Н. Н. Кнорринге.
[Закрыть]не могут служить вместе. Значит – мы в Надор.
Прежде всего напишу результаты воскресной истории. Е. Г. Александрова списана в Надор в недельный срок. Но она считает себя героиней, ходит, поднявши голову, но взбешена до белого каления и ведет неосторожные разговоры: «Я этого так не оставлю, – говорила около камбуза, – я этого не прощу, старикашка (адмирал) совсем из ума выжил! Уж я этого не оставлю. В таких случаях или по морде бьют, или стреляют. Но так как он старше чином, то придется искать другого способа!» Она уезжает к дочери в Лион [205]205
Речь идет о Тане Гран, еестаршей дочери от первого брака.
[Закрыть]и берет с собой Надю; она написала и послала 3-ей роте стихотворение – прощание со Сфаятом. Я его не читала, но мне передавали содержание: «Прощайте, гардемарины», – обращается она к 3-ей роте, затем следует трогательное прощание с лагерем, с Гефсиманским садом, с церковью, где она «проливала столько горючих слёз за Россию», и даже с арабами. Преподавателям она сказала, что так как у нее теперь порвана всякая связь с ними, то Надя отказывается от уроков. Последнюю неделю я занималась одна.
Адмирал написал приказ, который читался в ротах. Он есть и у нас. Приказ громадный, целых четыре печатанных страницы, мне даже не хватило терпенья прочесть его, и я только просмотрела, так как содержание его мне давно известно: Мейрер переведен отделенным начальником в 7-ю роту за легкомысленное отношение к делу (и все думают, что он уйдет); те гардемарины, которые вышли с лекции и пели, оставлены на 2 месяца без отпуска. Адмирал заходил к ним в роту и долго говорил с ними. Мне так передавали его слова: «Вы понимаете, что вы делаете? Мне все говорят, что у вас в роте спайка, да если бы она шла на пользу. Где у вас индивидуальность? Какая-то взбалмошная баба зовет вас за собой, и вы послушно идете!? В другой раз вас взбаламутит какая-нибудь Марья Ивановна, и послушаетесь. Против чего вы устраивали демонстрацию? Вы все считаете себя ярыми монархистами, а я вот до седых волос дожил и не знаю, кто я – монархист или нет. А то, что вы ушли, доказывает только, что лекция для вас была слишком трудна. Вам надо так читать: Александр I был очень хороший человек, вставал в 8 часов, пил кофе; потом шел подписывать приказы, потом ездил кататься. Дальше: Александр II – смотри то же, что и Александр I, кроме того, он освободил крестьян. Вот такие лекции вам и надо читать, только такие вы и осилите». Почти все то же повторялось и в приказе, упоминался «ротный совдепию», главком Керенский и «Приказ № 1». Папе-Коле выражалось извинение и советовалось впредь «считаться с умственным развитием аудитории». Это тоже не всем понравилось. Интересно, что Елена Григорьевна сама просила Папу-Колю прочесть лекцию, она говорила, что задыхается в такой некультурной атмосфере, а она привыкла к умственным развлечениям. Хороши развлечения! Ну да Бог с ней! Наконец, в приказе – строгий выговор инспектору классов Александрову за «ложное донесение»: он доложил адмиралу, что уже в начале лекции начались выражения неудовольствия среди гардемарин, которые начали выходить, и под конец вышла его жена; и за то (выговор. – И.Н.),что он ввел в 3-ей роте французский язык, который преподавала Ел<ена> Григ<орьевна>, и для этого удалил оттуда Лисаневича. И после таких изобличений он остаётся! Открылось столько гадких поступков, человек даже в приказе уличен во лжи; наконец, его жена высылается из лагеря, – и он продолжает жить так, как ни в чем не бывало. «Не могу, – говорит, – оставить детей, вверенных мне родителями и Богом». Придумал громкую фразу и успокоился. Верно говорит адмирал, что у него нет ни на грош чести.
Квартира Насоновых. Около 11 ч<асов> вечера.
Сегодня Первая рота устроила танцевальный вечер. Приглашены буквально все, и Сфаят пустует. Приглашали, конечно, и меня, но я все-таки не пошла: должно быть уже просто по своей натуре я не люблю праздников, вечеров, предпочитаю оставаться одной; быть может, это и нехорошо, но довольно об этом. Все ушли [206]206
Т. е. на гору Джебель Кебир, где находились помещения Морского корпуса.
[Закрыть]и, конечно, все осуждали меня. Почему? Елизавета Сергеевна просила меня время от времени заходить к детям, у них сейчас ночует и Леля Тихомиров. Я дождалась, когда все ушли, и собиралась провести вечер в свое удовольствие – читать, писать, а потом завалиться спать. Но как только все ушли, мне стало как-то неприятно. Кругом – ни души. Жуткая тишина. Я раскрыла книгу, но чтение не клеилось, а за стеной бушевал ветер. Я попробовала было развлечь себя, но не могла. Тяжелое чувство не покидало меня. Я старалась побороть, пристыдить себя, но напрасно. Меня одолел какой-то мистический страх. Начались галлюцинации: мне опять начали слышаться какие-то звонки и колокольный набат. Я не выдержала и ушла к Насоновым. В бараке нет ни души, только в угловой кабинке спят Лаврухины, и в кабинке Леммлейна ворочается Джек. Когда я вошла в барак, как-то странно и напряженно скрипнула дверь, залаял Джек. Наташа Лаврухина проснулась и окликнула меня. Мои шаги глухо раздавались по коридору. И все это было как-то неприятно и даже, как ни стыдно в этом признаться, страшно. У Насоновых было хорошо. Кира с Лелей уже спали. Ируся дурила и смеялась. Я немного развлеклась, у меня уже не было того страха. Через некоторое время я пошла проведать нашу кабинку. В темноте я на что-то споткнулась в коридоре, потом залаял Джек, опять так же неприятно скрипнула дверь. А ночь была тёмная и холодная. Ветер дико свистел и пронизывал до костей. В бараках было темно: должно быть, все ушли наверх. Мне сделалось жутко. Я бегом побежала к нашей кабинке и все время крестилась. Перед дверью я остановилась, мне было страшно открыть ее. Трудно сказать, что было в это время у меня на душе: рассказы про арабов, крадущих кур; про надорских воров и, очевидно, что-нибудь более страшное. В комнате все было спокойно, и я побежала назад. Потом Ируся легла спать, мне тоже очень хочется спать, но я боюсь идти домой. В обществе трех спящих малышей все-таки не так страшно. Сижу и невольно вслушиваюсь в тишину. Боюсь стукнуть и даже двинуться. Каждый звук раздается там гулко и страшно. За окном воет ветер, идет дождь. Где-то послышатся шаги, и снова все смолкает. Вдруг залает Джек, и сердце забьется так сильно-сильно. Потом послышится, что где-то щелкнул засов, слышится шорох… Мне начинает казаться, что у нас в кабинке воры, хочется пойти, узнать; наконец, позвать на помощь. Но позорная трусость удерживает на месте. А в голову лезет нелепая мысль: «Если нас обкрадут, то уж, наверно, и Тихомировых», – и я успокаиваюсь. Потом все-таки бегала домой. Удалось взять себя в руки, и наша кабинка уже не казалась мне страшной. Я пробыла в ней минуты три и решила, что скоро приду спать. Вернулась к Насоновым. Дети спят. В соседней кабинке, у Якушевых, часы пропищали двенадцать. Пора идти, но ноги не двигаются. Нервы напряжены, знобит; в душе непонятный, тяжелый страх; тоскливо, досадно на себя, больно за других; и знаешь, что это было уже давно-давно; и чувствуешь, что будет еще долго.
Вот до какого состояния может довести меня темная, ненастная ночь, вечное одиночество и неотвязные мысли.







