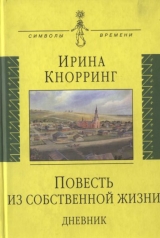
Текст книги "Повесть из собственной жизни. Дневник. Том 1"
Автор книги: Ирина Кнорринг
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 45 (всего у книги 58 страниц)
Завтра русский письменный в четвертой роте. Вчера днем приходит ко мне Пава Елкин. «У меня к вам громадная просьба». – «Какая?» – «Так! Напишите мне к экзамену сочинение». – «Как? А тема?» – «Да тема есть: Лиза Калитина и Екатерина из „Грозы“». – «Как вы узнали?» – «Это не совсем факт, но по всей вероятности так и будет». – «Хорошо. Напишу». У меня даже не было мысли отказать. Книги нет, я взяла свои старые конспекты и стала разбираться, как входит Вася с видом заговорщика: «Ирина Николаевна… как… напишите?» В руках у него две книжки Саводника. [320]320
Речь идет об учебнике В. Ф. Саводника «Очерки по истории русской литературы XIX века» в двухкнигах (1914).
[Закрыть]«Хорошо. А я сейчас уже один заказ получила». – «Пожалуйста, уж напишите мне, а то я засыпался. Тема „Лиза и Катерина, сравнение и характеристика“». – «Да откуда вы знаете темы?» – «Мне сказал мичман Аксаков, он сам тоже не уверен, но говорит, что вероятнее всего». – «И все в роте знают?» – «Ну, конечно». – «Хорошо, я напишу, но что если не эта?» – «Тогда я пропал. Вы хоть мне скажите, о чем там писать». – «Ладно, я вам составлю конспект на остальные». – «Вот хорошо! Напишите и поподробнее, с чего начать, чем кончить, я ничего не напишу». Порешили – первую тему и последнюю: «Чиновничий быт по Островскому», потому что она была на экзаменах 4-ой роты в прошлом году. Вчера же вечером засела за работу. Вася был настолько предупредителен, что принес мне Саводника и даже бумаги, только пиши. Первую работу написала довольно быстро и легко. Закрыла занавеску на двери, раскрыла эту тетрадь, на нее положила бумагу, перед собой положила Саводника, на всякий случай раскрыла физику и положила рядом. Как шаги – Саводник в стол, в руки Краевича и самый невинный вид. Когда наши вернулись с винта, Мамочка зашла ко мне. Я скорей захлопнула эту тетрадь, как будто бы писала дневник, а книгу спрятать не успела. «Что ты делаешь?» – «Так… ничего…» – «Идем чай пить». Я поспешно собираю со стола Саводника, Краевича и Горация и торопливо ставлю на полку. «Хорошо, я иду, вот только немного уберу и иду». Мамочка, кажется, не заметила. Первую работу написала ночью и решила, что она пойдет Паве. За вторую не знала, как и приняться, как не думала – все выходит по-старому. Решила, что утро вечера мудренее и легла спать. Встала часов в шесть и принялась писать. План работы совершенно другой, поэтому сходство не должно бросаться в глаза, да еще они в разных взводах, так что сочинения подадутся не рядом. Потом написала самые подробные конспекты на три другие темы. Вася был очень доволен и благодарен. В четыре часа, когда приходил за работами, взволнованно шепотом сообщил мне: «А Петр Александрович знает, что тема известна». – «Ну как он мог узнать?» – «Да я не знаю. Он сам сказал кому-то об этом. Но все равно, он не переменит, это совсем не в его расчетах». – «Дай Бог!» Страшно волнуется. И я не меньше. Нервничаю чуть ли не больше, чем перед своими собственными экзаменами. Места себе не нахожу, забросила физику, ничего делать не могу.
Вообще последние недели в ожидании письма из Праги я страшно нервничаю. Знаю, что если получим утверждение, – надо скорее сдавать экзамены и ехать, и не могу заниматься. Сама не своя стала, только и жду почты. А с одной из этих почт пришла мне открытка от Бальмонта, очень милая и хорошая. Ругает неточные рифмы, указывая, как на грозный пример, на М. Цветаеву. «Если надумаете, пришлите мне Ваших стихов». Да, обязательно, и напишу ему второе бешеное письмо и кипу стихов, только… после письма из Праги. Раньше я не могу собраться с мыслями.
На Ольгин день Воробьева пригласила меня идти с ними на море. Они шли большой компанией с ночевкой. Пошли мы в среду после ужина, когда пришли на море, было уже совсем темно. Местность стала совсем незнакомой, хорошо и красиво. Только жаль, что поднимался ветер. И еще жаль, что была завалишинская компания, которую я терпеть не могу. Все старшие кадеты: Остелецкий, Любомирский, Ирманов и даже Тима Маджугинский – страшно противные, ломучки, циники (а Ольга Владимировна еще называла их «рыцарями», мне прямо смешно было: неужели же она не видит их «рыцарских чувств»?). Обидно, что и Тима попал в эту компанию и стал таким же, ухаживает за Милочкой, ходили слухи, что после окончания Корпуса он женится, но только я этому не верю, хотя Милочка очень нежна с ним. В общем, компания не по мне. Развлекали только малыши: братья Вилькены, Илюша Маджугинский и Зимборский. Пришли мы в пещеру (там есть такой глубокий грот у самого моря), развесили там цветных фонариков. Прибой был сильный, но мы с Милой все-таки полезли купаться. Я выскочила скоро, сверх мокрого костюма надела рубашку и платье, так как больше ничего у меня не было, и отправилась с другими за хворостом. Хотелось отдаться настроению, лечь на песок и слушать море, но было неудобно отказываться от работы. Потом здорово озябла, постелила плед, легла на него, им же укрылась, дрожала от холода. Мальчишки разжигали костер и никак не могли разжечь. В ожидании чая все мало-помалу улеглись и уснули. Поэтического настроения не было ни у кого, а я так озябла, что забралась в самую глубь пещеры, закуталась и решила, что обязательно схвачу малярию. Какая уже тут поэзия! Помню – меня будили чай пить, Маруся даже принесла чашку ко мне, я только попробовала – такая гадость: с золой, с хворостом, вонючий – сказала, что хочу спать. Просыпалась часто. Шумело море, горел в глубине пещеры фонарь, как красива и таинственна была и сама пещера, но я соображала только, что лежу на сквозняке, так как эта пещера сообщается с другой, малюсенькой, куда можно проползти, что малярии мне не миновать и что очень больно уху и щеке: но нагребла под голову песку и положила еще думочку, но все-таки было очень больно. Проснулась я – солнце уже встало – так я и не видела восхода. Женщины проснулись и поздравили именинниц. И все-таки думала: вот сейчас будем купаться, потом разожгли б костер, тут-то и начнется веселье. Гляжу, а в пещере сонное царство. Стала бродить по скалам, попробовала воду – холодно, волны большие. Кое-как поднялись малыши, и Маруся начала разводить костёр, подогрела вчерашний чай, выпила его и поставила новый. Ольга Владимировна, Ляля, Мила, [321]321
Речь идет о семье Завалишиных.
[Закрыть]мальчишки встали часов в восемь. Перед чаем пошли купаться. Вода холодная, но хорошо. С тех пор я почти не вылезала из воды часов до четырех, перекупалась, потом меня знобило, я завернулась в одеяло и лежала на солнце. Вообще было скучно. Но пробовали играть в «знамя», бегали, а О.В. сидела в сторонке и любовалась, как резвятся детишки. Такая идиллия! Все обязательно хотели «играть», а мне так ни капельки не хотелось. Потом, когда О.В., Маруси, Ляли не было, ушли в пещеру, собрались в кружок и мальчишки начали рассказывать нецензурные анекдоты, правда, с пропусками, но очень глупые и прозрачные. Я терпеть не могу нецензурщины, слушала, слушала, да и ушла, странна мне эта компания. Что, Ляля не понимает грязноты и развращенности этих мальчишек и всерьез принимает ухаживания их, так это еще понятно, она глупа и наивна, но как О.В., эта блюстительница нравственности, не видит, с кем она ведет компанию, – так это я уже не понимаю… Делать было нечего, днем тоже все спали. Я мерзла и хотела домой, а О.В., Ляля были очень довольны и создавали идиллию. Впрочем, я тоже довольна. Вернулись часов около девяти. Дома – темнота, значит, играют в карты. На столе беспорядок, одним словом, идиллия! А на письменном столе – смотрю – последние девять письменных работ от Петра Александровича на проверку к Папе-Коле. В них должна быть работа Васи, я с самого понедельника жду ее с волнением. Смотрю верхнюю работу – Доманский. Смотрю конец – 10. Не знаю, как отнеслась к этому в первый момент. Когда я писала, я готовила на 11, я знаю, что если бы у Васи было 12, то это слишком бросилось бы в глаза, притом писать надо было только в пределах Саводника. Я не знала, что кадеты дойдут до такого нахальства, что будут приводить точные цитаты из «Грозы» (разумеется, то, что у Саводника), я все-таки старалась показать, что никакой подготовки не было. Так как большинство работ написано на 8, то я не огорчаюсь. Смотрю следующую работу – Сиднее, и у него 12. И мне вдруг стало грустно и обидно. Не то неприятно, что у Васи Чернитенко 10 – он сам говорил, что ни одна своя работа не была у него больше 8-ми, а то горько, что моя работа ниже Андрюшиной. Щелчок по самолюбию. И очень не маленький. У меня есть оправдания, но другие и также Вася меня оправдывать не станут. Да и в самом деле, выходит, что я подвела его, а он-то надеялся на меня как на каменную гору! Это очень неприятно, сегодня написала Андрюше записку, сообщила его и Васину отметку – он просил меня узнать – и после Васиной прибавила «только пусть он не ругается». Он-то, может быть, и не будет ругаться, а мне все-таки будет очень неприятно и обидно.
Получено несколько открыток из Праги. Одна от Карцевского. Пишет, что кандидатура Папы-Коли утверждена Земгором [322]322
См. прим.312 (7 марта 1924).
[Закрыть]и дело только за министерством и что 25 августа надеется встретить нас в Праге. Другая от Домнича – поздравляет и просит написать, когда едем, чтобы встретить на вокзале.
И вот, сегодня я сдала последний экзамен, физику. Готовила на 8, сдала на 10. Последний экзамен. Цель достигнута, то, чего я так долго добивалась, уже совершено. Во всю жизнь еще не одна реальная мысль не шла дальше последнего экзамена. Теперь какая-то полоса пустоты. Еще нет сознания своей свободы и некуда себя девать, сейчас вечером настроение уже сбито. Две вещи меня сильно взволновали. Первая – рассказ Тьери «Западня» [323]323
Опубликован: ИР, 1924, № 2, с. 9–11. Рассказ посвящен девочке-подростку Шарлотте Жакэн, нарушающей шаг за шагом заповеди – «не укради», «не убий»; ее первому опыту общения с мужчиной, кончающемуся трагически.
[Закрыть](перевод Б. Шлецера в «Иллюстрированной России»), прекрасная, очень глубокая и сильная вещь. Вторая – сцена, которую мне устроил Петр Ефимович: он во вторник уезжает и зашел ко мне поговорить, сначала нёс всякую ерунду о прошлом, нагнал на меня скуку и ушел. Минут через пять является опять: «Ирина Николаевна, идемте немножко пройтись – мне хочется спросить у вас одну вещь». – «Нет, я не пойду». – «Это жестоко. Я умоляю». И совсем слюни распустил, чуть не плакал. Был мне страшно противен в той момент. «Никуда я не пойду». Подошел к столу. «Один только вопрос: любили вы меня?» – «Нет». – «И никогда не чувствовали ко мне никакого влечения?» – «Никогда». – «Вы говорите это совершенно искренно?» – «Ну, конечно». – «Так знайте, что я был страшным ослом!»… Что-то похожее на всхлипывание, и он выскочил за дверь. Противно и только.
С Васей у меня теперь хорошие отношения. В воскресенье мы весь день просидели вдвоем. Он готовился к геометрии, а я взялась с ним за зубрежку формул, заставила выучить. И по его отношению ко мне, по тому, как внимателен, прост и, я бы сказала, нежен со мной, я видела, что он меня любит.
За это время ничего не было интересного, кроме субботы. Да и это только потому, что были «мальчики» – Вася и Андрюша, и еще заходил Чернитенко, с которым я не виделась давно: он был под арестом, Андрюша был без выхода, а Чернитенко, зайдя ко мне, предупредил его, что наблюдающий мичман Аксаков уже хватился его. Потом кто-то постучал, спросив Сиднева, поговорил с ним, и Андрюша ушел с ним на форт. Вася Чернитенко шел с Круглик, и мы с Васей остались одни. Мы сидели в большой комнате, но дома никого не было. Настроение у меня было очень веселое, если верить Васе, 45 минут! Потом вдруг является Андрюша. «Ну, что?» – Да разговаривал с Аксаковым. Он, оказывается, искал меня везде. Я что-то наврал ему, уверяя, что был в каземате или в классе, кажется, поверил! «А потом ушел?» – «А что же мне на форту делать? На форту такая тоска!» Вася насмешил: когда в то воскресенье он был у меня и мы учили формулы, в столовом зале была всенощная, и мичман Аксаков приказал ему обязательно быть там. Мы закрыли дверь, и он не пошел. Потом разговоре Аксаковым: «Почему вы не были на службе?» – «Виноват, г<осподин> мичман, я был». – «Врете!» – «Нет, не вру. Я с самого начала стоял в церкви». – «Как же в церкви, когда я вас видел на частной квартире?» – «Никак нет, вы не могли меня видеть на частной квартире, потому что дверь закрыта была». Тот только махнул рукой, заорал: «Вон!», но в штрафной журнал не записал.
В воскресенье мы втроем – мальчики не могли – были на море, вернулись к вечеру усталые и довольные. Не успела я оправиться, как ко мне нагрянула «завалишинская компания», правда, без Любомирского и Остелецкого, но зато с Овчаровым. Тут я заметила, что в комнате у меня не совсем в порядке: мои знаменитые катушки от ниток куда-то исчезли, катушечные пушки на картонных полочках, около портрета Блока, тоже пропали, а книги со стихами стоят не в том порядке. По поведению мальчишек я поняла, что это дело их рук, и страшно обозлилась, что они тут хозяйничали в мое отсутствие. Они вели себя очень развязно, горланили, пели, а я сидела злая и не проронила ни слова. Потом даже неловко стало, и когда пришел Вася, я уже вошла в свою роль.
Во вторник уехали в Париж Дима Матвеев, Алеша Добровольский и Косолапенко, уехали пробивать себе дорогу в жизни. Я весь вечер проревела, не потому, что они уехали, а потому, что я осталась. Написала стихотворение, которое начинается словами: «А с каждым вторником Сфаят пустеет» и кончается: «Зачем-то сильная и молодая, Ненужным дням я потеряла счет». Твердо решила, что если ничего не выйдет с Прагой, буду всячески хлопотать о Париже, а то и так поеду куда-нибудь работать. Здесь больше нечего делать. Надо идти напролом!
Мы с Васей одного и того же хотим, одного и того же боимся. Когда вчера вечером мы сидели на гамаке, перекидываясь словами, я опять узнавала в нем того странного нечеловека, которого я любила. Я видела, что он испытывает то же. Ему хотелось меня обнять, может быть поцеловать. Когда я ощущала и ощущаю его случайные прикосновения – у меня кружится голова. Мы оба страшно чувственны. И оба сдерживались, это нужно. Мы с ним теперь друзья, мы одно и то же поняли, пережили и почувствовали. Я его люблю, но совсем не так, как раньше: он для меня просто самый близкий мальчик, с которым я связана больше, чем простым знакомством. Но я пишу совсем не то, что хочу. Я хотела написать, что хоть нас опять связывает чувственность, но с Васей мне легко и хорошо, потому что я уверена в нем и в его хорошем отношении ко мне, и мне доставляет страшное наслаждение иногда подразнить совесть и потрепать нервы. За позапрошлое воскресенье Андрюша Сиднев получил неделю ареста и месяц без отпуска.
Дежурила на камбузе и несколько раз видела Андрюшу. Первый раз увидела его через дверь – он прошел с баковым нарядом [324]324
Т. е. с нарядом по охране и обслуживанию бака (парома).
[Закрыть]– и почему-то отвернулась. Потом уже, во время раздачи завтрака, выходила из камбуза и столкнулась с ним в дверях. Он поздоровался и слегка улыбнулся. Мне хотелось взять его за обе руки, посмотреть в глаза и улыбнуться, я чуть не поздоровалась с ним за руку, кое-как ответила на поклон и убежала. После, во время ужина, я издали улыбнулась ему, а он отвернулся, сделал вид, что не замечает. Меня это кольнуло, хотя он мог отвернуться так же, как и я в первый раз. Я почему-то чувствую неловкость перед ним. Правда, хоть я его и не звала в то воскресенье, но все-таки он приходил ко мне, из-за меня, до некоторой степени. Я много думала о нем за эти дни. Много нервничала, волновалась и злилась. Ему грозит разжалование из унтер-офицеров, а не так давно был такой случай: унтер-офицер Маджугинский, будучи «без отпуска» в числе других «безотпускных», удрал с семьей Завалишиных на море. Во время их отсутствия дежурный офицер хватился их и сделал перекличку. Они еще не возвращались, а уже в Сфаяте говорили о них, что они попались и что Тиму разжалуют. И к общему удивлению, им никому ничего не было. Случай аналогичный, только с той разницей, что Маджугинский удрал к Завалишиным, а Сиднев – к Кноррингам, а это уже громадная разница! Злюсь неимоверно, тем более что чувствую себя немножко виноватой, т. е. причиной.
Днем, после экзамена, заходил Вася. Я гладила, он взял утюг, шапки и брюки Папы-Коли, затем починил chaise longue и разножку, одним словом – был в добродетельном состоянии. Вечером была служба (завтра Преображение), он хотел прийти после, а почему-то так и не пришел. Я его ждала, а вместо него пришел Вася Чернитенко. Как всегда веселый и болтливый. Разговорились. О гимназии. Он симферополец и реалист, учился, значит, в том помещении, где была наша гимназия. Заговорили о помещении, о дверях, как удобно было разбивать лбы, о том, где висели часы, где стоял шкаф и т. д. Как во время моих экзаменов, когда мы гуртом решали задачи по алгебре, так и теперь мы как-то сразу сблизились, стали опять школярами, как будто из одного класса, рассказывали всякие проделки и шалости и т. д. Легко и весело. Наши играли в винт. Мы пили чай, когда к окну подошел Дембовский. Затащила его чай пить. Он говорил о сегодняшнем экзамене (алгебра, письменный), о том, как он испугался, когда нашел у Остелецкого шпаргалку. «Ведь не могли же у меня утащить задачу из дому, я сжег все черновики, я был так осторожен», и тут же приводил примеры, как гимназисты и реалисты надували преподавателей и т. д. Спустя некоторое время, когда он ушел, Вася говорит: «Если мы когда-нибудь с вами встретимся – так года через три – напомните мне сообщить вам то, что я сейчас хотел сказать». – «А почему вы сейчас не хотите сказать?» – «Сейчас нельзя». – «Ну, даже если вы будете уезжать, так я вам скажу на палубе парохода». – «Разве это секрет сейчас?» – «Да, громадный секрет, равный плюс бесконечности». – «А тогда?» – «Тогда он будет равен нулю. Так напомните же». Заинтриговал. Наверно, закулисную сторону этого экзамена.
Вася от последнего богослужения опять словчил и получил четыре часа винтовки, четверо суток ареста и две недели «без выхода»! Если мы скоро уедем, то больше, значит, и не увидимся.
Оказывается, с Васей такая история: в понедельник, накануне Преображения, он был в церкви и вышел. К нему подлетает мичман Аксаков и начинает ругаться, что он ловчит, скрывается на частной квартире и т. д. «Никак нет, я не был на частной квартире». Тот не верит и выходит из себя: «Так где же вы тогда были?» Вася тоже вышел из себя: «Это не ваше дело!» – «Ступайте на форт!» На полдороге догоняет его: «Ну, можете идти в отпуск». – «Нет, уж теперь я не пойду». И в штрафном журнале появляется запись, что он «грубо говорил с офицером» и т. д. В результате – он прислал мне привет из карцера. Это рассказывал Минаев. Он же говорил, что ко мне сегодня собирался Сиднее. Я прождала его весь вечер, но, очевидно, что-то ему помешало, да и к лучшему, а то ведь он «без отпуска». Минаев рассказы ваз мне некоторые подробности экзаменов, как была налажена подсказка, как в этом помогали мичмана и даже сам ротный, как, например, на русском письменном он под кителем принес ему Саводника и потихоньку совал кадетам: «Тебе надо? Бери, прячь!»
А на алгебре подсаживался к кадетам (тогда Завалишин усиленно углублялся в газету) и прямо с карандашом помогал. А если сам не мог решить, то просто обращался к хорошему ученику «ну, напиши!» и переносил шпаргалки. Или на устном: у доски Петрашевич – плавает, не знает, что говорить; на первом столе Янковский пишет шпаргалку. Круглик становится между ним и столом, где сидят экзаменаторы; Петрашевич благополучно списывает; когда же у него опять заминка, Круглик берет мел и как бы машинально начинает чертить на столе. Экзамены проходят благополучно, и Дембовский в восторге оттого, как все «поразительно развились». Только на последнем он понял, страшно расстроился и обозлился, многих провалил, говорил, что «экзамен скандальный». Оно и правда.
Редко я теперь заглядываю в дневник. Жизнь моя слишком бесцветна и однообразна. Писать нечего. Дни – пустые. Ничего не делаю, немножко читаю, жду почты. Из Праги до сих пор нет никаких известий. Я дала себе слово не говорить и не думать о ней, но все мои мысли начинаются: «там, в Праге…» Говорю себе и другим, что не верю больше, но это неправда. Разве можно сознательно не верить? Это значит с головой уйти в эту пустую жизнь. Я по-прежнему одна. В воскресенье ко мне пришел Сережа Шмельц и Богдановский. Я была рада, что пришел Сережа, мне казалось, что он на что-то дуется, смотрит на меня свысока и т. д. Богдановский раньше не заходил, и мне было приятно. Как-то в один из вечеров является Вася. «Вы откуда?» – «Т…ссс! Дежурю у Жидейкина» (больной кадет Жидейкин живет в Сфаяте, и у него дежурят товарищи). Я страшно обрадовалась. Он пробыл у меня не больше 10 минут и оживил меня надолго. Я знала, что никто другой не зашел бы ко мне, значит, он относится ко мне не так, как другие.
Есть много вопросов и желаний. Я даже не могу определить их. Когда, например, я вижу хорошо одетых женщин, мне хочется хорошо одеться, всегда быть в красивом платье, хорошо, красиво причесанной и т. д. Я знаю, что могу быть интересной уже потому, что я молода и здорова; я похорошела за последнее время, и я это сама знаю. Мне хочется следить за своей внешностью, я усиленно занимаюсь ногтями и прической, а на ногах рваные чулки и туфли, старое платье. Когда я думаю о Праге, я представляю себя хорошо одетой. Иногда мне даже кажется, что это главное. Когда же я задаю себе вопрос, что бы я стала делать, если бы я получила много-много денег? – и отвечаю: пустилась бы в путешествие, занималась языками и музыкой. Когда я думаю о музыке, о том, что я могла бы быть недурной пианисткой, – мне всегда хочется плакать. Я не жалею, что жизнь выбила меня из нормальных условий, мне жаль только моей музыки. Я бы отдала все мои стихи – настоящие и будущие – чтобы быть хорошей пианисткой. Меня интересует живопись. Сегодня я смотрела номер «Illustration», [325]325
Французский литературно-художественный иллюстрированный журнал «L’Illustration» (основан в 1840-х гг.). Журнал имеет богатые культурные традиции: в нем печатались произведения И. С. Тургенева, переводы на фр. язык (впервые) повести «Капитанская дочка» А. С. Пушкина и др.
[Закрыть]и некоторые картины доставили мне большое удовольствие. Я не знаю живописи и не разбираюсь в ней, но я люблю красивое, я люблю краски. Я люблю движение, формы, хорошо сложенное человеческое тело и не знаю скульптуры. Так велика, красива и разнообразна область искусства, а я этого ничего не знаю!
В поэзии хочу добиться одного: передать движение, а вместо этого – пустые фразы!







