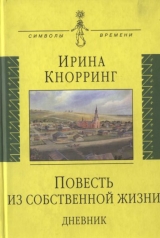
Текст книги "Повесть из собственной жизни. Дневник. Том 1"
Автор книги: Ирина Кнорринг
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 58 страниц)
Страшно привязался Сергей Сергеевич к нашей семье, как раньше к семье Кольнер. Последнее время он не пропускает у нас ни одного вечера. Очень милый и услужливый – и примус разожжет, когда всем лень, и кофе сварит; и, если керосину нет, первым делом обращаемся к нему, сегодня весь вечер мы читали вслух вчетвером Нарежного «Бурсак» [303]303
Роман В. Т. Нарежного «Бурсак. Малороссийская повесть» (М., 1824) был встречен критикой «сочувственно» и не раз переиздавался. «Русский оригинальный роман есть необыкновенное явление в нашей словесности, несмотря на то что у нас около полутора тысячи романов […] большая часть переводы; русских же, оригинальных (…] едва наберется сто […] Жалеть о том бесполезно! Утешимся надеждою на будущее: может быть, и у нас появятся свои Фильдинги, Лафонтены и Скотты – а до того времени предлагаем любителям чтения новый роман […] Ручаемся, что многие прочтут его с удовольствием», – писал журнал «Благонамеренный». Век спустя, Д. А. Шаховской, организуя новый журнал, объясняет выбор названия журнала – «Благонамеренный» – желанием подчеркнуть связь русской культуры в изгнании со своими корнями.
[Закрыть]и с большим интересом. Такие вещи хорошо так читать.
Сушко завтра отвозят в лечебницу. Он еще ничего не знает. Днем он в нормальном состоянии, а по ночам у него бывают припадки, и он бегает с шашкой по коридорам, галлюцинирует, бросается на всех. Он алкоголик и кокаинист. Пьет страшно. И все здесь пьют, т. е. мичмана, корабельные гардемарины и даже новоиспеченные гардемарины. Корабел Томашевский распух и ходит с красным носом. Его сестра, [304]304
Т. е. пропивал: «итальянец» держал маленький кабачок по дороге в Бизерту.
[Закрыть]очень богатая, несколько раз высылала ему из Франции денег на отъезд, а он их носил к итальянцу (м<ада>м Завалишина восторгается его «идейностью»). И так все. Даже младшие гардемарины, прошлогодние кадеты, пьют. Всеволод Новиков прямо невменяем. Вид у него вызывающий, тянется во всем за мичманами, увлекается строем, драит кадет, проповедует о «военном духе» и т. д. Прямо не узнать в нем кадета Новикова, который так возмущался этим режимом и строевым начальством. Вообще, эти четыре, оставленные на должности помощников отделенных начальников, ведут себя безобразно. Недавно у Васи Доманского вышел такой инцидент со Степановым. Вася стоял под винтовкой, дежурным офицером был Степанов; и вдруг ему захотелось отпустить того до срока, «из снисхождения». Он скомандовал «к ноге». Вася ответил: «Я не желаю вашего снисхождения, „к ноге“ не возьму, буду стоять до конца, а вы этого не имеете права делать!» Тот обозлился, подал рапорт начальнику строевой части, и теперь Васе грозит карцер, снятие нашивок (он унтер-офицер) и т. д. С точки зрения устава Вася был не прав, но все кадеты говорят, что на его месте они поступили бы так же. В самом деле, как противен этот тон вчерашних кадет, ставших начальством. Меньше всего я этого ждала от Всеволода – и этого тона, и пьянства, и опустишничества, разгильдяйства, почти полного падения; это погибшие люди, всем им место в сумасшедшем доме, а не быть воспитателями.
Вечером, когда все были у всенощной, у меня сидел П.Е. и все говорил о том, что я женщина, что я не должна забывать этого, должна быть всегда подтянутой и т. д. Мне было очень неприятно, во-первых, потому, что это правда – я за своей внешностью не слежу; а во-вторых, это и невозможно: как я могу быть элегантной женщиной в Папе-Колиных тапках.
Жребий. [305]305
Не ясно, о чем идет речь.
[Закрыть]
Перед обедом приходит ко мне Семенчук. «Я к вам с большой просьбой». – «В чем дело?» – «Да вот нам задано сочинение на тему: „Ученье – свет, неученье – тьма“, так напишите мне его, пожалуйста!» – «Да как же я вам могу его написать?» – «Да это тема отвлеченная, а мне очень не хочется писать». – «Да ведь тема простая, вы ее отлично напишите». – «Нет, напишите, пожалуйста, ведь вы скоро можете написать, вы хорошо пишите, много знаете, когда вам будет скучно – напишите!» – «А почему вы сами не хотите написать?» – «Не хочется, я все равно писать не буду». Упрям, настаивает: «Вы не торопитесь, мне к двадцатому». – «Нет, я вам не буду писать». – «Ну пожалуйста, напишите, ведь вам это ничего не стоит, а мне и время нет». – «Да вы уж как-нибудь выберете время». Встает. «Пожалуйста, напишите, я буду надеяться». – «Не буду!» – крикнула я ему вдогонку.
Днем, перед уроком математики сидел у меня Петр Ефимович. Я кокетничала и чувствовала, что вхожу в свою роль. Он несколько раз собирался уходить, но я его настойчиво удерживала. Мне было весело, я чувствовала в себе какую-то новую силу и не боялась ничего. «Вы играете», – говорила я. «Эта игра придумана вами!» – «Нет, вами. Вы не раз уже играли в эту игру и знаете ее до малейших деталей». – «Это не игра». – «Так чего вы от меня хотите?» – «Вы знаете чего – поцелуя!» – «И это – конец?» – «Дальнейшее зависит от вас». – «И от вас также». – «Ирина Николаевна! Если бы это было в России – это было бы совсем другое дело!» – «Да. А теперь – это игра. Я хочу играть и взять над вами верх». – «Т. е. видеть меня у ваших ног?» – «Выражаясь аллегорически – да!» – «Вы у цели?» – «Нет, мне надо искренности». – «Вам мало?» – «Да, мало. Я хочу глубокого, серьезного чувства». – «А я его боюсь!»
Я вертела в руках карандаш, а он несколько раз падал на пол. «Вот даже в этом карандаше я вижу кокетство, – говорит П.Е., – а вы говорите, что не знаете его». Я бросила карандаш на пол и следила за движением П.Е. В первый раз я испытывала чувство власти и упивалась им, как можно упиваться только в первый раз. Я посмотрела в маленькое зеркало: глаза блестели, щеки горели. «Какая вы сейчас хорошенькая». Я смеялась: «Доиграетесь со мною, смотрите». – «Что же будет?» – «Влюблюсь я в вас». – «Этого не будет никогда». Он говорил переменившимся голосом, в глазах у него горел странный огонек, я чувствовала, что победа на моей стороне. Больше ничего не надо. Теперь я ничего не боюсь, буду ходить с ним гулять и при закате, и в темноте, мне с ним весело, мне этот роман нравится, сила на моей стороне.
Я его не люблю, но играть с ним буду. Чего мне бояться? Это ново, интересно, дает сильные, душевные движения, а ими я и живу. Я горда сознанием, что хоть один человек, может быть, действительно находится у моих ног.
Получено письмо от Мимы, и очень неприятное. Пишет: «Три дня провел за чтением гумилевского набора слов и Ваших пессимистических надутых стихов…» Это так не вяжется с его предыдущими письмами, в которых он называл меня «своей учительницей», явно склонялся на мою сторону и т. д. Меня это кольнуло. Ну, да что же делать; не сумела, значит, убедить; и, значит, не гожусь еще для этой роли. И это мне неприятно.
Я настояла на прогулке с Петром Ефимовичем, однако, первый раз он захватил с собой Крючкова. А днем мы уже были одни. Я заставила его сказать все: что он любит меня, боится этого, хочет поцелуя и т. д. Я ощущала его и думала – что же дальше? Что мне еще надо? Что дальше делать. Он говорит: поцелуй, а я не могу, потому что не люблю его. Его мне не жалко, хочется поиграть еще, а он, может быть, напрасно увлекается, говорит изменившимся голосом, в глазах – огни, может быть, слёзы, мне так показалось. Потом он сидел у меня. «Что же дальше? – задала я ему наивный вопрос, – чего вы от меня хотите?» – «Вы знаете чего – поцелуя!» – «Но этого никогда не будет!» – «Так, значит, вы жестоко играете мною?» – «Да, играю». Он молча целовал мою руку. Ушел он расстроенный, и я думала – больше не придет, но он пришел, только не ко мне, а в большую комнату. Был весел, как ни в чем не бывало. Однако, когда я его звала немножко пройтись до обеда, он говорил: «Позовите Николая Николаевича, тогда пойдемте». – «А без Николая Николаевича?» – «Тогда не надо, не пойду». – «А если я вас прошу?» – «Нет, Ирина Николаевна, лучше не надо». Я не настаивала.
Прежде всего – что произошло за это время? Получила письмо от Наташи, [306]306
Речь идет о Наташе Пашковской.
[Закрыть]очень хорошее, с припиской Абрамовича, ее приятеля, тоже поэта. Стихи ее и его. В стихах есть что-то новое, но что – не могу схватить. Вчера ответила и Наташе и Абрамовичу. Он, судя по письму и отзыву Наташи, очень славный. Потом, у Тимы Маджугинского недавно в ночь было три припадка эпилепсии. Раньше этого с ним никогда не было. А глядя на него, трудно предположить, что у него скверные нервы. Мне его так жалко, что он сделался таким близким-близким мне. Когда он в среду вечером на именинах Папы-Коли был у нас, мне хотелось сделать ему что-нибудь приятное и хорошее. А ночью я поймала себя на мысли, уж не влюбилась ли я? И вслед за этим невольно вспомнился Вася Доманский. Да, тоже очень симпатичный. Я вчера написала стихотворение, посвященное ему. Мне они оба нравятся, но до любви тут еще далеко. Что ж еще? Сушко вернулся из госпиталя. Я написала пьесу «Сфаят» в 3-х картинах. Страшно холодно, вчера было +3°, сегодня, думаю, и того меньше.
Вчера днем у меня сидели Вася и Таутер, а я писала сочинение на тему «Труд кормит, а лень портит». Я писала, а они подыскивали примеры. Писала я для Васи, но и Таутер хотел воспользоваться им с некоторым изменением. Когда я писала, меня вызвала Ирина Насонова и говорит: «Леня Крючков прислал мне письмо, он без отпуска и не может прийти. Он очень просит Вас написать ему сочинение на тему: „Ученье свет, неученье тьма“. Напишите?» Я ответила, что не успею, и действительно не успела. Ирина очень волновалась и несколько раз прибегала ко мне. Я так и не написала. А сегодня слышала, как Петр Алексеевич жаловался Ирине на Крючкова, что тот ничего не знает. Не знаю, как проскочит Вася. Писала я наспех и довольно скверно, но все-таки неприятно будет, если получу скверную отметку… И перед Васей неловко.
Еще давно мы с Насоновыми договорились 24-го вечером пойти в город, зайти в костел, потолкаться по улицам, поглядеть, как французы встречают Рождество. Эти дни была скверная погода, и этот вопрос сам собою отпал. А сегодня погода хорошая, теплая, дождя нет. Я больше чем уверена, что никуда мы не пойдем. Сейчас у Мамочки машина не шьет, и к ней лучше не приступайся. Потом… да уж найдутся какие-либо причины. Разве легко раскачаться! И не то мне обидно, что не пойдем в город, а то, что никакое, даже самое маленькое удовольствие невозможно здесь. А потом – упреки, что меня ничто не интересует, что мне бы только поспать и т. д. Что хоть немножко могло бы разнообразить нашу жизнь – никогда не удается. И так – всегда.
Я все еще не могу отдать себе отчет, люблю ли я Васю или это было только минутное увлечение. Когда мы, час тому назад, сидели рядом на кровати, совсем близко, он держал мою руку и пристально смотрел на меня, мне стоило больших усилий сдерживать себя, хотелось как-то по-кошачьи обнять его, приласкать. Он был мне таким близким-близким. Мы молчали, но молчали красноречиво. Он смотрел на меня каким-то особенным пристальным взглядом, потом коснулся головой моего плеча, но вдруг, словно очнувшись, выпрямился. Меня била нервная дрожь. Так продолжалось долго, и мне не было ни страшно, ни неприятно. Как-то хорошо, по-новому хорошо. Вчера вечером я кокетничала с ним, задалась целью победить его. Он казался мне неприступной крепостью. Кокетничала с ним сегодня, когда подробно развивала ему теорию пьесы в трех действиях под двумя названиями («Любовь» и «Кокетство»). Потом не помню, о чем говорили, о чем-то хорошем, интимном. «У меня сейчас есть одно желание», – сказал он. «Какое?» – «Я не скажу». – «Почему? Нет у вас ко мне доверия?» – «Нет, не потому». – «А почему?» – «Так». – «Оно исполнимо или нет?» – «Это зависит от вас». – «Так почему же вы не хотите мне его сказать?» – «Зачем же говорить, когда все понятно!» И я понимала его. Я не хотела и не могла остановить его, освободить свою руку, как, может быть, требовалось бы; мне самой так хотелось этой ласки, этих глубоких и грустных глаз. Не знаю, во что все это выльется, что будет дальше!
С Петром Ефимовичем у меня уже давно произошел разрыв. Я ему в последний раз сказала: «Это была игра». Он не верит, говорит, что это не зависит от меня, что я не вольна в своем чувстве и т. д. Одним словом, хочет меня убедить, что я его люблю. Это меня злит. Сегодня я была с ним чересчур даже груба и резка. Я ему сказала, что он нарывается на ссору и что этого ему уже не придется повторять. Теперь я еще больше узнала его. Он – эгоист, ревнив, подозрителен и мстителен. Он, конечно, догадывается, что между мной и Васей что-то произошло, и ревнует меня к нему. Ревнует страшно, говорит кисло-сладкие слова и старается на что-то намекать. Ему сейчас больно, я верю, и хоть он и говорит, что сам виноват, но мне кажется, что он обвиняет меня и всякими упреками и подозрениями хочет отомстить мне. Но в нем есть порядочность, и я уверена, что и месть будет только между нами.
О Васе я думаю это время. Страшно хотелось его видеть. Сегодня он зашел ко мне (а не в большую комнату, как всегда), был какой-то кислый, будто расстроенный, отвечал невпопад. Мамочка, когда на минутку зашла ко мне, сразу заметила это. «Что это вы в растрепанных чувствах?» – «Устал». Врет. Разговор не кончился. Я прочла ему последние стихотворения, не знаю уж, как он их понял. «Ну, мне пора!» – говорит он. «А мне что делать?» – «Да, я знаю, что вам делать!» – «Что?» – «Не скажу». – «Почему?» – «Так». – «Почему?» – «Не все можно говорить». – «А сама я это сделаю?» – «Не сделаете». – «Почему?» – «Так». – «А вам этого хочется?» – «Хочется». – «А вы бы это сделали?» – «О, запросто!» – «Так почему же вы думаете, что я не смогу?» – «Так я на всякую гадость способен!» – «Значит, это гадость?» – «Нет, совсем даже не гадость… Я не могу все равно сказать». – «Почему?» – «Нельзя». – «А я это сделаю, Вася». – «Нет». – «Сделаю». – «Это будет зависеть от вас». – «Ну, от вас». – «Бывают моменты, когда я могу решиться на все». – «Конечно». – «А может быть, я сама могу это сделать?» – «Нет… нет!» Крепкое и долгое рукопожатие, и он оставил меня в недоумении и в сплетении каких-то странных чувств. Я понимала его. В тот момент мне действительно хотелось порвать все нормы приличия и инструкции и сыграть с ним второе действие, на которое так упорно вызывает меня Косолапенко. Люблю я его или нет – не знаю, но готова любить, хотя разум и предостерегает, и указывает на безумие и глупость. Но я его хочу. Мне нравится его ласковый взгляд, только он не всегда бывает ласковым. Любит ли он меня? В его обращении со мной есть какая-то неопределенность. Вечная недоговоренность, молчание, какая-то боязнь назвать все своим именем, неуверенность, и я не знаю, что еще. «Будьте смелей!» – сказала я ему, когда он уходил.
На этой неделе я заработала починкой больше десяти франков. И вот не знаю, куда их девать.
Вот уже второй день Рождества. В сочельник я была у всенощной (после большого перерыва), потом мы зажигали елку. В большой комнате у нас на столе стоит небольшая сосенка; Сергей Сергеевич склеил разноцветную цепь, несколько флажков, позолотил немного орехов; повесили пряников, нацепили церковных свечей и зажгли. Было хорошо и весело, пробуждались какие-то детские воспоминания. Я ждала, что придет Вася, но он не пришел, его и в церкви не было.
Вчера утром была в церкви, на форту, пришла домой, и стало грустно, невмочь. Сидела у себя в комнате одна. Пришел Петр Ефимович и начал болтать обычные глупости, усматривая то, чего нет. Я злилась про себя, но все-таки сама болтала ерунду и тревожно думала: «Неужели же Вася не придет?!» Он скоро пришел. Мне было приятно его присутствие, хотелось отделаться от П.Е. Наконец он ушел играть в шахматы. С Васей мы дурили как дети. Пошли было гулять, но замерзли и скоро вернулись. На обратном пути он взял и закрыл ставни: «Представим, что уже вечер». Мы сидели на кровати, как тогда, совсем близко и молчали. Тут должно было бы произойти кое-что сверхъестественное, если бы не пришли Сережа и Мима. Тогда мы начали играть в карты. Я все время оставалась. «Ну, ничего, – говорю, – в карты не везет, в чем-то другом везет». Вася близко наклонился ко мне и тихо сказал: «В чем? Скажите?» Глаза его блестели, и я их понимала, как и он меня понимал.
Вечером мы пили чай в большой комнате. Я сидела рядом с Васей и щелкала орехи, а он до боли сжимал мне руку. Мне надо было идти на ёлку к Насоновым и страшно не хотелось, не потому, что мне нравился этот, в сущности, пошлый жест, а потому что меня опьяняла его близость, было как-то необыкновенно хорошо угадывать в нем любящего и любимого. У Насоновых было много кадет и поэтому было весело, но моментами делалось как-то нестерпимо грустно.
Расчесывая на ночь волосы, я долго сидела неподвижно на кровати. Мне было грустно, что мы с Васей никогда не будем близкими друг с другом. Он никогда не поймет моей «второй души», моей синей тетрадки и томиков стихов; так же, как и я не пойму его кадетской удали.
Вот Вася и ушел. И если он придет ко мне в комнату, то уже не тем. Все кончено.
Сегодня я вела себя невозможно. После вчерашней сцены была реакция. С Васей опять были недомолвки. И последние полторы недели вдруг показались мне в другом виде, я поняла, что ничего не было, что это была только моя выдумка. Кончилось тем, что я глупейшим образом разревелась. Вася старался меня утешить и понимал в это время мои чувства и мысли лучше, чем я сама. «Вы сердитесь на меня?» – спрашивает. «Честное слово – нет». – «Я во всем виноват?» – «В чем?» – «Да во всем». – «Нисколько не вы, а я». – «Ну, да!» – «А разве вы чувствуете за собой какую-нибудь вину?» – «Да, чувствую». – «Нет, нет, Вася, совсем даже нет!» Он старался очернить себя, говоря, что он пустой человек, что ни на что серьезное не способен и т. д. «Теперь я все понял. Я понял еще тогда, когда вы меня ругали, называли трусом. Ну да, я трус». Только в этот момент я почувствовала, как сильно я его люблю, как он мне дорог. «Ну, не нужно расстраиваться, ведь все пройдет? Правда?» – «Ну скажите, что мне делать, чтобы загладить все? Так не будете расстраиваться? Ира, не надо, не стоит!» Он ушел, а я долго, долго плакала. И тут я поняла, что слёзы могут облегчать горе. Не то чтобы я успокоилась совсем, нет, а просто стало как-то светлее на душе, яснее. Мне не в чем его упрекать, даже в том, что он закончил эту игру. У меня просто не хватило силы воли порвать то, что начиналось, хоть я и могла видеть все уродливые концы. Я их не хотела видеть. Он оказался благоразумнее меня, это не трусость, как он сказал, а разум. Когда мне захотелось кокетничать с ним, я не думала, что все это примет такую форму. Мне казалось, что я ему сверну голову, а вышло наоборот. Мне только неприятно, что он понял больше, чем я хотела. Поэтому мне хочется еще раз повидаться с ним наедине. Пусть заглянет в мою «вторую душу», он уже и там слишком хорошо знает меня, так пусть узнает всю. Не знаю, какие у нас будут отношения. Все равно о нем у меня останутся самые хорошие воспоминания. Хотела бы, чтобы и он меня не поминал лихом.
Только полторы недели! Но эти полторы недели имеют в моей жизни больше значения, чем три месяца с Косолапенко и десять месяцев с Лисневским.
Последний разговор с Васей. До сегодняшнего дня еще ничего не было кончено. А сегодня – конец.
Мы сидели у меня. Обычные недомолвки. Я спросила его: «Да или нет?» и загадала: любит ли он меня. Он ответил: да, и стал добиваться вопроса. Кончилось тем, что я написала на клочке бумажки: «Есть ли у вас ко мне хоть немножко чувства симпатии?» И он написал свое желание. Он долго не хотел давать, и мне пришлось уступить и первой бросить ему свою записку. Он прочел и опустил голову. «Ну, теперь дайте вашу!» – «Мне стыдно». – «Вы дали слово». Он бросил свою записку, там было написано: «Я хочу вас поцеловать». Он покраснел и спрятал лицо. «Вот видите, как глупо, я бы не дал, если бы не дал слово». – «А что вы мне ответите?» После долгого колебания и отнекивания он написал: «Вы мне нравитесь, но любить Вас я не могу: я на это не способен». Я улыбнулась и скоро расплакалась. Он опять старался меня утешить, ругая себя. Я показала ему последнюю запись в дневнике. Мне хотелось ему сказать все. «Да! Я в тот вечер в Вас искал другого». – «Чего же?» – «Этого нельзя сказать! Это подлость». – «Нет, теперь уже надо все говорить». После долгого колебания он написал одно только слово: «Страсть». – «Что вы понимаете под этим словом?» (Я все плакала.) Он пожал плечами. «Вы это испытывали?» – «Да, в тот вечер». – «Все-таки я не понимаю, что вы тогда хотели». Он стоял передо мной. «Я… хотел… вами… Дальше понятно». – «Нет. Скажите, напишите!» – «Нельзя. Это гадость! Вы будете считать меня подлецом!» А спустя несколько минут написал: «Обладать». – «Что ж? Попробуйте!» – «Нет. Я вас не понимал тогда…» Тут вошла Мамочка. Я старалась спрятать лицо, но она сразу заметила красные глаза и замешательство. «Ну, что тут у вас произошло?» Вася нашелся: «Да так! Поругались немного». Мамочка скоро ушла, а мы стали совещаться, как бы спрятать концы в воду. Я плакала. Вася стоял надо мною и взял меня за руки. Потом положил голову на плечо и успокаивал, и поцеловал в голову. Я посмотрела на него: «Вася, никогда не обманывайте меня!» – «Я не обманываю». – «Вы больше не придете сюда?» – «Приду». – «Обещаете?» – «Да». – «Так же, как и теперь?» – «Только реже. Как в прошлом году». К ужину он ушел. Так прошел сегодняшний день от обеда до ужина. Кончилось все. Вася ушел, и ушла даже и мечта о нем. Что же осталось? Милый, милый Вася! Мне больно, но он не виноват. Он такой милый, порядочный. Чем же теперь жить?
А дома Мамочка с Папой-Колей долго допытывались, что между нами произошло. Я отвечала: «Ничего». Мне нездоровилось, я кисла, даже мерила температуру. «Не обидел ли, не сделал ли чего-нибудь дурного?» – «Просто у меня такое нервное состояние. Вот и сейчас плачу». Пока на этом дело и кончилось.
На душе пусто и больно. Милый Вася! Когда же я его увижу? И как нужно жить после того, что произошло.







