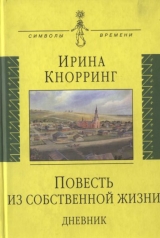
Текст книги "Повесть из собственной жизни. Дневник. Том 1"
Автор книги: Ирина Кнорринг
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 55 (всего у книги 58 страниц)
Да, так вот.
Был в субботу вечер Марины Цветаевой. [457]457
На вечере, состоявшемся 6 февраля 1926 г., М. Цветаева читала стихи, посвященные Добровольцам, Дону, Галлиполи, включенные ею в книгу «Лебединый Стан» (первое издание: «Лебединый Стан»: Стихи 1917–1921 гг. / Подготовил к печати Г. П. Струве. Вступ. ст. Ю. П. Иваска. – Мюнхен, 1957). Это был первый вечер М. Цветаевой во Франции и единственный, прошедший в Союзе.Уже в феврале 1927 г. Цветаева, занятая поисками помещения для своего ежегодного поэтического вечера, пишет: «С Союзом молодых, по сведениям, выйти не может, – они в руках у враждебной (СТАРШЕЙ) группы» (Цветаева М.Собр. соч., т. 7, с. 103). С писателями «старшей» группы отношения окончательно испортились после опубликования прозы Цветаевой «Поэт о критике» с приложением «Цветник» («Благонамеренный», Брюссель, 1926, № 2, март-апрель, с. 94–136), высмеивающей главного персонажа «старшей» группы – Г. В. Адамовича.
[Закрыть]С какими мыслями я шла? Не знаю, не помню. Чувства уже двоились, это было уже после того вечера, когда я в первый раз увидела ее. Ее вид меня разочаровал, именно разочаровал, я представляла ее прежде всего – вульгарной, а этого-то в ней и нет. Но все-таки, идя на ее вечер, я могла ругать ее, бросать задорное «не люблю!». А теперь – язык не поворачивается. Что она со мной сделала, чем так поразила – даже и не знаю. Голосом? Чтением? Жизнерадостностью? Простотой своей? Всем этим, вероятно. Я хотя там же критиковала ее стихи: «рифма плохая, расплывчато…»; но я все-таки чувствовала, что ее стихи задевают меня, как-то глубоко входят, даже не стихи, а отдельные строки, выражения. И голос, голос! И окончательно она обезоружила меня стихотворением, посвященным Ахматовой, строками: «Чернокосынька моя, чернокнижница!» [458]458
Из стихотворения М. Цветаевой «Ахматовой» («Кем полосынька твоя / Нынче выжнется?») (1921).
[Закрыть]
Я ушла какая-то совсем опустошенная. Словно она отняла у меня самое дорогое. Да, она отняла у меня веру в себя и в непоколебимость и правильность того, что я считала непоколебимо правильным.
И еще одно от субботы. Ладинский. Нарочно или ненарочно, искренно или неискренно? Зачем он говорит такие слова обо мне? Нравлюсь я ему? Не думаю. Стихи мои любит? Совсем нет. Так что же заставляет его быть таким нежным, называть «девочкой», «Ириночкой»?
Все они, «молодые» поэты, считают меня ребенком, да так, пожалуй, и есть, по сравнению с другими. К моим стихам все они относятся очень иронически, а т. к. я пользуюсь успехом у публики, то они на этом играют и выпускают меня на каждом вечере. Нет, довольно. Пусть без меня обходятся, уже надоело. Вот!
После вечера Цветаевой целый день я себе места не находила; собралась с утра голову мыть, потом бросила и поехала в город. Зашла к Кольнер и такая там была, что даже напугала всех. Потом слонялась по городу. Не ждала я этого. А теперь – просто злая. На Цветаеву не могу злиться, так переношу злость на Ладинского, на Терапиано и на всех остальных.
Да, сегодня получила анонимное письмо, довольно хорошее, начинающееся стихотворением «полуграмотного рифмоплета». Много романтики, вроде Мимы. Дает адрес, подписывается «Кондратьев», оговариваясь, что это не его фамилия. Я это письмо прочла вслух. Оно произвело сенсацию. Сначала говорили, что все это хорошо и мило, потом ворчали «аноним», особенно часто вспоминала о нем Мамочка, и это мне стало неприятно. А само письмо не произвело на меня никакого впечатления. Не верю я ему, так же как не верила и Миме, так же как не верю и Ладинскому. Завтра должно быть в «Новостях» мое стихотворение.
А может быть, правы они все, Ладинские, Терапиано, Монашевы, когда считают меня ребенком, который балуется стихами. А? Не правы ли?
Недаром сегодня утром, едучи в поезде, и потом перед лекцией Шестова в сквере перед Клюни, я написала:
Это будет сегодня. Я в это верю.
Я не знаю, где и зачем,
Но сегодня скажу о моей потере,
О тревоге моих ночей.
Я не знаю, зачем, и кто в этом волен,
И когда этот час придет,
Но предчувствием счастья, обиды и боли
Исступленно кривится рот.
Это будет сегодня. Я знаю, верю.
Будет вечер суров и нем,
Я кому-то скажу о своей потере
И сама не пойму – зачем.
И недаром, когда в припадках хандры я с отчаянием думала об эротике, я представляла себе Pont Neuf [459]459
Новый мост (фр.).
[Закрыть]и именно статую Генриха IV. Если меня сейчас спросят, нравится ли мне сейчас Ладинский, я бы ответила (про себя): нет. А если бы спросили: хочу я его видеть? Я бы также про себя ответила: да. Там, у статуи Генриха IV, я почти боялась его, как когда-то Сергея Сергеевича, и хотела, как Васю. Тут далеко до какого бы то ни было увлечения, и зачем он… нет, не скажу. Зачем он вошел в мою жизнь? Вот что. Нет, отчего у меня не нашлось нужных слов, почему я не высмеяла его? Потому, что сама хочу эротики? Да, я в порыве тоски говорила: влюбить бы, что ли, положить бы пятно на совесть, да помучиться?! А тут – противно.
Ну, уж только другой раз я над ним поиздеваюсь. Заведу его на это же место и поцеловать себя дам, а потом – еле кланяться, победа будет моя. Надо сразу. А жизнь, нет – душа, как-то вдруг опустела. Все-таки как-то больно видеть в человеке не то, что хочешь в нем видеть. Эх, Антонин Петрович, как не вяжутся Ваши стихи с Вашими жестами. Неужели же Вы не можете видеть во мне – не ребенка, и вообще в женщине – человека?
Папа-Коля, прочтя мое последнее стихотворение, страшно расхандрился. На вопрос Мамочки, почему он такой, отвечал: «Да нет, ничего, так», а когда она вышла: «Ирина, когда ты это написала?» – «В субботу». – «А когда именно?» – «Перед лекцией Шестова». – «Ужасное стихотворение! Ужасное! Я просто в себя прийти не могу». Я уже понимала все. И опять между нами почувствовалась какая-то недоговоренность, что не обо всем можно говорить, и лучше не произносить имени Ладинского. Почему? Все идет так, как два года тому назад.
Вчера Папе-Коле нужно было ехать в город. Мне тоже. «Ирина, едем в 4?» – «Нет, мне рано», – а просто не хотела ехать вместе, я знала, для чего, и это меня пугало. О чем говорить? И все-таки вышло так, что Папа-Коля поехал тоже в 5. В вагоне сел рядом со мной, молчали. Я уже в недоумении думала: «Ну?» Наконец: «Ирина, мне хочется с тобой поговорить». – «Давай, поговорим». И он говорил тихо, волнуясь. «Мне кажется, что ты увлекаешься Ладинским. Мне так кажется, сопоставляя твои стихи с твоими рассказами. Это, конечно, вполне понятно и естественно. Было бы странно, если бы в эти годы ты не испытывала потребности любить. Но, Ирина, любовь часто смешивается с чувственностью. Когда я прочел твое последнее стихотворение – у меня просто ноги подкосились. Ирина, милая, будь осторожна. Люди такие подлые. Я ничего не хочу сказать дурного про Ладинского, я говорю вообще. А ты человек неуравновешенный. И ты неопытна в этих делах. Ты жила в таких условиях, где ты не могла почерпнуть таких знаний. И ты такая, что тебя легко покорить, что ли. Ведь берут не поперек, а начинают с ласковых слов. И странно: эти слова в продолжение ста лет одни и те же, и сколько на эту удочку попадается! Это вопрос простой, но к нему надо подходить строго. Просто и строго. Я за тебя боюсь, ну… просто голова закружится. Я боюсь, что ты один раз придешь и скажешь… ну, буду говорить грубо, что ты – женщина; я этого не переживу». Возражать было нечего. Разве это – не мои слова? «Теперешняя молодежь скверная, Ирина. Мне кажется, что в этом отношении Вася был чище их, просто потому, что был еще мальчик, сам ничего не знал». При имени Васи я тихо улыбнулась. Воспоминание о нем даже не было неприятно. «Так ты говоришь, что не увлекаешься Ладинским?» – «Нет». – «А он тобой?» – «Это уже скорее». А потом: «Он говорил, что любит тебя?» Он мог это говорить?! Да и не любит он меня совсем.
И сейчас я пишу и плачу. Дома никого нет. Мне невыносимо грустно. Оттого ли, что я не люблю Ладинского? Оттого ли, что между нами все-таки есть что-то? Ведь нельзя же сказать, что между нами ничего не было: разве он мне не целовал руку? Разве он не коснулся головой моего плеча, там, на Pont Neuf, я даже не обратила на это особого внимания; разве… – и чем больше я вспоминаю подробности наших встреч, тем темнее и грубее представляется мне Ладинский. Какое уже тут увлечение! И все-таки мне жаль, что он не смог остаться мне просто «знакомым», он интересный человек, много читал, всем интересуется. И это был единственный человек, с кот<орым> я встречалась, и единственный, который со мной не скучал (т. е., может быть, и не скучал потому, что «ухаживал»). Мне только себя жалко, свою молодость.
Сначала неудачи: мое стихотворение до сих пор не напечатано в «Новостях». Наверно, уже и не будет напечатано. «Перезвоны» утешили, напечатали: «Я старости боюсь, не смерти», [460]460
«Перезвоны», 1926, № 13 (5), февраль, с. 360.
[Закрыть]только зачем надо было озаглавливать первой строчкой? Кто их просил? А номера мне так и не прислали, это Папа-Коля в библиотеке видел.
Я старости боюсь, не смерти
Я старости боюсь, не смерти.
Той медленной, как бред, поры,
Когда озлобленное сердце
Устанет от пустой игры.
Когда в волненьях жизни грубой
Ум станет властен над душой
И мудрость перекосит губы
Усмешкой медленной и злой.
Когда тревога впечатлений
Сухой души не опалит
Ни очертаньем лунной тени,
Ни бодрым запахом земли.
Когда вопросов гулкий ропот,
Ошибки, грезы и печаль
Заменит равнодушный опыт
И уж привычная мораль.
Когда года смотреть научат
На все с надменной высоты.
И станет мир наивно скучным,
Совсем понятным и простым.
И жизнь польется без ошибки,
Без впечатлений и тревог…
Лишь в снисходительной улыбке —
Чуть уловимый холодок.
Париж, 24.XI.1925
И у поэтов все нет и нет ничего – ни вечеров, ни собраний, ни альманахов. И работы нет.
Да, в среду я взяла и пошла к Масловой. Она очень участливо отнеслась ко мне, я даже не ждала, и, несмотря на то что у нее свой кадр работниц, обещала прислать пневматичку. [461]461
От pneu (фр.) – пневматическая почта, пневматик-телеграмма.
[Закрыть]Одно только мне тут неприятно, что я сказала, будто мадам Лишина направила меня к ней. Это и правда, но только это было два месяца тому назад. Надо будет завтра заехать к Лишиной.
Еще собираюсь поступить в Институт социальных и политических наук [462]462
Франко-русский институт социальных и политических наук (часто называемый: Франко-русский институт) был организован по инициативе Русской академической группы в Париже в 1926 г., председателем Института стал социолог Гастон Жез, председателем совета профессоров – П. Н. Милюков. Институт давал знания, необходимые для поступления в докторат и защиты диссертации в Сорбонне. Торжественное собрание по случаю открытия Института состоялось в Сорбонне 28 марта 1926 г. Занятия в Институте начались 15 апреля.
[Закрыть]– открывается такой. Что меня толкает? История и политика? Просто желание чему-нибудь учиться? Пустота жизни? Не знаю. Но заниматься собираюсь серьезно и принесу в жертву этому и группу французского, и вечера поэтов.
Постараюсь восстановить все, что было с субботы.
Суббота. Иду в Сорбонну, читаю на ходу. Вдруг: «Ирина Николаевна», – Терапиано. Заговорились. Он говорил о вечере, посвященном Есенину, [463]463
В Париже состоялось два вечера памяти поэта: 14 января – в Союзе русских художников в Париже, где И. Зданевич сделал доклад «Сон Есенина»; 27 февраля 1926 г. – в Союзе молодых поэтов и писателей (о котором ниже повествует Ирина).
[Закрыть]кот<орый> будет в субботу, о том-другом. В результате я на полчаса опоздала на лекцию. Решила не ходить совсем и пошла к Лишиной. Оказывается, она там уже и не живет давно, узнала новый адрес. Прослонялась до самой лекции Шестова. Там опять встретилась с тем молодым художником, [464]464
Речь идет о Л. А. Чистовском.
[Закрыть]кот<орый> на «Дне декабристов» [465]465
Речь идет о торжестве, состоявшемся 27 декабря в Сорбонне по случаю 100-летия декабрьского восстания. В торжестве, организованном Русской академической группой, участвовали русские и французские деятели науки и культуры.
[Закрыть]подошел ко мне и просил написать одно стихотворение. На этой лекции мы встречаемся. Я ему еще одно стихотворение написала, а прошлый раз он все просил еще написать, говорит, что очень любит мои стихи. Встретила Ладинского. Он меня проводил до метро; а потом уговорил пойти в кафе, и целый час мы там просидели. Он мне читал стихи, говорили о поэтах, о журналах и так было хорошо, что и уходить не хотелось.
Воскресенье. Вечером были на концерте русской консерватории, посвященном Чайковскому. [466]466
Перед концертом слово о творчестве композитора произнес князь С. М. Волконский.
[Закрыть]Никогда еще ни один концерт не производил на меня такого впечатления. Особенно «Трио» Чайковского в исполнении Рахманова, Могилевского и Раи Гарбузовой. Был момент, уже в третьей части, каждый нерв во мне задрожал, и я боялась, что буду кричать или плакать. И так было до последнего аккорда (хотя заканчивается как раз не аккордом). Рая Гарбузова мне очень понравилась – девочка с белым бантом, и совершенно не ломается, когда играет, выражение такое серьезное, по-детски оттопыриваются губы, и совсем уже детский жест – вытирает руку о бок платья. Играет хорошо, и это не мое мнение, а знатоков; говорят, что Белоусов не достигает такой виртуозности. Хорошо, как никогда, играл Могилевский.
Понедельник. Еще на той неделе Демидов спрашивал Папу-Колю: «А почему ваша поэтесса не дает нам больше стихов?» – «Зачем она вам будет давать, если вы ее не печатаете?» – «Как? Ведь прошлое стихотворение очень скоро было напечатано?» – «Да совсем оно напечатано не было». – «Не может быть». – «Да уж верно». – «Нет, я вас уверяю, что оно было, я вам сейчас докажу». И начал по одному номеру все газеты перелистывать, до самого «Рождества». «Да, действительно. Тут какое-то недоразумение. Тогда вы, пожалуйста, принесите два стихотворения». В понедельник Папа-Коля отнес и «В Россию». Последнее на него (на Демидова. – И.Н.)произвело большое впечатление. Первое – «Переплески южных морей» – отнес сейчас же сдавать в набор. И тут вышло недоразумение: требуется заглавие. Поляков (метронпаж) не пропускает. Нельзя. Крупный разговор вышел у Папы-Коли с Демидовым, решили, что я сама приду говорить. Я обозлилась и решила ругаться.
Вторник. Пошла в «Новости». У дверей встречаюсь с Демидовым. Он с одной стороны подходит, я – с другой. Берет меня за обе руки: «Заглавие!» – «Не могу». – «Надо». – «Нельзя!» – «Ну, потолкуем». Пошли в кабинет. Начали толковать. «Ну разве уже нельзя без заглавия?» – «Нельзя. У нас даже „трех звездочек“ нет». – «Так назовите просто: стихотворение». – «Нет, нельзя. Павел Николаевич тоже говорит, что нельзя». – «Ну, тогда уж назовите первой строчкой». – «А вот Павел Николаевич два раза прочел и предполагает назвать: „Я не помню“, – так, кажется, у вас третья строфа начинается…» Я задумалась, это, пожалуй, неплохо. Пробовала еще доказывать, что такие стихи озаглавливать нельзя, но, видя, что спорить бесполезно, а стихотворение уже набирается, согласилась. «Ну, вот я очень рад, что мы на этом сошлись. А уж в следующий раз, пожалуйста, сами придумайте. И, пожалуйста, давайте еще; у нас еще есть одно ваше „В Россию“, оно тоже принято, а потом все-таки еще дайте. Я знаю, что вы на нас сердитесь, но знаете, я был убежден…» Расстались друзьями.
У Поволоцкого видела «Перезвоны». [467]467
Речь идет о книжном магазине «Я. Поволоцкий и Ко» (13, rue Bonaparte), там же находилось «Русское издательство Я. Поволоцкого и Ко».
[Закрыть]Напечатано хорошо, опечаток нет. Дома меня уговаривают пойти к Зайцеву и выяснить насчет авторского номера. А мне что-то не хочется к нему идти.
Да, еще вчера сделала важное дело: послала стихи в «Благонамеренный». Тоже не хотелось мне этого делать, и думаю, что сделала глупость. Пока что мне везло, стихи печатались везде, куда я их посылала (только не тогда и не там, куда меня просили прислать), и боюсь, что на благонамеренном фронте потерплю поражение. Просила ответить.
Мое стихотворение, написанное в субботу, заканчивается словами:
С меня довольно неудач Последней, глупенькой недели.
Для комментария придется вернуться к позапрошлой неделе. Дело в том, что Каннабих (секретарь Народного Университета) устроил меня в мастерскую Моравских в качестве brodeuse [468]468
Вышивальщица (фр.).
[Закрыть]. С первого же дня я почувствовала, что долго там не пробуду. О том, как я плакала в поезде после первого дня, и о том вообще, что было в этой мастерской, говорить не стоит: мелочно и грустно. Я дома не все говорила.
Так вот – прямо к той субботе. Выхлопотала себе semaine anglaise [469]469
Английская неделя (неделя с двумя выходными днями) (фр.).
[Закрыть], пошла на лекцию Левинсона. Ее не было, пошла к Кольнер, все, одним словом, как полагается. На лекции Шестова встретила художника, кот<орого> зовут Лев Александрович, и Ладинского. (Лекция была очень интересная). Потом пошла с Ладинским в Café de la Sorbonne – все как полагается. Может быть, об этом писать не стоит, но эти мелочи, эти встречи, разговоры придают особый колорит. Оттуда пошла на собрание профессоров и студентов будущего Института социальных наук. [470]470
На одном из таких собраний (27 февраля 1926 г.) было организовано «Общество студентов Франко-русского института социальных и политических наук», под эгидой которого проходили встречи, вечера, акции взаимопомощи, описываемые И. Кнорринг.
[Закрыть]Хорошее помещение. Новое здание École communale [471]471
Коммунальная школа (фр.).
[Закрыть], [472]472
Франко-русский институт располагался в Коммунальной школе по адресу: 96, boulevard Raspail.
[Закрыть]в самой глубине Латинского квартала. Собрание интересное, так и хотелось скорее начать занятия. Но пока еще занятия не начались, пока я не вошла, не прикоснулась близко к этому делу – я ничего не буду писать ни о публике, ни о собрании, ни о своих планах и надеждах.
Еле досидела до перерыва, записалась и бегом помчалась на Defent-Rochereau, на Есенинский вечер. Пришла около десяти часов. Читает «артист» Тихомиров. Вечер в капелле. Влетаю – за кассой сидит один Монашев, мы как-то очень обрадовались друг другу, он мне даже руку поцеловал. По-товарищески разговорились, даже не хотелось идти в зал. Пошли наконец. Тихомиров читал, по-моему, безобразно. Я терпеть не могу вообще «чтения с выражением», а особенно с таким пафосом, с замиранием; и еще привирал вдобавок, например, вместо «За неверие в благодать» читал: «За неверие и благодать». [473]473
Из стихотворения С. Есенина «Мне осталась одна забава» (1923).
[Закрыть]А сами стихи были замечательно хороши, я слушала как зачарованная. Нет, вру. Я не могла даже слушать как следует. Я очень устала, а первая стадия усталости – необычайная веселость. Особенно это сказалось во втором отделении. В перерыве я сказала Монашеву, что читать не буду, он пробовал убеждать, но, видя, что на этот раз я не сдамся, переговорил с Терапиано и гарантировал мне «свободу». Я осталась сидеть в самом конце, со мной был Лев Александрович. Он начинает мной увлекаться, и это мне приятно. Первым выступал Осоргин, читал письмо из Москвы, одно стихотворение из неизвестных и сказал очень хорошо и умно несколько слов о Есенине. А как я себя вела – стыдно вспомнить. Я сидела около двери, она не закрывалась, все ходили, шум с улицы мешал; наконец Л.А. заставил ее стулом, и когда кто-то вышел, чуть этот стул не грохнулся. Глупо все, но я расхохоталась как безумная, упала головой на скамейку и закрыла лицо. Л.А. этого не забудет. Этот вечер нас сблизил. Читали Монашев (против ожидания – второе довольно хорошее), Луцкий (прекрасные) и Ладинский. Терапиано: «Четвертый поэт, стоящий в программе, читать не может», – и опять Тихомиров. Ушла – усталая, веселая и довольная, больше всего – тем, что не читала.
Воскресенье– очень хорошее стихотворение Ю. Терапиано в «Днях». [474]474
«Дни», 1926,28 февраля, № 942, с. 3.
[Закрыть]
Смерть друга
В пустыне странствовать —
По россыпям песка,
По вызолоченным солнцем травам;
Встречать зарю упругим колокольцем,
Ночью
Увидеть в книге звезд желанный знак —
Такие странствия
Ведут к покою.
Белый,
Покрытый пылью,
Я видел лик твой,
Мой любимый друг,
Когда лежал ты на ковре в пустыне,
И к горизонту —
Солнце уходило,
А позади нас – оставались – степь,
Пустой шатер.
Два раненых верблюда
И тот прозрачный
И тяжелый воздух,
В котором
Коршуны вились над телом.
Покой тебе да будет в этом мире,
Песок – твоим последним нежным ложем,
А слезы тех, которые любили,
Воспоминаньем
Хаазали-друга,
Скончавшегося
На пути В Багдад.
Ах, да, еще суббота. Говорили по поводу моего «Я не помню». [475]475
ПН, 1926, 25 февраля, № 1800, с. 3.
[Закрыть]
Я не помню…
Переплески южных морей,
Перепевы северных вьюг —
Все смешалось в душе моей
И слилось в безысходный круг.
На снегу широких долин
У меня мимозы цветут.
А моя голубая полынь
Одинакова там и тут.
Я не помню, в каком краю
Так зловеще-красив закат.
Я не знаю, что больше люблю —
Треск лягушек Или цикад.
Я не помню, когда и где
Голубела гора вдали,
И зачем на тихой воде
Золотые кувшинки цвели.
И остались в душе моей
Недопетой песней без слов
Перезвоны далеких церквей,
Пересветы арабских костров.
Лучше всех сказал Мамченко: «Мне очень понравилось ваше стихотворение. Так вот, мне „Рождество“ понравилось, за „Рождество“ я тогда, на толстовском утре в Сорбонне [476]476
Речь идет об утреннике, посвященном памяти писателя графа А. К. Толстого (по случаю 50-летия со дня кончины).
[Закрыть]вашу маму без очереди пустил. И за это я вас очень благодарю. Серьезно. Я вас раньше не любил, а вот это… Я вам за это стихотворение когда-нибудь жизнь спасу!..»
Итак, воскресенье – стихотворение Терапиано «Смерть друга», хорошее. Понедельник – ничего. Возобновились уроки французского. Вторник – ничего. Среда – прихожу домой: две открытки. От Зайцева и от Шаховского. Зайцева я просила прислать «Перезвоны», – говорит, чтобы обратилась к некоему Аптекману и что он уже давно сообщил мой адрес. А Шаховской пишет, что в № 2 «не осталось ни одного уголка», поэтому «Цветаевой» придется заменить. [477]477
Речь идет о втором номере журнала «Благонамеренный», для которого И. Кнорринг послала Д. А. Шаховскому стихотворение «Цветаевой», написанное ею под впечатлением от поэтического вечера.
[Закрыть]
Цветаевой
Целый день по улицам слонялась.
Падал дождь, закруживая пыль.
Не пойму, как я жива осталась,
Не попала под автомобиль.
На безлюдных, темных перекрестках
Озиралась, выбившись из сил.
Бил в лицо мне дождь и ветер хлесткий,
И ажан куда-то не пустил.
Я не знаю – сердце ли боролось,
Рифмами и ямбами звеня?
Или тот вчерашний женский голос
Слишком много отнял у меня?
<7 февраля 1926>
И еще, редакторская манера: «а не находите ли вы, что в последней строчке лучше бы…» Тьфу! Ни один редактор без этого не может. Оба эти письма меня одинаково расстроили.
Четверг.Ушла от Моравских. Т. е., вернее, меня «ушли». Мне кажется, я понимаю, в чем тут дело. Лидия Николаевна Брискорн была приглашена Моравской на несколько часов в день (она работает дома) показывать вышивальщицам эту работу. Она очень придиралась ко мне, а потом вдруг, когда Моравская вошла, вызвала ее в другую комнату, и сейчас же меня перевели на другую работу, а вечером я ушла. Может быть, она не хотела работать со мной, потому что я знаю ее прошлое? Продолжение сфаятских интриг.
В утешение было напечатано «В Россию», [478]478
ПН, 1926, 4 марта, № 1807, с. 3.
[Закрыть]но и то, как безобразно, не на хорошем месте.
В Россию
Я туда не скоро возвращусь.
Ты скажи: что эти годы значат?
Изменилась ли шальная Русь
Или прежнею кликушей плачет?
Так же ли подсолнухи лущит,
В хороводах пестрой юбкой пляшет, —
Вековыми соснами шумит,
Ветряными мельницами машет?
Край, который мыслью не объять,
Край, который мне и вспомнить нечем.
Там меня рождала в стонах мать,
Там у гроба мне поставят свечи.
27 —I– <19>26
Пятница.Неприятного, кажется, ничего.
Суббота.Результаты «конкурса». Мне этот конкурс целую ночь снился! Хорошо, что я последнее время была занята не тем, и вспомнила о нем только накануне. С замиранием сердца смотрела «Звено», и – премия: Резников и Гингер. Это бы еще ничего. Это всегда можно объяснить, что дело не совсем чисто (да оно и верно), но факта не изменить: стихотворение, самое, на мой взгляд, плохое, кот<орое> кончалось: «И странною думой я занят: / Плывет он (корабль) в… даль. / И он никуда не пристанет. / И к нам возвратится едва ль» и «Помолясь смиренно Богу, / Попроси прощенья» – получило 15–20 голосов, а мое – в числе других пяти – «меньше десяти!» Присуждение премии меня рассмешило, а моя неудача, скандальная, огорчила, хотя меня сильно утешило, что и Кузнецова попала в эту категорию, и то стихотворение, кот<орое> мне больше всего понравилось. У нас, неудачников, есть крупный козырь: сама Цветаева, [479]479
Речь идет о прошедшем конкурсе «Звена» и о стихотворении М. Цветаевой «Старинное благоговенье» (впервые: «Благонамеренный», № 2, март-апрель, 1926, с. 21). В жюри конкурса входили Г. Адамович, К. Мочульский и З. Гиппиус. «В полном тройственном согласии, – пишет Г. Адамович, – мы забраковали, как совсем негодное, стихотворение Цветаевой» (цитируется по: Литературная энциклопедия русского зарубежья. 1918–1940: Периодика и литературные центры, с. 160).
[Закрыть]не знаю для каких целей, посылала стихотворение на конкурс, и оно даже не было напечатано. Она сама об этом говорила, и даже в присутствии Адамовича и Мочульского.
Так, немножко неловко. Приезжаю прямо на лекцию Шестова. Ладинский, как будто подсмеивается, хотя тут же добавляет: «Ну, конечно, все это ничего не значит». Лев Александрович просит написать ему стихотворение: «Ведь вы мне обещали?» – «Да у меня нет!» Кончилось тем, что мы втроем пришли в кафе Сорбонны, где я и написала ему это стихотворение. (Еще одна неудача субботы – письмо от Аптекмана: номера сейчас у него нет, а насчет гонорара – «не было распоряжения из Риги»). Ладинский говорил: «Спрашиваю у Адамовича: „Чье стихотворение будет в следующем номере ‘Звена’“. „Не то, – говорит, – Галины Кузнецовой, не то Ирины Кнорринг“». Скажите на милость, не различает. Теперь нас будут на одну доску ставить.
Соблазнила Л. А. в концерт консерватории [480]480
В концерте, состоявшемся в Русской консерватории 6 марта 1926 г., участвовал Александр Черепнин. Вступительное слово о русской музыке сказал музыкальный критик Б. Ф. Шлецер.
[Закрыть]– музыка Прокофьева, Черепнина и Стравинского. Там мы встретились. Концерт очень интересный и, кажется, мои неудачи кончились. Довольно.
В субботу Папа-Коля отнес «Цветаевой» в «Новости». Демидов поморщился (не любит он ее), но обещал напечатать скоро. «Вероятно, в четверг». А вчера Папа-Коля видел листок на столе Милюкова, значит, завтра не будет. Ну, я завтра кончу писать. Мне хочется написать о романсах Стравинского.







