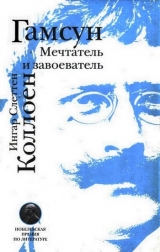
Текст книги "Гамсун. Мечтатель и завоеватель"
Автор книги: Ингар Коллоен
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 35 страниц)
Согласно наблюдениям Лангфельда, с самого первого дня Гамсун то и дело легко выходил из себя и часто разражался бранью. В своем отчете судебным органам Лангфельд умолчал о некоторых важных деталях, связанных с пребыванием Гамсуна в психиатрической клинике: «Говорит, что плохо слышит, и просит чтобы мы писали ему свои требования. Выходит из себя по поводу того, что ему не возвращают такие его вещи, как часы, булавку для галстука и т. д. Аппетит хороший. Считает, что в его комнате холодно, утверждает, что мерзнет. Был взволнован, когда медсестра сказала, что свет необходимо потушить. Он спросил, как такое может быть в подобном заведении. Когда медсестра объяснила, что будет ночное освещение, он обрадовался. „Вот и хорошо“, – сказал он».
В отчете для генерального прокурора Лангфельд не счел необходимым также указать причины шока, пережитого Гамсуном, а следовательно, и его раздражительности. Дело в том, что его поместили в палату для буйных. Она была очень тесной, с глазком в двери. Путь в нее лежал через зал, в котором обычно находились около десяти пациентов с различной степенью нервных расстройств которые иногда здесь спали и именно здесь проводили большую часть своего времени.
В отчете Лангфельда цитируется следующая запись от 20 октября, сделанная одной из медсестер: «Пациент в хорошем настроении, вежлив и приветлив». Он при этом опустил целый абзац из записей в медицинской карте, где одна из сестер пишет прямо противоположное: «На предложение побрить пациента тот рассердился, начал возмущаться, заявляя, что привык бриться по воскресеньям и что так и должно быть. Медсестра обратила внимание пациента на то, что по воскресеньям здесь никого не бреют. „Может быть, и так“, – возразил пациент, отказался от бритья и продолжал читать».
26 октября состоялась очередная беседа Гамсуна с профессором Лангфельдом, в ходе которой Гамсун рассказал в том числе о своем детстве и о пребывании в доме дяди; в своем отчете профессор приводит цитату из рассказа Гамсуна о своей жизни: «На моем теле до сих пор есть отметины от его щипков». Потом Лангфельду удалось перевести разговор на политику. И вот что он услышал: «Гитлер – это просто хамовитый тип. Постоянно твердил „я“ да „я“. Геббельс, безусловно, яркая личность, очень приятный человек. А Гитлер производил впечатление подмастерья маляра».
29 октября Лангфельд записал, что Гамсун по-прежнему находится в хорошем расположении духа. При этом он проигнорировал записи, сделанные медсестрой отделения, которые свидетельствуют о том, в каких трудных условиях пришлось находиться Гамсуну и как прекрасно он справлялся с ними: «Пациент горячо поблагодарил за обед. Потом он получил передачу – баночку с мазью. Медсестра попросила отдать ей бечевку, которой был перевязан сверток, а пациент стал отказываться вернуть ее. Он сказал, что у него самого есть нечто, что он хотел бы перевязать этой бечевкой. Когда сестра указала ему на то, что это противоречит внутреннему распорядку, он засмеялся и заметил, что вешаться отнюдь не собирается. Он попросил также разрешения ложиться спать чуть позднее, а то ночь кажется ему такой долгой, на что медсестра указала, что он должен отходить ко сну ровно в 19.00, и никак иначе. „Хорошо“, – сказал он».
31 октября состоялась последняя беседа Лангфельда с Гамсуном, перед тем как профессор должен был написать свое заключение. Если судить по его записям, речь шла исключительно о политике. Лангфельд отметил, что у Гамсуна стали возникать некоторые новые идеи, которые явно шли вразрез с прежними, он пишет: «Постепенно у него закралось подозрение, что у немцев были планы так же жестоко управлять Европой, как если бы это делали англичане. Гамсун пришел к выводу, что в конечном итоге хорошо, что немецкий режим прекратил свое существование <…>. „Хорошо, что я остался в стороне. Хотя, что толку в этом“».
Времени у Лангфельда не оставалось. Фактически он действовал уже противозаконно, когда на следующий день отправил письмо генеральному прокурору, в котором рекомендовал провести полное медицинское освидетельствование Гамсуна, для того чтобы наиболее точно установить, как далеко зашло к 1940 году ослабление его умственных способностей.
В подкрепление своей позиции профессор выдвинул два аргумента. Во-первых, неврологическое обследование показало, что Гамсун страдает склерозом. Во-вторых, он подавлен, не проявляет интереса ни к самому себе, ни к событиям вокруг, часто разговаривает сам с собой, засыпает посреди дня.
Следует подчеркнуть, что ни один журналист в это время не был допущен в клинику, некому было засвидетельствовать, что поведение Гамсуна было гораздо более многообразным.
В комнате у Гамсуна была книга «Манана», написанная вторым мужем Сесилии Хансом Андреасеном. Потом, через много лет, профессор Лангфельд, к своему изумлению, обнаружит, что его восьмидесятишестилетний подопечный страдал ослаблением умственных способностей не более, чем он сам и другие врачи и сестры. На последних пустых страницах книги своего зятя Гамсун вел тайный дневник.
Жизнь среди психически больных людей становилась невыносимой. 29 октября Гамсун записал в своем дневнике: «Сегодня закончились две недели, проведенные мною здесь. Пациент выписывается. Его состояние хуже прежнего, но он очень доволен». На следующий день он вывел каракулями выражение, касающееся того, как здешний персонал будил пациентов: «Они шарили по мне руками».
6 ноября, узнав, что его задержат в клинике еще на какое-то время, он следующим образом описал свое существование: «Три закрытых двери, которые надо миновать, чтобы дойти до моей „комнаты“, три запертые двери, чтобы выйти обратно. Здесь находятся три камеры, одна из которых – моя. В каждой крохотное застекленное окошко на стене. Если им что-то нужно от пациента, в окошке на стене появляется голова».
10 ноября дрожащей рукой он записал то, что услышал от Лангфельда во время разговора с ним: «Не ранее Рождества». На следующий день записал свою реакцию на это: «Черное воскресенье, ужасно» [478]478
Экземпляр книги «Манана», на страницах которой имеются тайные записи Гамсуна, принадлежит дочери Ханса Андреасена.
[Закрыть].
Итак, на вопрос, кто приложил руку к тому, чтобы признать Гамсуна недееспособным, ответ может быть следующий: во-первых, органы правосудия, которые в течение нескольких суток незаконно держали его в больнице; во-вторых, присяжный адвокат представлял его однозначно в плохом свете; в-третьих, Лангфельд, нарушивший этические принципы врача, а возможно, и закон.
А тут на Гамсуна обрушилось и нечто более серьезное, чем то, что он воспринимал хуже грозившей ему тюрьмы, и из-за чего он даже заявил, что его подвергли пытке.
Что же произошло?
Борьба и предательство
Ему предстояло оставаться в психиатрической клинике по крайней мере до начала января. Именно это сообщил Гамсуну главный врач Габриель Лангфельд, между прочим, за два дня до того, как дал согласие на судебный процесс над Гамсуном.
Не будем забывать, что в клинику писатель был доставлен полицией, потому что норвежские власти с самого начала хотели, чтобы его политические взгляды стали сферой психиатрии.
В соответствии с требованиями закона были назначены два эксперта. Гамсуну легко было общаться с Эрнульфом Эдегордом, с которым у него состоялось несколько бесед. Эрнульф Эдегорд заведовал другой психиатрической клиникой в Осло, и он был отнюдь не такой суровой и авторитарной личностью, как доктор Лангфельд.
Верный своей натуре, Гамсун воспринимал этих двух людей как антиподов.
Конечно же, как и на Лангфельде, так и на самом Гамсуне лежит ответственность за то, что их беседы превратились в серию конфликтов между двумя сильными личностями, между двумя мужчинами. Но при этом только у одного из них было право вводить правила игры и требовать их неукоснительного исполнения. Ситуация была вопиюще неравной. Лангфельд, облаченный в белый халат и окруженный подчиняющимися ему врачами и сестрами, обладал всей полнотой власти над Гамсуном и разными способами постоянно давал ему понять, что тот всего-навсего один из пациентов его клиники, а это была именно та роль, на которую Гамсун менее всего годился.
Первые два месяца Гамсун находился в палате, напоминавшей тюремную камеру и выходившей в общий зал. Потом он был переведен в несколько лучшее помещение, которое позднее описал в своей книге «На заросших тропинках»: «…меня перевели этажом выше и поместили не в камеру, а в боковую комнату с обыкновенной закрывающейся дверью, за что я и преисполнился благодарности. В отличие от камеры, где все было безумием, в комнате мне показалось светлей и уютней, мне позволили пользоваться ножом и вилкой и через какое-то время вернули часы». В дальнейшем все в большей степени общение между Лангфельдом и Гамсуном происходило таким образом: профессор формулировал свои вопросы в письменной форме, а Гамсун тоже в письменной форме отвечал на них. Причина того, что Гамсун получал заданные вопросы в письменной форме, понятна, она связана с глухотой Гамсуна, но что касается требования давать ответы в письменной форме, то это, безусловно, было совершенно ненужным и к тому же очень утомительным для человека, которому восемьдесят шесть лет. Зато облегчало работу Лангфельду. Впоследствии Гамсун с полным на то основанием жаловался, что из-за требования доктора Лангфельда он совершенно разрушил свое зрение, так как в клинике было очень плохое освещение.
Гамсун не питал ни малейшего уважения к Лангфельду как специалисту в области медицины, несмотря на то что у того была очень высокая репутация в профессиональных кругах. У Гамсуна сложилось впечатление, что профессор Лангфельд всеми силами стремится сделать из него некую плоскую, одномерную фигуру, то есть именно такую, какую он сам пытался изгнать из литературы полстолетия назад. И Гамсун справедливо считал, что это доктору не по зубам.
Однажды профессор попросил Гамсуна описать собственные характерные черты.
«Характерные черты!» – сердито написал Гамсун и тут же стал просвещать специалиста по нервным болезням: «В период так называемого „натурализма“ Золя говорил о существовании каких-то доминирующих черт у человека. Золя и его современники ничего не знали о психологических нюансах и особенностях личности, по их мнению, у каждого имеются некие „преобладающие черты“, которые управляют его поступками. Достоевский и его современники открыли в человеке совсем иное. Среди созданных мною персонажей Вы не найдете ни одного, в характере которого преобладала бы какая-то одна-единственная черта. Все мои персонажи являются многообразными индивидами с раздробленным сознанием, они не „плохие“ и не „хорошие“, в них есть и то и другое, у них масса нюансов и оттенков и в сознании, и в поступках. И таковой личностью, несомненно, являюсь и я сам» [479]479
См. примеч. 477.
[Закрыть].
Гамсуну пришлось держать оборону одновременно на нескольких фронтах. Он не желал быть освобожденным от юридической ответственности за содеянное. Он ставил перед собой задачу убедить Лангфельда в том, что его политические убеждения отнюдь не свидетельствуют о его умственной неполноценности. Он хотел доказать полноценность своей личности. Лангфельд мог объявить Гамсуна недееспособным. Таким образом, перед Гамсуном стояло сразу несколько задач, и ему необходимо было искусно балансировать между ними, при том что он отнюдь не был мастером в таких делах.
Отношения между Гамсуном и Лангфельдом складывались совсем по-иному, нежели отношения в 1926–1927 годах между Гамсуном и Юханом Иргенсом Стрёмме. Тогда ведущая роль во всем принадлежала Гамсуну, они с доктором, специалистом по нервным болезням, объединились в некий альянс против Марии. Теперь, напротив, случилось так, что Лангфельд объединился с Марией против него, после того как Гамсун отказался вдаваться в подробности своих отношений с женой.
По инициативе Лангфельда в доме Гамсуна в Нёрхольме был произведен обыск и на имущество семьи наложен арест. Полиция вскрыла комод в комнате Гамсуна, где были письма и бумаги.
Через два дня Марию увезли из тюрьмы в Арендале. В сопровождении женщины-полицейского она была доставлена в психиатрическую клинику, где содержался Гамсун.
Шестидесятичетырехлетняя арестантка и профессор, который был моложе ее на шестнадцать лет, вполне нашли общий язык: «Он спрашивал, а я отвечала. В конце концов он задал мне вопрос, который поставил меня в тупик. Я должна отвечать на этот вопрос? Профессор объяснил, что для него очень важно тщательно изучить менталитет Гамсуна. Для того чтобы четко прояснить возможные последствия моих ответов на поставленные им вопросы, касающиеся весьма интимной сферы, я ответила: если мой муж каким-то образом узнает, что я рассказала Вам об этом, мы никогда не сможем больше жить под одной крышей! Профессор еще раз заверил меня, что мои откровения останутся конфиденциальными. Единственное, что свои записи он покажет генеральному прокурору», – так писала об этом Мария в книге воспоминаний «Под золотым дождем».
Лангфельд выдвигает совсем другую версию своих бесед с Марией: «Я просто спросил ее о взаимоотношениях с мужем, и она начала говорить не переставая, так что задавать вопросы не было необходимости» [480]480
Габриель Лангфельд в норвежской «Афтенпостен» и ряде других газет от 10.10.1978.
[Закрыть]. Сама Мария впоследствии утверждала, что доктор Лангфельд подробно выспрашивал ее об интимных подробностях ее отношений с мужем. Доктор называл это грубой и беспардонной ложью.
После разговора с Лангфельдом Мария попросила разрешения встретиться со своим мужем. Увидев Марию, Гамсун пришел в ярость. Многие в клинике слышали как, находясь в приемном отделении, они кричали друг на друга.
Основной причиной, по которой Мария согласилась на откровенный разговор с Лангфельдом, было, конечно же, то, что она думала, что действует в интересах своего мужа, что это, возможно, поможет смягчить ему наказание. Но была и другая: она обрадовалась возможности кому-то рассказать свою версию их совместной жизни.
«Когда разговор с Лангфельдом закончился, мне сразу же стало очень не по себе. Мне захотелось отказаться от всего сказанного. И зачем я все это рассказала?» – сожалела Мария в своих мемуарах «Под золотым дождем» много лет спустя.
Честно говоря, даже если бы Мария целиком отказалась от своих слов, вряд ли это могло принципиально изменить что-то в отношениях супругов. Гамсун только через несколько месяцев узнает, что, собственно говоря, она тогда рассказала профессору Лангфельду. Таким образом, видимо, отнюдь не откровения жены вызвали вспышку ярости у Гамсуна в приемной психиатрической больницы, когда он заявил Марии, что не хочет видеть ее больше никогда в жизни. Для него ее предательство заключалось уже в том, что она связалась с его главным недругом.
При этом Мария в тот момент не приняла его слова слишком серьезно. Ей и ранее доводилось слышать подобное.
Диагноз
В один из первых дней января 1946 года Гамсуну удалось передать записку старому знакомому литератору Кристиану Гирлёффу {109} , который навещал его перед Рождеством. Теперь Гамсун хотел бы снова поговорить с ним. Когда Гирлёфф пришел в клинику, его попросили подождать. Вскоре появился Лангфельд: нет, он не сможет увидеть Гамсуна. Гирлёфф сказал, что хочет обсудить с Гамсуном некоторые практические дела. Нет, об этом не может быть и речи. Гирлёфф попросил объяснений. По причине того, что у Гамсуна статус обвиняемого и сейчас проводится судебно-медицинское освидетельствование.
Гирлёфф не был в восторге от подобного объяснения и попытался повлиять на Лангфельда, апеллируя к его человеческим чувствам.
«Когда освидетельствование будет завершено, у вас будет к нему доступ», – заявил Лангфельд [481]481
Кристиан Гирлёфф «Собственный голос Кнута Гамсуна».
[Закрыть].
Через две недели Гирлёффу позвонили из клиники и попросили немедленно приехать. Когда Гирлёфф вошел в палату Гамсуна, то понял почему. Тот лежал на кровати полуодетый, руки свешивались вниз. Рядом с кроватью стояли медсестры и несколько мужчин-санитаров. Лицо у Гамсуна было бледное, рот приоткрыт, щеки мокрые от слез. Гирлёфф склонился над ним, пытаясь успокоить словами и прикосновениями. Гамсун не откликался. Гирлёфф тщетно пытался приподнять его, чтобы усадить на кровати. Казалось, силы оставили человека, который не так давно был полон неукротимой жизненной энергии, когда он посещал его пару месяцев тому назад.
В таком состоянии он уже видел его однажды, тогда у Кнута совсем разладились отношения с первой женой, Берлиот. Тогда тоже посылали за ним и Гамсун так же лежал на кровати, удрученный и неподвижный. В тот раз Гирлёфф отвез его в клинику, сейчас его задачей было забрать Гамсуна из клиники.
5 февраля 1946 года профессор Лангфельд и его ассистент Эрнульф Эдегорд составили следующее заключение о состоянии здоровья освидетельствованного ими Гамсуна: «1) Мы не считаем Гамсуна душевнобольным, не считаем, что он являлся таковым в период совершения действий, в связи с которыми ему предъявлены обвинения. 2) Мы считаем его личностью, которой присуще устойчивое ослабление умственных способностей, но не предполагаем, что есть какая-то опасность повторения аналогичных противоправных действий» [482]482
Лангфельд и Эдегорд «Заключение судебно-медицинской экспертизы в отношении Кнута Гамсуна».
[Закрыть].
Таким образом, и политики, и государственный обвинитель получили желаемый диагноз. Но никто из них не мог себе представить дальнейший ход событий – а именно, что 86-летний старик с такой энергий начнет срывать с себя навешенный ярлык идиота, что не только психиатрическая наука, но и правительство страны и судебная система вполне могли попасть в весьма щекотливое положение.
В понедельник 12 февраля 1946 года неуверенной походкой Гамсун вышел из ворот психиатрической клиники, где находился в течение 119 дней. Его поддерживали Гирлёфф и сын Туре. Но каждый шаг, сделанный им от ворот, каждый вздох за пределами больницы вливали в него силы. Они сели в автомобиль, и как только он тронулся, Гамсун повернулся в сторону клиники, слегка приподнялся и заклеймил заведение, из которого он вышел, сказав так, словно произнес проклятие:
– Вот оно, солидное трехэтажное учреждение, а возглавляет его полное ничтожество.
Туре внес чемодан отца на борт каботажного судна, направляющегося в Гримстад, и распрощался с ним и его другом Гирлёффом. Самого Туре только недавно выпустили после пяти месяцев тюремного заключения, он был арестован поздней осенью. Туре всегда жил на средства своего отца, он не научился зарабатывать деньги, да и отказывать себе в чем-то тоже не умел, и вот теперь его семья, состоящая из четырех человек, должна была жить на деньги, вырученные от продажи его картин. Сколько он себя помнил, ему всегда было приятно носить фамилию Гамсун. Но теперь она вызывала всеобщую ненависть.
Так что у этого 34-летнего мужчины было множество забот.
При этом одна из печалей состояла в том, что он стал своего рода стеной плача для всей семьи. К нему обращались за утешением все: сестры, брат, отец, мать.
Последняя чувствовала себя особенно несчастной.
Быть отвергнутой мужем само по себе невыносимо. Но в случае с Марией Гамсун было кое-что похуже. Она понимала, что ей снова придется принести себя в жертву во имя своего великого супруга. Еще до войны Марии доводилось слышать разговоры о том, что она является более «заклятым другом» Германии, нежели ее муж. Во время войны многие норвежцы были убеждены, что пронемецкие статьи были написаны Гамсуном под влиянием жены, которая использовала его преклонный возраст и глухоту. После ее освобождения об этом стали писать и газеты. И поэтому в глазах Марии он выглядел негодяем, который предал ее ради собственного благополучия. Она знала, что новое норвежское правительство хочет спасти творчество Гамсуна как национальное достояние, ради будущего нации и сохранения чувства собственного достоинства. Его хотели представить выжившим из ума стариком, которым манипулировала жена. И вот теперь, когда были выставлены на всеобщее обозрение преступные деяния Германии и оккупационных властей, его нежелание иметь с ней что-либо общее выглядело аргументом, подтверждающим эту точку зрения.
Разворачивается большая игра, в которой ей отведена роль козла отпущения, – такой вывод сделала для себя Мария.
Две идеи волновали Марию. Одна была новой: если супруг помирится с ней, то заговор с целью ее очернения просто рассыплется. Другую она вынашивала давно, с конца 1930-х годов: а что, если она расскажет всем правду о том, что значит быть женой Кнута Гамсуна? Напишет большую статью или несколько статей, первоначально опубликует их за рубежом? Ее, скорее всего, осудят в соответствии с существующим против нее всеобщим заговором, но что потом? Так стала размышлять Мария о том, что будет после суда, в послевоенной жизни. Ведь ей было только 64 года. Если у творчества Гамсуна есть будущее, то, несомненно, с ходом времени будет возрастать и ее роль.
Ей было доподлинно известно, что после смерти великих всегда через какое-то время начинают интересоваться свидетельствами их близких, пытаясь проследить связь между жизнью и творчеством. А кто был ближе Кнуту Гамсуну, нежели Мария?
Они оба вместе проиграли большую войну, и эта война была теперь закончена. Но до конца войны между супругами было еще далеко.
Проржавевший кран
С 22 февраля 1946 года в Норвегии началось широкое обсуждение «дела Гамсуна». В этот день в «Афтенпостен» было опубликовано официальное заявление генерального прокурора Свена Арнтсена. Суть заявления сводилась к следующим категорическим утверждениям: Гамсуну скоро исполнится 87 лет, он страдает практически полной глухотой, а также страдает, в соответствии с выводами психиатрической экспертизы, устойчивым ослаблением умственных способностей. На основании вышеизложенного государственный обвинитель отказывается от уголовного преследования Гамсуна за те действия, в которых он обвиняется. Вместо этого государство, в лице Комитета по возмещению нанесенного ущерба, произведет расчеты и предъявит соответствующие требования по компенсации.
На следующий день разразился статьей главный редактор «Дагбладет» Эйнар Скавлан. Он настаивал на возбуждении уголовного дела против Гамсуна, он считал, что это необходимо для того, чтобы норвежский народ помнил о преступных деяниях, совершенных этим человеком, биографом которого он, между прочим, ранее был: «Предательские, направленные против своей страны действия Гамсун совершал, пользуясь своим исключительным положением выдающегося писателя, одной из самых значительных фигур в духовной жизни Норвегии. Этот человек, вызывавший, как никто другой, восхищение и уважение, является ужасающим отрицательным примером для других. На нем более, чем на ком-либо другом, лежит ответственность за то, что у немцев и норвежских предателей появлялись сторонники среди тех людей, кто не был в состоянии в полной мере судить о происходящих событиях. Он одобрял любые подлые действия немецких оккупантов, оставался сторонником Гитлера вплоть до самоубийства последнего. Только уголовное преследование способно сделать так, чтобы Гамсун навсегда воспринимался как человек, лишенный чести» [483]483
Редакционная статья в норвежской «Дагбладет» от 23.02.1946.
[Закрыть].
В противоположность «Дагбладет» многие другие газеты склонялись к тому, чтобы согласиться с выводами психиатрической экспертизы и оценкой состояния его здоровья, содержащейся в заявлении государственного обвинителя: поступки Гамсуна в тот период могут быть объяснены старческим маразмом. Но при этом никто не поддерживал идею отказа от судебного преследования. Большинство соглашалось с мнением Скавлана в том, что Гамсун должен быть осужден и приговорен к тюремному заключению. Потом он вполне может быть помилован, каким-то образом прощен. Однако ради сохранения веры граждан Норвегии в справедливость и правосудие нельзя позволить Гамсуну откупиться за содеянное, просто заплатив штраф.
При этом и сам Гамсун был согласен с газетами, которые требовали возбуждения против него уголовного дела: «Решение, принятое генеральным прокурором, огорчило меня и одновременно вызвало мое негодование. Уже на предварительном слушании я недвусмысленно заявил, что готов отвечать за все содеянное мной. И тут вдруг генеральный прокурор выбивает оружие из моих рук. Я в течение четырех месяцев давал утвердительные ответы на все вопросы, связанные с моим обвинением, и теперь узнаю что я, видите ли, освобождаюсь от общепринятого судебного процесса» [484]484
Гамсун – Кристиану Гирлёффу от 25.03.1946.
[Закрыть].
Вскоре Гамсун получил предписание Комитета по возмещению нанесенного ущерба. В соответствии с законом о предателях он, как состоявший в нацистской партии «Национальное единство» несет ответственность за ущерб, причиненный правлением Квислинга Норвегии и ее народу. Государственные экономисты оценили общую сумму этого ущерба в 283 миллиона норвежских крон. Из этой суммы с Гамсуна надлежало взыскать 500 000 крон.
Поскольку генеральный прокурор освободил Гамсуна от судебного преследования, он автоматически освобождался и от тюремного заключения. Теперь уже не было никаких юридических препятствий для Гамсуна, чтобы уехать домой в Нёрхольм. Тем более что Мария все еще находилась в тюрьме в Арендале. И тем не менее он решил вернуться в дом престарелых. Это было именно то, что ему было нужно в данный момент. С упорством неврастеника в течение многих лет он культивировал свою неповторимую индивидуальность; когда он творил, у него была потребность быть одиноким, бедным и заброшенным.
Те немногие, кто навещал его весной 1946 года и видел, в каких убогих условиях он находится, не могли не ощущать глубокого сочувствия к писателю. Он же напрочь отметал подобные разговоры, начиная шутить по поводу того, что у него здесь есть товарищи, например вши, или показывал свое изобретение: поскольку в комнате был неровный пол, то он приноровился подкладывать под ножки стола, за которым писал, рукавицы. Посетители отмечали про себя лишь мужество старого человека, оказавшегося в трагической ситуации. Им было невдомек, что с течением времени он воспринимал такие условия жизни как все более подходящие для поставленной перед собой цели.
Когда он прибыл в дом престарелых, то привез в чемодане и свой тайный дневник. Те слова, которые ему удалось записать в психиатрической клинике и которые никто не смог обнаружить, представляли для него огромную ценность.
Этот тайный дневник представлял из себя привычную для него систему листков, из которой у него обычно и складывалась будущая книга. А ведь была еще и совсем другая стопка листов, на которых записаны сформулированные им письменные ответы на вопросы профессора Лангфельда во время психиатрического освидетельствования. Проблема была в том, что те листы остались в клинике, руководимой человеком, с которым Гамсун не хотел иметь чего-либо общего. Он попросил своего адвоката Сигрид Стрей потребовать обратно листки с записями своих письменных ответов на вопросы. В конце концов ему удалось получить через нее только копии, а это дало Гамсуну основание подозревать, что Лангфельд возвратил не все.
Если сравнивать двух врачей, специалистов по нервным болезням, с которыми Гамсуну довелось иметь дело в своей жизни, то, образно говоря, один из них как бы открыл в нем несколько кранов, тогда как другой просто выворотил их.
Но это еще не все. Ведь в начале лета 1946 года и сам Гамсун ощущал себя подобно проржавевшему крану, и Лангфельд грубыми приемами пытался его открыть.
Это ощущение он описал в книге «На заросших тропинках»: «Вот так я сижу и делаю заметки, записываю какие-то мелочи для себя самого… Я как испорченный кран, откуда капают капли – раз, два, три, четыре…» [4:91].
Осознание того, что он снова в состоянии писать, заставило его испытать чувство счастья, которого он не испытывал уже в течение многих лет. «Я невероятно поглощен тем, что я пишу. Вовсе не из-за надежды, что из этого выйдет толк, нет, конечно же, никакого толстого тома я не напишу, но я сижу над этим день и ночь», – доверительно сообщает он Кристиану Гирлёффу. В конце июня он не без гордости сообщил, что приступил к 47-й странице своей рукописи [485]485
Гамсун – Кристиану Гирлёффу от 10.03.1946, 26.03.1946, апрель-май 1946, 10.06.1946, 30.06.1946. Упомянутые Гамсуном 47 страниц приблизительно соответствуют 30 первым страницам его книги «На заросших тропинках».
[Закрыть].
Тогда же он поразмыслил и над письмом к государственному обвинителю. Теперь кроме Марии у него совершенно определенно были и два других врага. Надо было расквитаться с ними: с профессором Лангфельдом и генеральным прокурором Свеном Арнтсеном.
Гамсун отнюдь не страдал комплексом неполноценности, как это категорично утверждал Лангфельд, сочтя этот комплекс преобладающей чертой писателя в своем отчете о его психическом состоянии после первой недели пребывания Гамсуна в психиатрической клинике в июне 1946 года.
Прежде всего в своем письме Гамсун отметил, что пишет не для сиюминутных интересов сегодняшнего дня, «а для тех, кто придет после нас. Я пишу для наших внуков» [486]486
Гамсун – генеральному прокурору Свену Арнтсену от 23.07.1946, хотя в письме к дочери Сесилии от 10.07.1946 Гамсун утверждает, что у него уже готово письмо для генерального прокурора. Вероятно, потребовалось время, чтобы письмо было отпечатано на машинке.
[Закрыть]. Генеральный прокурор совершил преступление, которое невозможно простить: он передал великого писателя, божественного творца, в руки психиатру.
«Я допускаю, что мое имя незнакомо г-ну генеральному прокурору. Однако Вы могли обратиться за сведениями туда, где их можно получить. Вам наверняка рассказали бы, что я не совсем безвестен в мире психологии, что за свою долгую писательскую жизнь я создал многие сотни персонажей, причем и внутренне, и внешне по образу и подобию живых людей, из плоти и крови, они походят на них состоянием и движением души, в их мечтах и поступках. Вам не нужны были эти сведения обо мне. Вы сдали меня, так сказать, не глядя, в лечебницу профессору, у которого также не было этих сведений. Ведь он явился во всеоружии знаний, почерпнутых в учебниках и научных трудах, которые он вызубрил наизусть и по которым сдал экзамены. Но в моем случае знания ему не понадобились, поскольку за всем этим скрывалось нечто иное. Если генеральный прокурор оказался некомпетентен, то уж профессор должен был бы понимать, что меня следует немедленно отпустить домой. Он должен был бы воздержаться от демонстрации своих профессиональных знаний, ибо мой случай выходит за пределы его компетенции» [4: 81]. Он жаловался генеральному прокурору на то, что его оскорбили дважды. Первый раз, когда его передали Лангфельду для медицинского освидетельствования, и второй раз – когда было принято решение не возбуждать уголовного дела. «Вы предполагали, что тем самым окажете мне услугу, но это не так, и я думаю, многие со мной согласятся. Я до недавнего времени был не столь уж безызвестен в Норвегии, да и в остальном мире, и меня не устраивает перспектива оставаться до конца моих дней лицом, амнистированным Вами, и не иметь возможность ответить за свои действия. Но Вы, Вы, господин генеральный прокурор, выбили из моих рук оружие».
Вероятно, при чтении этого письма, написанного 87-летним стариком, ему, генеральному прокурору, Свену Арнтсену было слегка не по себе. Содержание письма не оставляло сомнений в том, что его автор вполне способен доставить неприятности, несмотря на утверждение, что он страдает устойчивым ослаблением умственных способностей.







