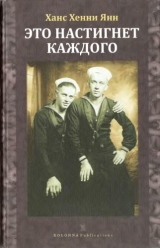
Текст книги "Это настигнет каждого"
Автор книги: Ханс Хенни Янн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 25 страниц)
Это НАСТИГНЕТ КАЖДОГО. Х<анс> Х<енни> Я<нн> <Тетрадь> V
обезображенных ржавчиной жестяных общественных писсуаров и в несколько глотков опустошил обе емкости. Ну, может, дал отхлебнуть глоток какому-нибудь красноносому ссыкуну. Покинув писсуар, он почти тотчас же свалился под ноги прохожим. Полицейский патруль, изучив документы страдальца, доставил его на борт. Аваддон или Лейф, это уж по твоему усмотрению, не стал смеяться, увидев мертвецки пьяного Йенса, – как было в первый раз. Он оглянулся, нет ли кого поблизости, – то ли растерявшись и не зная, что делать, то ли в поисках помощника; но увидел – в сторонке, у леера – только уродливого и неряшливого юнгу Иеремию.
Аббадона вздрогнул, заметив его; потом все же приблизился к уродцу и сказал:
– Это несчастье, Иеремия. Но я в нем не виноват.
На сей раз ухмыльнулся – невесело – Иеремия.
– На свете много уродов и стариков, – хрипло проговорил он, – Тебе-то на что жаловаться? Ты к таким не относишься.
– Не вижу разницы между красотой и уродством, – ответил Лейф.
– Оставь меня! – крикнул Иеремия. – Убирайся! Все знают, что к девкам ты равнодушен. – Неожиданно он получил такую затрещину, что у него лопнула губа и из носа потекла кровь. Это боцман, не замеченный Лейфом и Иеремией, отреагировал на последние – услышанные им – слова юнги. Иеремия взвыл от боли.
– Свинья, – сказал боцман. – Таким в море не место.
Аваддон, не проронив ни слова, ушел.
Когда судно покинуло гавань Гётеборга, Йенс получил от капитана второй нагоняй. Более суровый, чем в первый раз. Капитан сказал, что выдаст Йенсу на руки его документы, если тот – неважно, при каких обстоятельствах -еще хоть раз будет доставлен на борт в бессознательном состоянии из-за злоупотребления алкоголем. Три или четыре года хорошей службы пойдут псу под хвост. Так что лучше ему взять себя в руки. Йенс не стал обещать, что исправится. Он молчал.
– Теперь судно в Копенгагене, – сказал Матье.
– И Йенс опять на берегу, – сказал Гари.
– Вероятно, он снова напьется, – сказал Матье.
– Очень может быть, ведь нельзя не выдать ему заработанные им деньги, – сказал Гари.
– Значит, его спишут с корабля, – сказал Матье.
– Разве что какая-нибудь морячка удержит его от пьянства. Да только куда ей? Нет других таких... Таких веселых, как Аваддон, и таких красивых, – сказал Гари, – И вдобавок таких простодушных – не умеющих оценить степень уродства или ущерб, причиненный старением.
– Чего ты, собственно, добивался, рассказывая мне эту длинную историю? – неожиданно спросил Матье.
– Я уже сказал в самом начале, да и потом пару раз повторил: не исключено, что он окажется Третьим.
– Ангелом? Третьим ангелом? Пустая болтовня, Гари. Болтовня, имеющая целью оправдать что-то, о чем я еще не знаю... или затушевать... по тем или иным причинам. В твоем утверждении нет логики... Это игра краплеными картами. Ты очень отдалился от меня – больше, чем когда-либо прежде...
Гари был так напуган словами Матье, что сердце у него заколотилось, словно вот-вот выпорхнет из груди. Мгновение он не мог сдвинуться с места. Наконец, прерывисто дыша, объяснил:
– Речь все еще идет о нашей с тобой смерти. Клубки внутренностей... Я не утверждаю, что они мне противны, совсем нет... я их, наоборот, почитаю... почитаю, во всяком случае, твои внутренности... Так вот, они... как церкви на перекрестках сотворенного мира. Их форма, состоящая из завитков, нелепа... но и внушает любовь, если заключена в красивое чрево. Имеются разные степени красоты... это несомненно... и ее наивысшая форма неотразимо воздействует на меня... превращает нелепицу в пусть и сбивчивую, но непорочную мысль. Поверь мне... когда те живодеры собирались выпотрошить тебя... и уже приступили к своему грязному делу... я был таким же заблудшим быдлом, как самый безмозглый из них... ничем от них не отличался... был нисколько не жалостливее... а таким же садистом. .. или еще хуже. Но вдруг я увидел твой красивый живот... и рану в нем... и на фоне этой раны... нежную пену твоих внутренностей... немного, но достаточно, чтобы представить себе, каков ты внутри... что ты, беспомощный, целиком зависишь от своих потрохов... беспомощный кусок дерьма... и вброшенная в эти потроха смерть, ничего больше... а все же такой красивый. Поначалу я вообще не видел твоего лица. Мой взгляд не поднимался выше ребер, сосков. Но одновременно я видел и себя... именно так... как вброшенную туда смерть. Да, на мгновение я занял твое место... лежал на земле. И вдруг я стал другим: тем, кто любит. Я размахнулся и вслепую ударил кулаком...
Он опять остановился, тяжело задышал. Матье тоже не сделал следующего шага. Но и ничего не ответил.
– Мы с тобой потом пытались как-то объяснить эту случившуюся со мной перемену, определить ее суть... Но заметного результата не достигли. Поначалу мы были счастливы. Позже все в нас подчинилось другому, новому порядку. Мечты и влечения отлились в более твердые формы. Само время над нами работало. Твои раны затянулись. А мое влечение к смерти... желание, чтобы нас двоих прошила насквозь одна смертоносная стрела... не устояло перед заурядными привычками, перед повседневностью. Мы сами стали заурядными... хотя, конечно, сохранили кое-какие чудачества... Но даже чудаковатость наша теперь умеренная. В особенности это касается меня. Матрос... и сын директора пароходства... в одной упряжке... Это непросто, приходится изобретать ритуал; но я не хочу никакого сговора между тобою и мною... никаких сексуальных привычек... ничего такого, о чем читаешь в книжках или слышишь от людей... о чем пишут на стенах писсуаров. Лежать рядом с тобой в постели, и согревать тебя, и самому согреваться – это другое. Это – не ограничение свободы, а скорее ее начало. Но дальше начала дело у нас не пошло. А ты... еще больше, чем я, мучась дурными предчувствиями... боишься меня потерять... Словно какая-то баба может сожрать меня, откусывая по кусочку снизу...
– Гари... Гари... – Матье, окликая друга, пытался прервать его речь; но ничего не достиг.
– Этот Аваддон – такое имя подходит ему больше, чем Лейф, – этот Аваддон в своей незащищенной красоте... в красе его юности светлой, как говорит Клопшток... уже заглянул, не знаю, когда именно, в бездну собственной бренной плоти, что кажется несомненным. Может, он только пубертатные годы прожил в состоянии безграничной покинутости, со всеми пытками и усладами, какие измышлял для него его господин. Может, он любил тигра... и не смел его даже погладить; или – негра, который при сексуальном общении едва его не погубил, он же не издал ни звука жалобы. Или он молился на свое отражение в зеркале, а потом, чтобы освободиться от такого рода зависимости, ударил себя ножом в лоб. Как бы то ни было, он разучился отличать красоту от уродства. Он отдался бы даже вонючему юнге Иеремии. Он способен на любые гнусности... но не на то, чтобы опомниться, вспомнив о собственной красоте... очиститься, связав свое желание нравиться со стремлением к подлинной любви. Он нечеловечески красив... и в этом смысле сравним лишь с ангелами... А внутри испорчен, как какая-нибудь дешевая тварь, как завшивевший юнга.
Гари набрал в легкие побольше воздуху, потому что прежде говорил слишком быстро, и продолжил:
– Но он хороший товарищ... Он, в меру сил, помогает каждому... я уже об этом упоминал... и работает он старательнее всех прочих. Если речь идет об опасном поручении, вызывается первым. Себя не щадит...
– Из истории, рассказанной тобой, я мало-помалу понял: ты этого человека превозносишь, изобретаешь все новые способы, чтобы выгодно осветить разные стороны его натуры... даже темные. Но почему, собственно? Чтобы предостеречь меня? Мне, дескать, не следует с ним встречаться – ты заявил это с самого начала.
– Да,– односложно подтвердил Гари.
– Но твоя речь нацелена на противоположный результат: пробудить во мне любопытство или чувственность.
– Отнюдь, – возразил Гари. – Я пытаюсь показать тебе, что при всем своем добродушии он опасен.
– Ты назвал его Третьим. Это либо твоя нелепая выдумка, завлекающая меня в туманные дебри, либо ты в самом деле поставил на карту что-то серьезное. И в таком случае для тебя это неизбежность, а для меня – мое моральное право: использовать Третьего, чтобы довести наши с тобой абсурдные отношения до еще большего абсурда.
– Но как раз этого я и боюсь, – сказал Гари.
– Должен ли я поверить, что ты ревнуешь?
– Скорее, испытываю предчувствие ревности.
– А моя душа, ты полагаешь, иссохла? – Матье больше не владел собой. – Моя ревность – только мыльный пузырь? У меня что, нет права на такого рода внутренние безумства, химеры? Вы с ним служите на одном судне. В любой момент с вами может случиться то, что случилось между ним и Йенсом. Думаешь, меня это не касается?
– Я сплю в отдельной каюте, – сказал Гари очень спокойно, будто его устами говорила сама разумность. – Уже два года: так распорядился твой отец... Возможно, ради тебя...
– Он умный человек, – сказал Матье, – и заботливый. Он меня даже по-своему любит, хоть и не одобряет моего образа жизни. Но Аваддон может заглянуть в твою дверь по ошибке.
– Я всегда перед тем как лечь спать запираю дверь, – сказал Гари.
– Однажды ты можешь забыть ее запереть, – сказал Матье,– или Аваддон проникнет в каюту в твое отсутствие. Вдруг ты ему нравишься... Он мог бы спрятаться там. Он мог бы даже, как ангельское существо... как Третий... Если он и вправду Третий...
– Не мог бы, – сказал Гари.
– Почему же нет? Что его удержит? Если он готов переспать даже с уродом Иеремией, как ты утверждаешь... Почему именно к тебе должен он испытывать отвращение – он ведь не может не чувствовать определенного родства между вами?.. Вы оба избранники... для высокого или низкого. Подлинный Аваддон тоже знал и небо, и ад... не хуже, чем Бог и дьявол, вместе взятые; а сверх того, знал любовь, неведомую, как кажется, этой паре. Почему бы тогда Аваддону не задрожать над тобой? Почему бы нет? Тот факт, что ты спишь в каюте один, не отменяет всемирного закона...
– Нет, – сказал Гари, – никогда ни один из нас не объяснится в любви другому. Аваддон находит себе иных партнеров... без всяких объяснений и комментариев... молча... Можно сказать, это происходит в Ничто. Между ним и мною такое было бы невозможно... Он знает это не хуже, чем я. Похороненные в земле, мы, может, и встретимся; но не здесь...
– Пусть кто-нибудь другой вникает в твои слова, – сказал Матье с вызовом. – Но между ним и мною, в отличие от твоего случая, могло бы что-то открыться, могло бы прозвучать слово, послание было бы расшифровано и освободило меня от мук и услад моей уединенной – или уединившейся – сексуальности! Что ж, очень хорошо. Это вполне соответствует желанию моего отца. Пятьдесят тысяч крон заплатит он... Может даже больше; в зависимости от результата твоего наущения.
– От такого я тебя предостерегаю, – сказал Гари непреклонно.
– А почему, собственно? Ты уже впутал в наши отношения Агнету. Ты не перестаешь хвалить, даже перехваливать и этого падшего ангела. Лучше всякого сводника. Я не верю, что ты ревнуешь. Не верю и в ангелоподобие этого Лейфа. Даже тому, что ты рассказываешь о его красоте и привлекательности, я не верю. Зато верю, что он не посещает бордели. Это, должно быть, его единственное достоинство, весомое в данном случае, – И еще то, что он всегда чисто моется...
– Ты его не знаешь, – ответил Гари, ничуть не смутившись,– иначе ты бы не говорил о нем в таком тоне. Я не отказываю тебе в праве сблизиться с ним; единственное, чего я боюсь... это невыразимое несоответствие наших желаний и жесткости мироздания. Бывают вещи, за которые приходится расплачиваться собственной жизнью...
– Можно подумать, что мы не выбрали такой путь с самого начала! – насмешливо проронил Матье.
Ему не хватало мужества и терпения, чтобы продолжать этот горький и странный разговор. Всего часа два назад они с Гари обнимались в кабинке для переодевания, опьяненные друг другом; а теперь между ними воздвиглась тень темного и очень непотустороннего ангела.
– Ты думаешь, что как друг должен спасти меня... случив с кем попало. Недавно ты предложил мне Агнету... как если бы она не была твоей возлюбленной... Так сказать, предоставил ее в мое распоряжение. Это мне не понравилось. Тогда ты приискал юношу. Может, он и красив. Не стану спорить. Пожалуй, так красив, что возбудил даже твои чувства... пусть это и проявилось лишь в легкой ревности. И он достаточно податлив, чтобы удовлетворить любую прихоть. Новичок в любви, очень может быть... если отвлечься от пары эпизодов, когда он прыгал по кубрику. А поскольку женщины не привлекают меня, тебе, естественно, вспомнилась известная теория. И вот я спрашиваю себя: а почему бы и нет? Отец мне все уши прожужжал. Он хочет, чтобы я что-то испытал в жизни, приобрел богатый опыт... так или иначе. Он на все согласен... лишь бы я не довольствовался онанизмом. Тебя твои врожденные наклонности тоже постепенно привели к той же мысли, хотя ты многого опасаешься; но сейчас тебе кажется, что ты, как и он, ощущаешь такую необходимость. В конце концов, ты знаешь почти наверняка, что я в любом случае останусь твоим другом. Ты завладел моим пальцем, а значит, как говорят полудьяволы,– и всей рукой. Я боюсь...
Я почти уверен, что мы с тобой в нашей жизни допустили какой-то просчет.
– Нет там никакого просчета; есть трудно решаемая задача, – ответил Гари.
– Тогда давай наконец сядем за рабочий стол и опробуем все методы, помогающие найти правильное решение.
Я все более убеждаюсь в том, что со вчерашней ночи мы занимаемся чистым экспериментированием.
– Случилось много чего, – возразил Гари, – но барьера между тобой и мной пока нет.
– Как ты с вещами, так и они с тобой, – сказал Матье.– Я, во всяком случае, хотел бы приступить к поискам решения немедленно. И меня не собьют с толку ни два, ни три ангела. Им придется молчать... то есть: не существовать... пока они не докажут свое существование сызнова; а как жалкие фальсификаторы, когда-то поразившие нас, детей, они симулировать свое существование больше не смогут. Итак, я хочу познакомиться с этим Лейфом, или Аваддоном. Я должен с ним познакомиться: чтобы еще раз измерить, насколько я тебе предан. Насколько моя любовь относится именно к тебе, к твоей плоти и твоему целостному образу – а не к очередной околдовывающей химере... к какому-нибудь рассвету или увиденному во сне ландшафту. Речь ведь идет о твоих губах... твоих руках... твоей оголенности; а не о неважно-чьих губах, неважно-чьих руках, неважно-чьей оголенности. Твоя необузданность и твои странности – стремление мучать меня, удерживать при себе, обольщать и разочаровывать -неотделимы от моего о тебе представления. Если я и люблю какой-то порок... если тайно привержен ему... то это твой порок: порок, о котором я сам ничего достоверного не знаю; который, может, и существует только в моем воображении.
– Что ж... Если ты хочешь познакомиться с тем матросом... если ты действительно этого хочешь... хочешь осознанно, – значит, он и есть Третий, – сказал Гари очень спокойно и тихо. – И если он тебе понравится... как нравлюсь я, – мне не освободиться от Агнеты.
– Это меня не остановит, – ответил Матье, не задумавшись о точном значении слов Гари.
– Это тебя не остановит?
– Нет. Эксперимент теперь уже невозможно прервать.
– Агнета превосходно сложена. И уступчива. Поэт воспел бы ее лицо, ее груди и бедра... колени и округлые икры...
– Знаю. Ее промежность красивее, чем у меня...
– Нет.
– По крайней мере, удобнее... для использования. Видишь, мы уже углубились в эксперимент.
– Думаю, ты недооцениваешь мой порок... настоящий... который, когда с него будет сорвана маска, возможно, соединит нас.
– Я, как уже говорил, не боюсь твоего порока: потому что я не боюсь твоей души, а мечтаю, чтобы она стала моей частью.
– Ты сам не понимаешь, что говоришь.
– Что может быть хуже, чем потерять тебя?
На Гари вдруг нахлынуло удивительное спокойствие. Он долго молчал. Потом даже улыбнулся. Они опять вышли на Новую королевскую площадь. Обоим казалось, будто долгой беседы вообще не было. Все тревожные мысли улетучились. Только горло у обоих пересохло: слова высосали всю влагу. Гари схватил Матье за руку. Теплое, чувственное прикосновение. И потянул руку Матье к себе в карман: почти забытая любовная игра из их детства...
Перед киоском руки снова разъединились. Гари заплатил за хранение чемоданчика. И друзья направились в сторону станции Норпорт[69]69
Железнодорожная станция (теперь и станция метро) в центре Копенгагена.
[Закрыть].
Смятение
– Я знаю поблизости один молочный бар, довольно уютный и недорогой, – сказал Гари.
Они прошли еще немного; потом, разыскав нужный дом, поднялись по лестнице в бельэтаж. В просторной зале, кроме них, посетителей не было. Они заказали две бутылки молока и несколько бутербродов, скупо намазанных маслом.
– Предлагаю, чтобы сегодня ты переночевал вместе со мной у Агнеты, в квартире ее родителей, – сказал Гари,-Ее отец работает ночным сторожем на фабрике, очень далеко отсюда, на Амагере[70]70
Амагер – остров, на котором расположен один из районов Копенгагена.
[Закрыть]. Ровно в девять вечера он выходит из дому и возвращается через одиннадцать часов. Мать – разумная женщина, и она не станет возражать, если ты, как и я, проведешь эту ночь в комнате Агнеты.
Матье – поскольку его угнетали подчеркнутая добропорядочность заведения, из-за безрадостной пустоты казавшегося чуть ли не призрачным, и царившая там чистота, которую кто-то ведь должен поддерживать, – едва ли уловил смысл того, что сказал Гари. Во всяком случае, слова не соединились для него в цельную картину. Но он все же ответил:
– Да-да, это удачная мысль.
Он пил молоко – через соломинку, торчащую из бутылки, – и ел хлеб. Внезапно все неотчетливое в его голове упорядочилось, превратившись в ясные впечатления. Он подумал, что такое раннее время ужина и само заведение соответствуют его изменившимся жизненным обстоятельствам. Он мысленно согласился с Гари: что место это уютное, что оно даже может служить прибежищем для людей без особых претензий. Если поначалу ему делалось не по себе при виде пустых столов и стульев, которые как-то бессобытийно – окоченело и упорядоченно – заполняли залу, то теперь такое ощущение прошло; даже резкий свет над их головами, как ему подумалось, стал мягче. Вероятно, они оказались единственными здесь посетителями по чистой случайности; а еще потому, что пришли в неурочный час.
– Я не знаком с Агнетой,– сказал он, не взглянув на Гари, – Как ни странно, еще не знаком. Мы с тобой о ней часто говорили. Но до сих пор мне не представился повод с ней познакомиться.
– Ты ее избегал, – ответил Гари, растягивая слова. – Думаю, зря. Она не из тех девушек, которые быстро надоедают или которых, когда ты их теряешь, можно забыть, не пролив и пары слезинок.
– Да-да,– сказал Матье, – мы снова и снова, так или иначе, затрагиваем ту тему, что отношения между нами тремя улучшились бы... или упростились, если бы мы сумели образовать некое подобие трилистника. Ты не испытываешь брезгливости ко мне, я – к тебе; но ведь мы имеем дело не с арифметической задачкой, которая будет решена, как только Агнета сама согласится принять меня или покорится твоей воле... – или как ты это предпочитаешь назвать. Как бы то ни было, сегодня я с ней познакомлюсь. Повод для этого есть...
– Между прочим, уже ровно девять, – сказал Гари. Он заплатил кельнерше.
Родители Агнеты жили в доходном доме на улице Нансена. Когда друзья подошли к подъезду, Гари еще раз взглянул на часы.
– Четверть десятого, – сказал он. – Отец уже отправился на работу.
Они поднялись на три ступеньки. Гари позвонил. Агнета открыла дверь.
– Это Матье,-сказал Гари.
– Ах... – выдохнула Агнета, немного испуганная, но решившаяся безропотно принять все, что бы ни воспоследовало.
Она еще раз повторила свое «Ах», теперь прибавив к нему «Очень приятно». Матье уже стоял рядом. Гари кратко объяснил ситуацию. Все трое прошли в гостиную. Прибывшие даже не сняли с себя пальто.
– Это Матье, – сказал Гари, – мой друг, сын директора пароходства, которому принадлежит мое судно...
Мать Агнеты одобрительно кивнула. Но симпатия к гостю, которую она почувствовала в первый момент, испарилась, как только Гари рассказал немного об обстоятельствах, побудивших его привести с собой Второго. Объяснение, что Матье сейчас оказался практически без денег и потому попросил у него, Гари, разрешения переночевать здесь, побудило женщину изменить свое хорошее впечатление о госте – на мнение прямо противоположное. Она подумала, что Гари лжет. Не может быть, что этот чужак и есть Матье Бренде. Сын миллионера, у которого не нашлось пары крон, чтобы снять номер в отеле, – для нее это было нечто за гранью реальности. Это попросту не укладывалось в ее представления о собственности и системе рангов. Она пришла к выводу, что дружба рядового матроса с сыном директора пароходства есть чистая выдумка, никакими доказательствами не подтвержденная. Ее с самого начала ввели в заблуждение – неизвестно только, с какой целью. Но и эта цель, как ей показалось, прояснилась, когда Гари – простодушно, не догадываясь об изменившемся настроении хозяйки дома и не замечая ее оскорбительной холодности, – заявил, что Матье мог бы спать в общей комнате будущих супругов (мать Агнеты считала предстоящую свадьбу делом решенным), на кресле-кровати. Да, эта женщина поняла (думала, что поняла): речь идет о сомнительной афере, о заранее обговоренной игре – сводничестве, совращении невинной девушки, триализме. Слов, чтобы выразить свои опасения, у нее не было; зато, как у всякой хитрой мещанки, был инстинкт. Она почуяла неладное: угрозу разрушения ее мира силами самой жизни, авантюрный излом бытия, что-то такое, что подрывает обывательские представления о порядочности, основы повседневности; она ощутила реальность трагического: страстей, греха, расшатывания устоев, несоблюдения условностей. Но у нее для всего этого не было слов. Эта ее бессловесная враждебность (которую Гари вообще не замечал, тогда как у Матье щеки зарделись от стыда, а у Агнеты заколотилось сердце) в конце концов сделала свое дело. Матье прервал безостановочные разглагольствования друга, поднявшись и тихо сказав: «Мне, пожалуй, лучше уйти».
Гари истолковал эту фразу как оскорбление Агнеты, как признание в антипатии к ней; о матери он даже не подумал. Он твердо вознамерился убедить Матье в его неправоте. Он надеялся со временем, когда эти двое сойдутся ближе, доказать Матье, что Агнета, несмотря на врожденную или воспитанную в ней женственность (телесную женственность, он так это для себя формулировал), остается человеком, то есть существом, обладающим неким запасом доброй воли и определенным набором физических качеств. Теплая, миловидная плоть; юность, текущая, словно ручей по камням: равноценная (или, скорее, почти равноценная) Ты и Я их мужской дружбы; к Агнете тоже имеет касательство, ее тоже захлестывает со всех сторон дьявольский поток, в котором смешаны продукты гниения и самая что ни на есть голая жизнь. Правда, крыльев у Агнеты нет. На мгновение – он сам не понимал, как такая картина могла возникнуть в его мозгу – Гари увидел стоящего посреди комнаты Матье как птицу, примостившуюся на ветке: птицу наподобие совы, но с поникшими, печальными крыльями. (За крылья он принял полы пальто.) И потом внезапно сова опять превратилась в неприкрашенный образ Матье.
Гари прикрыл глаза рукой, чтобы ничего такого не видеть, и крикнул:
– Это неприлично, что ты хочешь уйти! Ты останешься... Других вариантов нет. Обсуждению подлежит лишь то, как мы распределим спальные места.
Его крик оказал двойное воздействие. Матье сел, еще раз поднялся; освободился от своего пальто, повесив его на спинку стула; уселся окончательно и бесповоротно. Почему он именно в тот момент почувствовал необходимость снять пальто, никто не понял. Что же касается матери – госпожи Ли, – то она поняла следующее: на эту ночь ей придется смириться с присутствием в доме постороннего. Хотя возражений у нее накопилось немало, она не посмела их высказать. Эти возражения, если можно так выразиться, потеряли зубы. Она начала наконец что-то лепетать, объяснять положение дел. Сказала, что ее муж, отец семейства, не должен знать о незваном госте. Нельзя и чтобы гость воспользовался какой-то другой комнатой, кроме спальни Агнеты: потому что в других помещениях его могут ненароком увидеть, мало ли кто. Завтра он должен будет встать очень рано и покинуть дом до возвращения ее мужа. Она, дескать, чувствует угрызения совести, потому что согласилась на нечто неправильное, неподобающее. Она не верит, что нельзя достать денег, чтобы оплатить одну ночь в отеле. Но, как бы то ни было, она заранее предупреждает: гость в любом случае сможет провести в их доме – с ее согласия – только одну ночь.
Она будто себя же уговаривала, склоняя к чему-то, противоречащему ее убеждениям; она показала себя уступчивой и коварной, как сводня, хотя по-прежнему мысленно обвиняла в сводничестве матроса Гари. Но она чувствовала, что не может играть другую роль: теперь, когда жених дочери прикрикнул на нее, сказал свое властное слово, которому подчинилась и она, как до нее – Матье. Она, следовательно, смирилась с тем, чего вообще-то не собиралась разрешать. И вовсе не потому, что полагалась на добродетель дочери или на ее умение соблюдать приличия; она теперь, можно сказать, сама принуждала Агнету к чему-то плохому или неприличному, сталкивала в неотвратимое. «В конце концов, – думала она, – этот чужак – сын очень богатого человека; а может, и нет, может, он кто-то другой...» Она вдруг сообразила, что запуталась.
Она поднялась.
– Мой муж не должен узнать об этом: ни теперь, ни после. Господину Бренде придется встать очень рано и покинуть наш дом... Или тихо сидеть у Агнеты, в запертой комнате, пока Альвид не заснет по-настоящему крепким сном.
Она отправилась на кухню, чтобы сварить кофе.
Матье посмотрел на Гари: тот сидел, высоко подняв голову, добродушный и красивый, как в лучшие свои часы; губы его слегка изогнулись: обветренные, неотразимые. Матье тотчас отвел взгляд, чтобы не изойти тоской. Тут он вспомнил, что и Агнета сидит с ними рядом; что он обязан и ей уделить немного внимания.
Минуты, как всем известно, улетучиваются бесследно. Человек очень часто думает или ощущает такое, что никогда не будет занесено в гроссбухи его сознания. Или он произносит слова, не соответствующие тому ландшафту, который терпеливо выстраивают его мозговые клетки.
– Мы делаем что-то не так, – сказал Матье тихо. – Мы провоцируем недовольство, а ведь все дело в недоразумении: просто что-то не прояснено до конца...
– Иначе нельзя, – перебила его Агнета, – Я прежде не была с вами лично знакома, Матье (можно вас так называть?.. вы ведь друг моего друга); но вы постоянно присутствовали в рассказах Гари. Ваше имя. И ваши особенности... ваш внешний вид. Я знала, какие у вас глаза, какие губы. Он описывал мне ваши руки... и вашу суть, насколько умел ее выразить. Его восхищение часто вызывало у меня странную реакцию. Ревность... или растерянность... но не желание познакомиться... скорее наоборот... желание с вами не встречаться... решение уклоняться от такой встречи... насколько это зависит от меня. Гари говорил о вас... как о человеке в наивысшем смысле... существе недосягаемом... до которого, из-за его доброты и чужести в этом мире, и дотронуться-то нельзя... которое кажется холодно-отстраняющим, но на самом деле так проявляется его жалость. И вот сегодня я вижу вас: вы беспомощны, вас стесняет такая малость, как недоброжелательность моей матери. Вам стыдно, вы в себе не уверены, не ощущаете своего превосходства... а скорее испытываете страх.
– О чем вы? – сокрушенно спросил Матье. – Я очень простой... И вы меня не за того принимаете... Ничем особенным я не выделяюсь. Мое лицо... уж какое ни на есть... глаза... наверное, и мои беспокойные руки... показывают одно: что я не ощущаю себя счастливым, включенным в какой бы то ни было порядок. Я живу без определенного плана... и даже без идей... у меня их почти совсем нет. Может, когда-нибудь я честно признаюсь, что я человек слабохарактерный, со скудной фантазией... практически лишенный витальной субстанции. С другой стороны, я не настолько глуп, чтобы кичиться богатым отцом. Мореплавание, очень может быть, это прекрасное, или великое, или полезное дело. Но я-то к нему никакого отношения не имею. Любой матрос извлечет из него больше жизненных впечатлений, чем я.
– Ну хватит... – возмутился Гари, – Опять ты разводишь тоску. Мы пришли сюда... чтобы ты познакомился с Агнетой...– Тут он взглянул на нее. Она опустила глаза. Она, казалось, хотела скрыть слезы. – ...И вдруг получился такой безрадостный вечер.
– Вечер только начинается, – храбро сказала Агнета. – О каком бы начале ни шла речь, нужно приложить усилия, чтобы его выдержать.
На этом беседа иссякла. Вошла госпожа Ли, с кофе. Она принесла только три чашки.
– Мне все это не нравится, – сказала она, глядя куда-то в пространство, мимо сидящих. – Я лучше останусь на кухне.
– Мама... Твои опасения неоправданны...– Агнета попыталась как-то разрядить обстановку, что-то поправить; но ей это не удалось. Она сама колебалась, не умея разобраться в собственных мыслях. А ни Гари, ни Матье ее не поддержали. Госпожа Ли – нельзя сказать, что бесшумно – опустила поднос на стол, расставила чашки и быстро вышла из комнаты.
– Она всегда так, – сказал Гари, – приходится с этим мириться.
– Надо бы ее вернуть, – сказал Матье, – она рассердилась или чем-то встревожена. Она не может объяснить себе моего вторжения. Если она не согласится с нами посидеть, нам и друг с другом будет труднее.
Агнета поднялась и вышла. Но вскоре вернулась.
– Она не придет, – сказала, – ее не переубедишь. Она пьет кофе. И в своем упрямстве вполне довольна.
– Именно своим упрямством она и довольна, – прокомментировал Гари. – Люди испытывают наибольшее счастье, когда берут на себя роль Противника. Поэтому, рассуждая по аналогии, можно предположить, что дьявол – если он есть – счастливейшее из всех созданий.
– Нет его! – бросил Матье.
– Однако несчастливые создания в любом случае существуют. Я имею в виду насквозь несчастливых. Одиноких или наполовину одиноких... – сказал Гари.
– Перестань! – оборвал его Матье.
Агнета наполнила чашки. Все трое стали пить кофе. Молча. Госпожа Ли еще раз заглянула в комнату.
– Я ложусь спать, – сказала она, – Спокойной ночи! – Это прозвучало примирительно.
Трое оставшихся молчали. Гари снял пальто. Первым нарушил тишину Матье.








