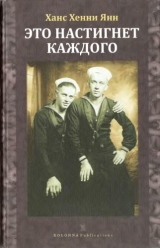
Текст книги "Это настигнет каждого"
Автор книги: Ханс Хенни Янн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 25 страниц)
– Уйдем отсюда, Гари: кто-то... тот человек... за нами наблюдает.
– Давай, Матье, устроим поминальную трапезу, для нас троих: для мамы, тебя и меня. Мы же хотим этого – в память о ней.
– А <...> мы не пригласим?
– Нет! – Гари сказал это решительно, чуть ли не со злостью; но объяснять ничего не стал.
Теперь они шагали по улице.
– Мы устроим пиршество в гавани, в Доме паромщика. Там нас знают. Это недалеко. Нам выделят комнатку, где мы будем одни. И там очень неплохая еда.
– А агенту господина Йозефа Кана там будет очень удобно за нами наблюдать. – Матье не удержался, сказал это. Чуть позже ему пришло в голову, что на имеющиеся у него деньги он должен прожить до конца месяца. Но он эту мысль отогнал.
Матрос Гари попросил накрыть стол на троих.
– Начнем с омара, – сказал он, – как тогда, когда мы ужинали здесь в первый раз; только сегодня я буду платить за напитки пополам с тобой.
Матье снова подумал, что деньги нужны ему на жизнь. И снова отмахнулся от навязчивой мысли.
Сперва они выпили шнапсу. Покойница с ними не пила.
К омару заказали шабли. Теперь Гари наполнил бокал для матери. Он сам отхлебнул оттуда и дал отхлебнуть Матье. Остаток же выплеснул через окно на грязный двор.
– Поминальная речь будет позже, – сказал он, – Скоро выяснится, одни ли мы за столом. Когда к нам присоединится сам-знаешь-кто, язык у меня развяжется.
Выдержав паузу, он снова заговорил.
– Сегодня просто такой необычный день, без всякого порядка. Я не оспариваю того факта, что мы с тобой сидим здесь; но мы, сидящие здесь, – всего лишь два куска плоти. Где-то еще, в прошлом, мы присутствуем собраннее, как что-то лучшее или более цельное, – или присутствовали, когда-то. Например, в Бенгстборге... Или еще раньше, когда ты лежал больной и всякая чуждость, всякое взаимное отвращение, всякая разница между нами постепенно стирались... Ибо смерть подступила ко мне так же близко, как и к тебе, хотя я был здоров как никогда, обжирался, скучал, устраивал всякие безобразия, потому что очень хотел жить, совсем распоясался... и все же мог жить дальше лишь при одном условии. Я тебя мучал, навязывался тебе, хотя ты в твоем состоянии был неспособен меня принять. Я подбирался к тебе, даже когда ты лежал, одурманенный наркозом,-чтобы выплакаться. Тогда наше с тобой существование было другим...
– Прошу тебя, Гари, перестань. Правда, сам я почти не помню тех недель, которые провалялся в постели, хотя они и были решающими для моей жизни. Они для меня померкли из-за лихорадки и морфия... и из-за моей слабости, слабости моего духа. Рассказывай о них, сколько хочешь, только не сейчас. Не сейчас, сейчас это ни к чему. Для тебя это уже прошлое. А то, что об этом узнаю я, задним числом, мучит... точнее, тревожит меня только в дурные часы; поскольку это уже миновало, поскольку наше существование изменилось... поскольку простоя в единстве двоих не бывает... пока их жизнь продолжается. Ты сегодня подавлен, видишь перед собой хаос... и не вполне узнаешь себя. Это потом пройдет. Того, что есть во мне, в тебе нет. И все же ты вдруг заговорил так, как если бы говорил я. Мы не вправе допускать такой путаницы. Она не соответствует той действительности, которая значима сейчас. Боюсь, ты не погрешил против истины, назвав нас двумя кусками плоти. То, что когда-то было еще и духом или душой, шедевром взаимной согласованности, высшей алхимией творения, распространявшейся и на наши тела, стало сегодня... о будущем думать не хочу... очень земным... ничего более не обещающим.
Оба теперь молчали, пили, поглощали еду без особого удовольствия.
– Мы сидим за поминальной трапезой, – сказал Гари, когда перед ними уже неаппетитно громоздились осколки омарового панцыря. – Не ждешь же ты, что я стану поднимать твое настроение. Либо дело с нами обстояло именно так... и в то время это было действительностью... либо это происходило не с нами. Тогда происшедшее все же остается действительностью – только нас оно не касается.
– Нас оно не касается, – глухо повторил Матье.
– Ты спятил, Матиас. Не с ангелами же то было. Все разыгрывалось в нашем, земном мире. Ты, один, периодически отключался из-за лихорадки. Но я-то никуда не девался.
– Что такое лихорадка? Что такое взаимная преданность? Иллюзии. Нас уносит все дальше от них. Но мы к ним возвращаемся... часто. Мы ищем трупы наших прежних дней. Я мало приспособлен к реальной жизни. Может, в тебе я больше всего и люблю твою реальность -то, что ты отграничен от всего остального, постижим. О тебе можно сказать, что ты – дикий; или: исполненный решимости, безудержный в желаниях, трезвомыслящий, простодушный, здоровый...
– Такие характеристики ничего не объясняют. Это лишь толкования... и к тому же плохие. С ситуацией, требующей величайшего напряжения сил... с необходимостью принять настоящее решение... человек всегда остается один на один – и не может найти опору в разумном. Так было в ту пору... и, вероятно, повторится снова. Самое позднее, когда настанет срок умирать – и нам покажется бессмысленным, что мы потратили столько времени на обеспечение своего пропитания.
– Гари – твои слова ужасны... Да еще и неоднозначны.
– Я мог бы воплотить их в реальность, которую ты так любишь... если речь идет обо мне. А тогда все это началось с нами... когда я толкнул калитку и вышел со двора. Был луг, была улица, было место расправы, за кустами. Ты плакал. Я же сказал, в первый раз, что у меня нет никого кроме тебя, Матиас. Я боялся, что не пройдет и часа, как я тебя потеряю. Я кричал на тебя, чтоб ты не вообразил, будто вправе быть только грезой – как мой отец. «Останься тем, за что можно ухватиться!» – приказывал я тебе. Я догадывался, что дырка у тебя в брюхе совсем не пустяк, что через эту дырку ты можешь от меня ускользнуть, без надежды на новую встречу... Если, конечно, я не нанесу подобную рану себе. Но я чувствовал, что не способен на такое. Я не очень надеялся на повязку, которую тебе наложил. Сперва ты еще как-то переставлял ноги, держась за меня. Но потом совсем отключился. Ноги твои больше не шагали, руки ничего не держали, глаза не смотрели. И тогда, Матье, я понял, что остался один. Начал прикидывать, что к чему. Положил тебя на землю. И прошипел со злостью: «Теперь он, собака, умрет». Но я все же принял решение. Подумал: если я привяжу себе на шею камень, то наверное сумею утопиться. «До такого пока не дошло, -успокаивал я себя, – он еще дышит, этот паршивец, эта половая тряпка». От ярости и страха я плюнул тебе в лицо: «Ты заслуживаешь пинка в задницу!» Потом я взял тебя на руки и понес дальше. Ты снова пришел в себя; но идти не мог. Приходилось тебя тащить, хотя ты и был в сознании. Через каждые 100-150 шагов я просил тебя поставить ноги на землю. Ты слушался; но едва ли сознавал, что делаешь. Наконец я понял, что силенок моих не хватит, чтобы волочить тебя еще несколько километров: ты стал как неподъемный мешок. Я впал в безумную ярость. Проклинал и тебя, и себя. Мы сидели на скамейке под голыми деревьями. Это был конец, предел отчаянья. Ты больше не издавал ни звука, привалился к моему плечу. Я ждал какой-нибудь случайности, ибо другого не оставалось, сами мы не могли решить свою участь.
– Гари... да, тогда все и началось. Мне досталась роль более слабого... И я играю ее до сих пор. Я бы стыдился этого, если бы при таких отношениях... при отношениях, сложившихся между нами... был еще способен испытывать стыд; но моих способностей хватает лишь на печаль, безграничную и не имеющую конкретной причины. Этот неуютный земной мир и все звезды объединились, чтобы оглушить меня и сбить с толку... чтобы превратить в человека грезящего, который повсюду видит только беду. Будь у меня мужество в этом себе признаться... я бы решил, что принадлежу к тем пропащим, которым лишь для того что-то обещано, чтобы они мало-помалу хирели из-за неисполнения обещанного...
– Мы, Матиас, оба пропащие, в разном смысле. Однако вместе мы составляем некую цельность. И это еще подтвердится. Я бы давно убежал от тебя, если б мог. Я пытался. Я загонял свой член в какие попало щели, лишь бы мое влечение отвлеклось от тебя. Но такого рода удовольствия скоротечны. И все повторения не лучше первого раза. Я от тебя не убегаю. Я этого не могу. Уже тогда не мог. Сидя рядом с тобой на скамейке, я чувствовал: все случившееся... жесткое, неумолимое, неизбежное... касается нас обоих. Твоя гибель станет и моей гибелью – в этом я уверен. Столь сильно я тебе предан... или зависим от тебя. Часто я чувствовал себя оскверненным, потому что я – не только Гари, но и эта плоть Гари, не способная противиться искушению: вести себя крайне нагло и по отношению ко мне самому, и по отношению к любой девушке. Но что бы я ни позволял себе, мне гарантировано твое прощение. Ты ведь взял на себя такое обязательство. Между нами не бывает ссор – только недоразумения. Я всегда нетерпелив, ты – бесконечно терпелив. Конечно, уже в тот первый день я полюбил тебя как своего друга. Но с первого мига, когда подпал под твое влияние, я чувствовал и неудовлетворенность тобой – потому что ты был таким истерзанным, беспомощным. Я ругал тебя. Я хотел видеть тебя здоровым. Хотел того, что уже не могло стать реальностью. Мне бы следовало быть скромнее в своих желаниях, ведь, как-никак, я нашел человека... другого человека; мне бы следовало с благодарностью принять всё. Но я заартачился и отрубил тебе палец. Когда израсходованными оказались и мои силы, и свойственное мне чувство юмора, я проклял всю эту авантюру: и тебя, и себя, и нашу любовь, и нашу жизнь. Я проклял нас. Но я уже не мог просто бросить тебя и вернуться в свой двор. Я ждал какого-то исхода: либо твоей смерти, либо чего-то непредвиденного. И тут у кромки тротуара остановилось такси. Шофер вылез из машины, подошел к нам, спросил, не случилось ли чего. Я сказал ему, что у меня с собой только 15 эре. Он потерял к нам всякий интерес и уже собрался уехать. Тогда я назвал ему твое имя; крикнул, что ты умрешь у меня на руках, ежели он не довезет нас до дому.
Матье чувствовал себя ничтожеством, как в худшие свои часы. В голове была пустота, не формирующая никаких мыслей. Его ощущения, сложная машинерия сердечных склонностей, казалось, сгорели дотла. Он вынужден был признаться себе, что для поддержания жизни, пусть самой элементарной, недостаточно просто смотреть на губы и руки Гари или заглядывать ему в глаза. А узнавать что-то новое о прошлом – значит усиливать власть воспоминаний, еще сильнее привязывать свою тоску к минувшему. Он и не понимал, и не старался защититься от того, что постепенно превращается в игрушку невыразимой печали, в воплощенье беззвучного отчаянья. Он молчал.
Гари же продолжал говорить.
– Начало возобновлялось в тот день – именно как начало – снова и снова. Будто мало того, что я на заднем дворе познакомился с тобой, отрубил тебе палец, беззаветно тебе предался, Тиге бросил на произвол судьбы, а тебя выволок оттуда. Мне еще не доверяли. Вышние силы. Точнее, они не доверяли самим себе. Ведь такой сынок шлюхи, говорящий на сутенерском жаргоне, не переделается в пять минут только потому, что позволил себе влюбиться в светловолосого стройного подростка, внезапно вынырнувшего неизвестно откуда: в нечто среднее между королевичем и предназначенным к убою животным. Я бы и хотел ради тебя умереть – тогда; но я обладал лишь одной способностью: хотением жить. Потом была эта поездка на такси... Мне пришлось притулить тебя к своей груди. Я держал твою руку, левую. Смотрел на закрытые веки и полуоткрытый рот. Дышал в твои волосы. Я грезил. Греза получалась нежной и бесстыдно дерзкой. Я впервые играл в такую игру: будто я не одинок в этом холодном мире... Будто меня, помимо моей воли, сделали залогом; и я своим здоровьем, всей своей сутью должен помочь чему-то необыкновенному, нежданному – чуду. И этим чудом был и остаешься ты. Ты был для меня целым миром, единственной целью, единственной грезой, которая могла бы существовать как реальность – – если бы ты не умер. Я смотрел на тебя, чувствовал тебя, чувствовал твое тепло. А ты тем временем умирал, делался все холоднее. Но потом вдруг опять начал согреваться, опять задышал... Все еще оставался; оставался, живой и тяжелый, у моей груди. Пусть и без сознания. Или – с искаженным болью лицом, с гримасой немой жалобы, когда наша колымага подпрыгивала на выбоинах. Матиас, мысли мои – вблизи твоей головы – текли красиво и чисто; но плоть в промежности пылала, как никогда прежде. И тут нет противоречия. Такой тогда была моя любовь, Матиас: конспиративным заговором и новым началом; такой была моя жизнь, которую я противопоставил твоему умиранию: жизнь, равная по ценности твоей. Протяженность пути была небольшой: около десяти километров. Совсем малость на нашей планете, если едешь на быстрой машине, а голова твоя занята невероятными впечатлениями. Поездка получилась очень короткой. Короткой настолько, что я даже не успел хоть раз прикоснуться губами к твоим губам.
– Давай закажем еще что-нибудь, – предложил Матье.-Я позову кельнера.
– Ладно... – Гари возражать не стал. – Но мне сейчас другое пришло на ум. Сегодня я, пожалуй, могу тебе такое сказать. Мы порой пребываем вне той субстанции, из которой, как нам представляется, состоим. После чего стыдимся самих себя: вероятно потому, что не знаем, в чем заключалась цель нашей жизни, и не можем разобраться с собой.
Матье Бренде поднялся и подозвал кельнера. Они с Гари посовещались, как лучше продолжить трапезу. Матье полагал, что к мясному блюду хватит и полбутылки бордо. Гари же настоял на целой и заявил, как если бы был опытным выпивохой, что за напитки будет платить на равных. Сын директора пароходства еще до этого наблюдал, как друг его хлещет шабли, словно воду... Кельнер пометил в своем блокноте заказ на целую бутылку.
Матье Бренде подумал, что ему еще предстоит обустраиваться на новом месте. Однако желание что-то возразить тотчас бесследно исчезло, не устояв перед внезапной алкогольной жаждой Гари.
– Мы чуть не с самого начала делали все неправильно, -сказал он вслух.
– Вероятно...
– А теперь уже ничего не поправишь. Теперь мы прикованы к фальшивому. На загривке у нас сидит чужая судьба. Я, Гари, испорчен... Я забыл умереть в должный момент. Я себя больше не узнаю. Слишком многое, что должно бы быть для меня важным, скрыто покровами... Будто кто-то забыл проработать меня тщательнее... дать мне определенную волю. Я не распознаю в себе никакого однозначного намерения... Не могу ни на что решиться... Не умею руководствоваться тем здравым смыслом, который подходил бы именно мне. Я лишь сопротивляюсь здравому смыслу других. И иногда – даже здравому смыслу, присущему тебе.
Гари не ответил.
– То, что я так с тобой говорю, – неумно... недостойно. Все из-за этой непроницаемости, которая обступила меня... Из-за этой жуткой ночи. Прости!
Больше они не разговаривали. Кельнер пришел и ушел, пришел снова, откупорил бутылку, принес мясное кушанье, салат, овощи. Гари повторил ритуал выпивания с матерью, выплеснул остаток вина на грязный задний двор.
– Надгробную речь о ней... хочу я произнести. Вначале я существовал лишь как семя никому не известного мужчины. А сейчас я наличествую как его образ, его целостный облик, и у меня, опять-таки, имеется семя. В этом, значит, и состоял высший замысел. В общем и целом. А мать моя была шлюхой. Много чего миновало. И еще другое минует. Мне кажется, что каждый день нашей жизни -последний день. Но всякий раз после ночи жизнь начинается сызнова, с бессмысленным упорством. Бывают и праздные дни... полные скуки, когда ты даже не хочешь предаваться удовольствиям. Припоминаю один такой день. Я просто не пошел в школу Мать лежала в постели, пользуясь тем, что все равно не могла работать – у нее были месячные. Я переместил свое лежбище из кухни в ее комнату. Застелил кресло-кровать собственной простыней, нашел вторую простыню и положил ее сверху, чтобы не просвечивали пятна – следы случайных мужчин, не исчезавшие никогда, сколько бы мать, теперь мертвая, ни терла матрас щелоком или этиловым спиртом. Грубая откровенность такого рода памятных знаков тогда еще смущала меня. «Одной простыни вполне достаточно», – сказала покойница. У меня было на сей счет свое мнение, и я ответил: «Тут и трех вряд ли хватит». Однако я удовольствовался двумя, растянулся на свежей простыне, прекрасно себя чувствуя, укрылся одеялом и, в общем и целом, был Гари: будущим мотыльком в своем коконе. Покойница начала говорить. Я притворился, что сплю. Но я ощупывал себя, пока она говорила. От пальцев ног до волос на голове ощупывал я себя. Грудь, пупок, кусок плоти в промежности, икры, губы, ноздри, округлости ягодиц и заднюю щель... – ибо в тот час я был сотворяем заново. Со всеми отдельными деталями. Она творила меня из плоти моего отца. Точно таким, каким он был когда-то, сделала она и меня. От себя ничего не прибавила. Я был создан – целиком и полностью – из семени, без участия яйцеклетки; создан только из мужского материала, без содействия матери. Она рассказывала мне об этом мужчине. Кем или чем он был, она знала лишь приблизительно, ее это не заботило. Он то ли происходил из какой-то сельской местности, то ли приплыл из Швеции. Теперь уже не узнаешь. Покойница была тогда просто девушкой, никакой не шлюхой. Это нужно отметить. Они стали близки, эти двое. Их физическая близость была самым болезненным, что довелось пережить ее телу... не считая грузовика, размозжившего ей голову. Роды, то есть процесс моего рождения, по сравнению с этим можно считать детской игрой. Так она, во всяком случае, говорила. У мужчины между ногами болтался добрый фунт плоти, и был этот мужчина неумелым, как молодой пес. Мать не знала, куда ей деваться со своей болью, ибо, понятное дело, позволяла мужчине всё. Она любила его, тут нет никакого сомнения. Она просто плакала. Ее тело плакало, а душа, мысль, фантазия – называй это дополнение к телесности как хочешь -радовались, украдкой радовались тому, что все получается, хоть и с такими неимоверными трудностями, возникающими из-за того, что член больше входного отверстия. Ее глаза утешались, рассматривая мужчину. Они рассматривали его очень пристально, удерживали его образ. Нужно сказать, что удовольствие было сомнительным. Во второй раз, вероятно, у них это вышло лучше. Но на том дело и кончилось. Мужчина ушел и больше никогда не вернулся. Они провели вместе два воскресенья – и все, ни больше ни меньше. На самом пике их любви мужчина исчез. Тут впору предположить, что и ему тоже размозжил голову грузовик. Злые языки поговаривали, будто он сбежал в Швецию, чтобы уклониться от своих обязательств. Но ведь в то время никто не знал, что я появлюсь на свет, покойница тоже этого не знала, даже и не догадывалась. Она-то не сомневалась, что ее любимый мертв, что он канул в вечность, сброшен со всех счетов, больше не наличествует; что он со своим фунтом плоти, болтающимся между ногами, был ликвидирован как нечто ненужное. Он продолжал существовать только в ее мозгу – как образ; и в ее лоне – как залог будущего. Когда она почувствовала или поняла, что он угнездился в ее нутре, она перестала плакать. Она начала придумывать меня, она составляла меня из кусочков, ориентируясь на образ, существующий в ее мозгу. Вытравить плод она не пыталась и вообще не жалела о том, что я уже есть. Она, напротив, всеми силами души работала надо мной. «Он должен быть таким-то», – говорила она и думала о сосках своего возлюбленного, или о его коричневой коже, или еще о чем-то, что ей в данный момент больше всего в нем нравилось. Разумеется, ей в нем нравилось всё; но осознавала она это лишь постепенно. Руки, глаза, волосы – она всё хотела воссоздать очень точно. Она, наверное, говорила: «Лучше и быть не может. Рта красивей, чем этот, я своему сыночку не сделаю. Лучших ушей я не знаю. Телосложения, если смотреть сзади, красивее не бывает. И если смотреть спереди, красивее не бывает. Все это – самое красивое, вне всяких сомнений. Кожа – гладкая, покрытая волосами лишь там, где нужно. Пупок – приятно округлый, слегка закрученный и слегка углубленный, как раз такой, каким ему и следует быть, чтобы ничто в нем не навлекало критику, чтобы он был таким, что лучше и не бывает». Разумеется, мать не забыла и про кусок плоти, болтающийся между ногами. Гладкий, большой, упругий и твердый, со священной головкой. Я лежал и ощупывал себя, пока она говорила: ощупывал пупок, грудь, кусок плоти между ногами, икры, губы, ноздри, округлости ягодиц и щель между ними. От пальцев ног до волос на голове ощупывал я себя. И я думал: «Все это, значит, и есть он. Его ты любишь. Этого ты любишь: этого без вести пропавшего, твоего отца. Ты и есть твой отец». Я любил его, как никакого другого человека. Я растянулся на постели, и мне было очень хорошо. Я никогда не любил покойную так же горячо, как этого мужчину, который ее обрюхатил и потом смылся. Ведь, по сути, любя его я любил самого себя. Так вот: ей, значит, удалось сотворить меня полностью по его подобию. Этого нам не следует забывать. Она не думала, как бы вытравить плод. Напротив, она любовалась своим животом, становившимся все круглее. Тут уместно сказать, что она была лучшей возлюбленной, какую может себе пожелать мужчина. Но когда я родился, она наделала кучу ошибок. Она забыла, что нужно быть практичной, вести себя разумно. Она допустила, чтобы родители ее выгнали: не сумела так или иначе к ним подстроиться. Она ведь могла им сказать, что ее жених попал под машину. Она этого не сказала. Она молчала. Затем она забыла, что можно попытаться торговать – молоком или хлебом. Она бы могла, на худой конец, открыть маленькую лавочку или киоск: продавала бы, скажем, газеты или сигареты, почтовые открытки или ванильное мороженое. О такой возможности она забыла. Проявила легкомыслие. Она не представляла себе бытие как нечто реальное. Она сотворила меня по подобию своего возлюбленного. И на этом исчерпала себя. В этом и состояла ее миссия, полагала она; свою миссию она выполнила, все остальное значения не имело. Она была – на свой лад – свихнувшейся, это мы должны констатировать. Она сочла себя израсходованной. Избранной, а потом отвергнутой. «Тем, что упало, люди брезгуют», – говорила она. Она была отвергнута, и сама отвергла себя. Нельзя не упрекнуть ее в том, что она даже не пыталась сопротивляться. Не приложила никаких усилий, чтобы стать, например, молочницей или булочницей. Правда, про меня она не забыла. Она поставила себе целью заботиться обо мне. Но делала это неправильно. Она меня сохранила и вырастила, на свой манер. Возвысив в моих глазах отцовский образ и уничтожив свой. Она делала все, чтобы я научился любить отца: всячески подчеркивала его достоинства и никогда его не ругала, не обвиняла; даже в мельчайших своих особенностях он представлялся ей совершенством. Она ложилась с чужими мужчинами, в кровать или прямо на пол, я же спал на кухне. Так это было, Матье. От дружбы с тобой она меня предостерегала; ты ей не нравился. Она говорила, что ты во всем дилетант, что тебе не хватает жизненной хватки: дескать, пока тебя не насадят на вилы, ты не поймешь, что железо причиняет боль. Впрочем, у нее самой было полно заблуждений. Всех людей она видела по-своему: искаженно. В совершенстве она овладела только одним умением: произвести меня на свет; а сверх и помимо этого – никаким. Она вообразила, будто может соблазнить твоего отца. Уже одно это показывает, что она ничего не смыслила даже в собственном ремесле. Кто не заметил бы, что отец твой строит куры только дородным женщинам? Она этого не замечала. И точно так же она не заметила твоей ценности. Она была искренне уверена, что ты бегаешь за каждым смазливым парнем. Когда я попытался разубедить ее, она ответила, что наделила меня хорошей внешностью, а вот про мозги позабыла; и постучала себя по лбу. О мертвых не говорят плохого. Вероятно, последнее, что я сказал, – скверное завершение для надгробной речи. В конце концов, надо признать, что мать имела типичные для ее профессии предрассудки. Ей не нравились голубые. Господь, как она полагала, в своей суровой (слишком навязчивой) мудрости изобрел дырку и штырь – и баста. Наряду с этим, правда, существовало одно-единственное исключение: ее любовь к возлюбленному. Это, с ее точки зрения, не укладывалось в общий порядок. Это было любовью... и ничем больше. В данном случае речь вообще не шла о мужском и женском началах. А только об этом мужчине. В сравнении с которым сама она – ничто. Она была только плотью, которая стала мыслью, одной-единственной мыслью: мною. Покойница до смерти испугалась, когда начала понимать, что, возможно, Господь допустил и второе исключение (а возможно, даже много других); и что юноши на панели, возможно, тоже сотворены Им. Но давай оставим это. Надгробная проповедь, считай, завершена.
Гари затолкал себе в рот кусок мяса, помолчал немного и с уверенностью сказал:
– Хорошая получилась речь.
– Очень хорошая, Гари, – замечательная надгробная речь.
– И на этом с покойницей покончено: ее тело, весь хлам ее жизни сметены прочь. Я же пока остаюсь тут... В ожидании дальнейшего.
Он отпил вина, взял с тарелки еще кусок. Но еда не пришлась ему по вкусу.
– Кушанье остыло, – вдруг заявил Гари, – Мы попросим кельнера убрать со стола и принести нам что-нибудь сытное на десерт.
– А мне нравится холодное жаркое, – возразил Матье.-Если ты еще голоден, то мясом, по крайней мере, пренебрегать не следует.
Гари услышал эти слова, почувствовал, что за ними кроется еще что-то; но что именно, распознать не сумел.
– Я, Матиас, не понимаю тебя. Ты хочешь сэкономить? Но мы ведь справляем поминки по моей матери. Почему я должен есть холодное мясо? Почему ты лишаешь меня десерта? Впервые в жизни я пью, как положено моряку и христианину, и ты уже показываешь мне свое недовольство.
Матье испугался. Он сам не знал, почему. Он снова подумал: с деньгами у него неладно. Подумал: об этом сейчас лучше забыть. Внезапно возникло ощущение, что он 227 теряет дружбу Гари, разрушает взаимосвязь их судеб.
– Что со мной? – сказал он тихо. – Я не могу внятно выразить ни одной мысли... Как если бы вдруг потерял всякую восприимчивость; как если бы был, при полном сознании, одурманен.
Гари с удивлением взглянул на него.
– Ты очень бледен, – отметил он, – Наверное, нынешней ночью ты мало спал.
– Да, правда, – признал Матье. Он было собрался рассказать о своей ссоре с отцом, но потом решил с этим повременить. В нем заговорил доморощенный здравый смысл. Пусть, мол, Гари сперва досыта наестся.
Они заказали себе еще по омлету, посыпанному жженым сахаром, и сыру, коньяку, кофе. Гари откровенно наслаждался едой. Беседа практически иссякла.
Рядом со счетом Матье положил стокроновую бумажку и получил в качестве сдачи какую-то мелочь. Он попросил принести еще две рюмки коньяка, смутно подумав, что как-нибудь справится с трудностями; <...> потом заговорил.
Но сперва пододвинул к себе кожаный чемодан, показал его Гари в подтверждение серьезности того, о чем собирается рассказать.
– Мой отец не сказал, что считает нашу с тобой дружбу неестественной, подозрительной или болезненной. Он охарактеризовал ее как мумию любви, то есть как нечто мертвое, давно исчезнувшее и лишь мною искусственно сохраняемое... с помощью ядовитых снадобий памяти... в качестве лишенной содержания внешней формы. Ты, по его мнению, фактически уже давно перестал быть моим другом, поскольку, в отличие от меня, мыслишь холодно и ясно – разумно, – и руководствуешься здоровыми инстинктами. Только мое ослепление – инкапсулированный во мне давнишний смертельный страх – дьявольским образом приковывает меня к пережитому в детстве кошмару и, соответственно, к тебе. Я, дескать, обязан вернуть тебе свободу, это мой неизбежный долг; я должен отпустить тебя в твою действительность, в твою простоту и ясность, в твою самобытность; должен возвратить тебе, без всяких ограничений, твою волю, которую до сих пор я подавлял – своим непроясненным поведением, капризной слабохарактерностью, тем, что настаивал на соблюдении подростковых договоренностей и верил в магические закономерности. Мол, мы с тобой давно стали друг для друга злыми гениями, и он, отец, более не хочет наблюдать этот безобразный спектакль – как два нормальных человека портят друг друга. Наше общее прошлое засохло, мы должны это наконец признать. У меня, по его мнению, осталось лишь одно обязательство: подобающим образом с тобой рассчитаться – рассчитаться деньгами, чтобы ты мог, вполне осознанно, внутренне и внешне от меня отрешиться; и чтобы ничего больше для себя не ждал. Тебе, дескать, нужно дать ровно столько, чтобы ты мог посещать мореходную школу и после ее окончания приобрести капитанский патент. Ты, дескать, вправе претендовать на такое... внешнее... выражение благодарности, потому что когда-то спас мне жизнь.
Матье рассказывал о ночном разговоре так бесстрастно, как только мог, и старался вновь отыскать в памяти слова директора пароходства, чтобы ничего в них не исказить. Время от времени он умолкал и ждал, не вставит ли Гари какую-то реплику, не попытается ли показать свою точку зрения, пусть лишь в незначительном комментарии. Этого не происходило – точнее, произошло, но позднее.
– Он принуждал меня принять решение: либо последовать его совету, либо уйти.
– Уйти? – переспросил Гари, потому что не уловил смысла сказанного.
– Покинуть наш дом.
Сын директора пароходства объяснил, в какие условия поставил его отец: что он, Матье, отныне должен обходиться скудным ежемесячным пособием; что он теперь не имеет крыши над головой и ему нужно найти себе жилье. Лицо Гари потемнело. Казалось, он чем-то недоволен. Под конец он захотел-таки глубже вникнуть в суть ночного происшествия. Он не утешал Матье и избегал каких-либо одобрительных слов по поводу принятого им решения. Он находил поведение друга неумным, не идущим на пользу ни одному из них. Оба они в результате понесли урон. Бедность к их дружбе ничего хорошего не прибавит. Гари начал осторожно уточнять непонятные ему подробности.
– Значит, господин генеральный директор пожелал со мной рассчитаться... наградить меня... выразить мне свою признательность. Он хотел бы, чтобы я посещал мореходку, то есть какое-то время жил на суше. Предложение совсем не плохое. Без такой помощи мне еще долгие годы придется мотаться по морям. Сбережения у меня пока очень маленькие. Теперь я припоминаю: несколько месяцев назад твой отец однажды заговорил со мной и как бы в шутку сказал, что ежели я когда-нибудь получу капитантский патент, то и корабль для меня наверняка сыщется. В конце концов, втайне я всегда надеялся, что, если дело дойдет до штурманского экзамена, ты мне поможешь: дашь в долг приличную сумму – пару тысяч крон. Наверное, я попросил бы тебя об этом.








