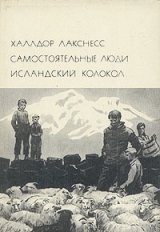
Текст книги "Самостоятельные люди. Исландский колокол"
Автор книги: Халлдор Лакснесс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 67 страниц)
Лакснесс Халлдор САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ
ИСЛАНДСКИЙ КОЛОКОЛ

А. Погодин. Новые саги о судьбах народа Исландии
Во время одного из своих посещений Советского Союза Халлдор Лакснесс в разговоре с несколькими московскими скандинавистами выразил удивление по поводу того, что его «Исландский колокол» был переведен на русский язык и завоевал значительную популярность. Поясняя свою мысль, писатель сказал, что, по его мнению, роман, столь глубоко исландский по своему характеру, вряд ли может быть понят в других странах и, тем более, вызвать сколько-нибудь широкий интерес. Действительно, «Исландский колокол», как и «Самостоятельные люди» и другие лучшие произведения Лакснесса, – это подлинно национальные, подлинно исландские произведения. В своем творчестве он с большим художественным мастерством показал величие и своеобразие исландского национального характера, представил героическую и трудную историческую судьбу родного народа, раскрыл его необыкновенно богатое культурное наследие. Но, конечно же, это нельзя рассматривать как помеху признанию его книг в других странах. Наоборот, мировая известность лауреата Нобелевской премии Халлдора Лакснесса и объясняется прежде всего тем, что в его творчестве нашли отражение величие духа небольшого народа, его вековое стремление к свободе, национальной независимости, социальной справедливости.
В предлагаемой читателю книге Лакснесс представлен двумя его романами. Именно эти произведения – «Самостоятельные люди» и «Исландский колокол» – по традиции, и при этом с полным основанием, называют вершинами его творчества.
Роман «Самостоятельные люди» (1933–1935) был написан еще совсем молодым писателем – ко времени выхода в свет первой книги Лакснессу исполнился только тридцать один год. Но это был уже сложившийся художник с вполне определенными взглядами, четкой и ясной идейной и эстетической программой.
Можно сказать, что эта четкость и ясность целей и действий были по-настоящему выстраданы Лакснессом, стали итогом его долгих и мучительных поисков. Позади у писателя остался длительный и сложный период философских и художественных блужданий, попыток найти ответы на терзавшие его вопросы, радостных открытий новых истин и следовавших вскоре горестных в них разочарований. В частности, длительное и весьма серьезное воздействие на молодого Лакснесса оказал католицизм. В 1923 году он даже принял католическую веру и обосновался в монастыре ордена бенедиктинцев Сен Морис де Клерво в Люксембурге.
К этому периоду относится «Великий ткач из Кашмира», законченный в 1925 году и ставший первым из лакснессовских романов (если не считать забытый роман «Дитя природы», написанный Лакснессом в шестнадцатилетнем возрасте). В этой книге молодой писатель, по его же собственному выражению, полностью обнажил свою душу, вынес на суд людской свои сомнения, духовные терзания. История героя романа, Стейдна Эдлиди, – это во многом и история самого Лакснесса. Стейдн мучительно пытается найти смысл жизни, найти ту истину, которой должен служить человек. Он разочаровывается в мирской жизни, в любви, в искусстве и приходит к вере, вере беспредельной и безотчетной. Но было бы неправильным сводить все содержание романа лишь к утверждению веры, к отказу от земного начала. Решение, к которому в конце концов приходит герой, связано с такими страданиями, что оно не может быть разумным, не может быть истинным. Религиозное обращение – это не постижение смысла жизни, а проявление отчаяния, неспособности и невозможности постичь его. «Решение проблемы в «Ткаче», – писал несколько лет спустя сам Лакснесс, – не дает никакой надежды».
Вторая половина 20-х годов была для Лакснесса периодом решительной переоценки ценностей, коренных изменений в мировоззрении. Эти перемены нашли отражение в публицистическом сборнике «Книга народа» (1929). В ней он подвергает резкой критике свой собственный путь, предшествующее творчество, говорит о стремлении «начать все сначала – на новой земле, под новым небом». Он пишет об опыте русской революции, как о примере для всех народов, заявляет о признании социалистических идеалов. Однако говорить о действительной последовательности его социалистических убеждений вряд ли возможно. «Книга народа» свидетельствует, что мировоззрение писателя было в значительной мере эклектичным, он оперирует в ней как марксистскими положениями, так и идеями модных в то время буржуазных философов, например, Шпенглера. Но при всем при том книга не может не привлекать своей искренностью и страстностью, решительностью и бескомпромиссностью. Весь современный капиталистический мир должен быть разрушен, и на обломках прошлого должно быть воздвигнуто совершенно новое общество – этой идеей пронизана вся «Книга народа». Для молодого писателя не так уж важно то, каким должно быть это новое общество, для него самое главное – борьба, «классовая борьба – борьба высшей формы жизни против ее врагов». Этой цели должна служить и литература, и эту цель, соответственно, Лакснесс ставит и перед своим творчеством.
Первым крупным произведением «нового Лакснесса» стал роман «Салка Валка» (1931–1932). Это рассказ о жизни молодой рыбачки из маленького поселка, затерявшегося где-то на далеком океанском берегу. Уже с самых ранних детских лет в ее характере начинают формироваться решительность, независимость, неспособность мириться с несправедливостями жизни. Она видит, как страдает и мучается ее мать, и она решает, что ее судьба должна быть совершенно иной. И она, сирота, обреченная, казалось бы, самой судьбой на весьма незавидную участь, стойко переносит те удары, которые обрушивает на нее жестокая действительность. Она борется не только за самое себя, за свое место в жизни, но и за других таких же, как она сама, тружеников. В маленьком рыбацком поселке, уклад жизни которого кажется вечным и незыблемым, возникает острый социальный конфликт. Организуется союз рыбаков, начинается забастовка, направленная против купца, держащего в своих руках весь поселок. В гуще этой борьбы находится Салка Валка с ее неуемной энергией, решительностью, бескомпромиссностью. Очень поэтично и бережно показывает Лакснесс богатый внутренний мир своей героини, описывает историю ее большой и трагической любви.
Роман «Салка Валка» был первым шагом Лакснесса к теме, над которой писатель думал уже давно и к которой долго не решался подойти. Он решил предпринять попытку раскрыть в романе самую суть, самое содержание исландского национального характера. Роман «Самостоятельные люди» был задуман как произведение остро полемическое. Дело в том, что в исландской литературе, как, впрочем, и в литературах некоторых других стран, бытовало вневременное, внеисторическое представление о крестьянине как о ядре нации. Такая романтизированная трактовка скрывала то расслоение, которое происходило в крестьянской среде в эпоху капитализма, те исторические изменения, которые претерпевало крестьянство.
Показательно сравнение «Самостоятельных людей» с «Соками земли» Гамсуна. Тематическая близость двух романов не раз отмечалась исследователями творчества Лакснесса. И Гамсун и Лакснесс рассказывают о судьбе крестьянина, который приходит на необжитую землю и вступает в тяжелую борьбу за жизнь, самостоятельность, благополучие.
Однако Лакснессу были чужды те ницшеанские, расистские теории, которые оказали значительное влияние на гамсуновский роман, и он решает проблему совершенно по-иному. Об этом принципиальном различии сам Лакснесс писал так: «Иногда говорят, что «Самостоятельные люди» являются в какой-то степени подражанием «Сокам земли» Гамсуна. Это справедливо лишь постольку, поскольку в них поставлены те же вопросы, что и в «Соках земли», хотя ответ на них прямо противоположен ответу Гамсуна. Я не хочу утверждать, что все социальные и иные выводы в «Самостоятельных людях» правильны, но одной из причин возникновения книги была моя убежденность в том, что социальные выводы Гамсуна в «Соках земли» в целом ошибочны».
Весьма существенное воздействие на позицию Лакснесса в новом романе имели его впечатления от первой поездки в Советский Союз, во время которой он обращал особое внимание на решение в нашей стране крестьянского вопроса. Лакснесс говорил по этому поводу: «В реалистическом отношении советских людей к вещам, при котором пустые поэтические мечтания не уводят наблюдателя в сторону, меня сразу же привлекли некоторые основные положения, в том числе простое, но четкое деление крестьянства на классы: кулаки, середняки, бедняки. Это решение, в очевидности которого потом убеждаешься сам, открыло для меня всю проблему и дало мне возможность ясно рассмотреть ее в социальном плане».
Роман «Самостоятельные люди», опубликованный в 1933–1935 годах, снабжен подзаголовком «Героическая сага». Действительно, роман органически связан с большой национальной литературной традицией, с исландскими сагами. «Самостоятельные люди» – это глубоко поэтическая сага о жизни простого исландского крестьянина Гудбьяртура Йоунссона. Много лет он работал батраком у богатого хозяина, мечтая о том дне, когда он сможет осесть на собственной земле, стать «самостоятельным человеком». Наконец этот день настает – Бьяртур приходит на принадлежащую ему пустошь, чтобы начать борьбу за осуществление своей мечты.
С самого начала повествование носит и обобщенно-символический характер и в то же время подчеркнуто конкретный. Автор ведет рассказ и о судьбе исландского крестьянства в целом, и об индивидуальной судьбе Бьяртура из Летней обители. Не случайно писатель не указывает вначале ни времени, когда происходит действие книги, ни места, где поселился Бьяртур. Герой книги – прямой наследник многих поколений мужественных исландцев, смело боровшихся с суровой природой, людей решительных, непокорных, бескомпромиссных. «Человек, – пишет Лакснесс о Бьяртуре, – подставляет лицо свежему весеннему ветру, и чудится ему, что под сияющим солнцем развеваются гривы коней – они промчались здесь в далеком прошлом, а в ветре слышится давно отзвучавший топот копыт… Столетие за столетием кони вытаптывали на берегу реки тропу, и по сей день по этой тропе ходят люди. Вот и он, исландец тридцатого поколения, мужественный и неустрашимый, вчера еще батрак, а сегодня хуторянин, идет этой тропой вместе со своей собакой». Бьяртур, исландский крестьянин, предстает как продолжатель дела героев древних саг, и его труд-подвиг вполне соизмерим с подвигами героев этих преданий.
Но при всей своей совершенно очевидной приподнятости, символичности образ Бьяртура по-настоящему конкретен и специфичен, даже, быть может, подчеркнуто заземлен. Автор подробно описывает ужасающе примитивный быт своего героя, его повседневный упорный труд, постоянную борьбу за кусок хлеба, крайнюю нищету. Проходят годы, но изнуряющая работа не приносит почти никаких ощутимых результатов. Однако Бьяртур не сдается, он верит в свои идеалы, свои мечты о самостоятельности, свободе. Все эти понятия он трактует по-своему: «Свобода куда важнее высокого потолка. Восемнадцать лет я гнул спину ради свободы. У кого собственная земля – тот и есть самостоятельный человек в пашей стране, тот сам себе хозяин. Если я продержусь зиму и сумею прокормить овец и аккуратно из года в год выплачивать долг, то скоро разделаюсь с ним, и овцы останутся при мне. Свобода – вот то, к чему мы стремимся в нашей стране. Кто никому не должен – тот король. Кто прокормит своих овец – тот будет жить, как во дворце».
Служение этим принципам перерастает у Бьяртура в настоящий фанатизм. Ни за что на свете он не согласится изменить своим убеждениям, усомниться хотя бы на минуту в своей мечте о самостоятельной жизни. Он знает, что приблизить осуществление этой мечты может только труд, труд каждодневный, неустанный. Он, хозяин земли, может рассчитывать только на самого себя, на свои сильные руки, на плоды своей собственной работы. Он неизменно самым резким образом отвергает любые предложения о какой-либо помощи, поскольку она могла бы умалить его чувство собственного достоинства, веру в свою самостоятельность. Он все время повторяет, что он хозяин на собственной земле, что он ни в чем не нуждается, что он чувствует себя равным любым богатеям.
В жертву своей мечте о самостоятельности Бьяртур способен принести все что угодно. Он готов голодать, чтобы сэкономить на еде и иметь возможность внести еще несколько грошей в счет долга. В поисках пропавшей овцы – частицы его достояния – он подвергает себя опасностям, которые чуть было не стоили ему жизни. И уж, конечно же, он готов трудиться до полного изнеможения изо дня в день на протяжении многих лет. При этом Бьяртур вовсе не считает, что он совершает нечто особенное, для него такой образ жизни вполне естествен и, больше того, представляется ему единственно возможным.
Бьяртур просто не понимает, что у людей могут быть какие-то иные желания, жизненные потребности. Забота об овцах для него куда важнее заботы о своих близких. Отправляясь на поиски пропавшей овцы, он без всяких колебаний оставляет в одиночестве жену, которая вот-вот должна родить. Гибель жены, умершей в его отсутствие во время родов, ничуть не поколебала его жизненных принципов. Его второй жене, часто болевшей, было необходимо молоко, но Бьяртур без всяких колебаний забивает корову для того, чтобы оставить больше корма для овец – символа его самостоятельности, и обрекает тем самым жену на смерть.
Так постепенно Лакснесс раскрывает глубокую и трагическую противоречивость своего героя. Его преданность идее оборачивается безрассудным фанатизмом, твердость и последовательность – бессмысленной жестокостью, самоотречение – равнодушием и безразличием к страданиям и горю других. Его поступки одновременно вызывают преклонение и отвращение, уважение и страх.
Противоречивость образа героя лакснессовского повествования имеет самое непосредственное отношение к исландской литературной традиции. Сам Лакснесс в одной из своих статей об исландских сагах указывал, что герои саг принципиально отличны от героев произведений западноевропейских литератур. Он писал, что в этих литературах герои «всегда истинные и безукоризненные христиане, и было бы непростительным нарушением традиции сделать героя хромым или горбатым, и, несмотря на то, что они действуют в самой различной обстановке, они выражают основную божественную догму… Их действия можно охарактеризовать как хорошие, правильные, красивые и т. д., а если они делают ошибочный шаг, то они уходят в себя и каются». В исландских же сагах, указывал писатель, все обстоит совершенно иначе – в них, «что было бы совершенно невозможно в других литературах, лучшие люди… всегда совершают худшие поступки, а худшие люди не раскаиваются и не искупают свою вину, но зато совершенно неожиданно действуют замечательно».
С глубокой психологической достоверностью и убедительностью раскрывает Лакснесс чувство Бьяртура к Аусте Соуллилье, чье рождение стоило жизни его первой жене. В обращении с ней он как-то очень своеобразно нежен – неумело, непривычно и в то же время очень трогательно. Глубокой любовью платит ему и Ауста, каждое объятие отца для нее великое счастье: «Она прильнула к нему и почувствовала, что во всем мире нет более могучей силы. На его шее, между воротом рубахи и бородой, было одно чудесное местечко; ее горячие губы дрожали от слез, она потянулась к этому местечку и нашла его. Так – вдруг – исчезают порой все невзгоды жизни. Одно мгновенье в сумерках – и все прошло».
Но по мере того, как Ауста подрастает, мир Летней обители, мир отца становится для нее тесным. Она инстинктивно тянется к чему-то светлому, прекрасному, еще ею самой совершенно не осознанному. Мир красоты, поэзии и любви открывает перед ней несчастный бедняк учитель, который по просьбе Бьяртура появился в Летней обители для того, чтобы немного позаниматься с Аустой и ее младшими братьями. И вскоре в ней загорается какое-то странное чувство к учителю. Она даже не осознает, что же произошло, она помнит лишь, что «через нее прошел ток». «Почему человека вообще пронизывает ток? Это сама жизнь – и тут уже ничего не поделаешь, ведь ты же живая».
Известие о беременности дочери было тяжким ударом для Бьяртура, вернувшегося домой после длительной отлучки. И он тут же словно перечеркивает все, что его связывало с Аустой, его «цветочком», как он раньше любил ее называть. И он поступает так, как только и мог поступить человек с его характером, его принципами (вспомним: «лучшие люди совершают худшие поступки»). Ничего не спрашивая, ничего не выясняя, он бьет дочь по лицу и тут же изгоняет ее из дома.
Характерно для лакснессовского стиля описание этой сцены, одной из кульминационных в книге. Вся она занимает лишь несколько строчек – спокойные, почти бесстрастные слова о том, как Бьяртур, увидев дочь, ударил ее по щеке, сказал ей две короткие фразы и закрыл за нею дверь. Ни одним словом писатель не определяет своего отношения к происходящему, не дает никаких оценок действиям Бьяртура. Такое подчеркнуто сдержанное описание событий, насыщенных глубоким драматизмом, – типичная особенность лакснессовской манеры повествования, также роднящая его стиль со стилем саг, в которых всегда без Каких бы то ни было комментариев сообщалось лишь о том, что происходит.
Но сдержанность отнюдь не говорит о недостатке выразительных средств. Сразу же после этой сцены следует новая, описанная так же спокойно, но непременно заставляющая задуматься о глубине и сложности характера Бьяртура. Той же ночью Бьяртур, этот, казалось бы, совершенно бездушный человек, принимает ягнят у одной из овец. И сколько же настоящей нежности, заботливости в его движениях, когда он начинает поить их теплым молоком с перышка. Даже овца словно бы оценила эту нежность: «Овца подошла совсем близко к Бьяртуру. Вот он сидит и держит в своих объятиях ее трех ягнят. Она доверчиво ткнулась носом в его некрасивое лицо, как бы благодаря его, дохнула в его бороду теплой струей воздуха и тихонько заблеяла». Так что же, жесток или нежен Бьяртур, зол он или добр? Лакснесс не дает ответа на этот вопрос, не предлагает читателю никаких выводов. Он все больше и больше углубляет образ своего героя, раскрывает его сложность и подлинно трагическую противоречивость.
Лишь ближе к концу книги писатель выводит свое повествование из вневременного плана, и читатель узнает, что речь идет о двадцатом столетии. Четвертая книга романа открывается сценой в Летней обители, где собравшиеся крестьяне говорят о войне, которая «началась с того, что убили какого-то беднягу иностранца по имени Фердинанд», и которая «избавила народ от нужды», «повысила спрос на рыбу и рыбий жир». Показательно восприятие крестьянами докатившегося до них эха крупных мировых событий. Им, всю жизнь проведшим в тяжкой борьбе с нуждой, в общем-то нет дела до того, кто и почему где-то далеко-далеко воюет: «Сами они всю жизнь свою воевали, и их война была посерьезней мировой, да и причина ее поважнее, чем убийство Фердинанда… Мы, исландцы, не придаем значения королям, мы ценим только королей гор; все мы равны перед богом, и пока крестьянин называется самостоятельным человеком, а не слугой другого – он сам себе король».
«Благословенная мировая война» приближает, казалось бы, осуществление мечты Бьяртура о независимой, самостоятельной жизни. Его хозяйство разрослось, у него больше двух сотен овец, коровы, лошади, он, бывший батрак, теперь сам нанимает работников. Он, наконец, строит новый дом, о котором когда-то, давным-давно, мечтал со своим «цветочком», Аустой Соуллильей. Похоже на то, что Бьяртур с его жестокими, фанатическими принципами был действительно прав и что жертвы, которые принес он сам, и зло, которое он нанес своим близким, были оправданы. Нет, возмездие в саге о Бьяртуре так же неотвратимо, как и в древних сагах. Но, в отличие от преданий прошлого, это возмездие не результат вмешательства высших сил, а закономерный итог развития событий.
Бьяртур оказывается одинок. Он сам фактически был виновником гибели обеих своих жен. Он сам изгнал из дома Аусту. Замерзает под снегом его сын Хельги. Покидает дом мечтавший о большом мире сын Нонни. И Бьяртур остается лишь с одним из своих сыновей – Гвендуром. И постепенно к нему приходит расплата – горечь одиночества, ощущение бесполезности всего того, чему он отдал жизнь.
Очень характерно изменение его отношения к Аусте Соуллилье. После того, как он ночью выгнал ее из дома, он даже сыновьям своим, очень любившим старшую сестру, не позволил поминать ее имя. Лакснесс не говорит ничего о том, что происходит в душе Бьяртура, он лишь рассказывает, как Бьяртур, когда Гвендур направляется в город, просит сына передать Аусте привет и сочиненное им стихотворение об «одиноком и голом утесе», который стоит в безрадостной стране, где даже «цветок единственный опал».
Рушится и мечта Бьяртура о самостоятельности. То благополучие, которого он достиг такой дорогой ценой, оказывается иллюзорным. Его Летняя обитель продается за долги, и Бьяртур, уже старый, измученный жизнью, пожертвовавший своими близкими во имя своей фанатической мечты, покидает эти места таким же нищим, каким он пришел сюда двадцать лет назад.
Многозначительны те страницы романа, где рассказывается о встрече Бьяртура в городе с рабочими-забастовщиками. Он узнает от них о том, что в России рабочие и крестьяне «взяли все то, что капитализм украл у них, и создали новое общество, где никто не может наживаться на труде другого». Бьяртуру трудно понять этих людей, но, быть может, все же они правы? И он оставляет с рабочими своего сына: «Ему тоже будет хорошо среди них. Разве они не стоят того, чтобы стать владельцами своей страны и управлять ею?».
По это путь других людей, возможно, и Гвендура, но не Бьяртура. Его история закончена, закончена «сага о человеке, который в течение всей своей жизни, днем и ночью, засевал поле своего врага». Как и древние предания, эта сага заканчивается трагически, но, в отличие от судеб героев этих преданий, в жизни Бьяртура роковую роль сыграло не предопределение, а вполне конкретные социальные условия. «Бедный крестьянин, – писал Лакснесс в одной из статей, – никогда, во веки веков не выбьется из нужды. Он будет жить в нищете, пока человек человеку не защитник, а злейший враг».
Через восемь лет после завершения «Самостоятельных людей», в 1943 году, Лакснесс выпускает роман «Исландский колокол». За ним последовали «Златокудрая дева» (1944) и «Пожар в Копенгагене» (1946). Эти книги образовали трилогию «Исландский колокол». Ее замысел складывался у писателя уже давно, еще до «Самостоятельных людей» и даже до «Салки Валки». Он собирал старые документы, думал над проблемами и образами будущей эпопеи, об исторических судьбах исландского народа. Однако к активной работе над книгой он долго не приступал, так как он, по его же словам, опасался необъятности проблемы, ее особой ответственности.
То, что «Исландский колокол» был создан именно в первой половине 40-х годов, было обусловлено событиями того времени. В те годы резко активизировалось движение исландского народа за полное отделение от Дании. Как известно, датчане на протяжении многих веков были полновластными хозяевами острова, и, хотя в 1918 году была провозглашена самостоятельность Исландии, она оставалась связанной с датским королевством личной унией, так что о подлинном суверенитете страны говорить было еще невозможно. Вековая мечта исландцев сбылась лишь в 1944 году, когда после проведенного в стране референдума уния с Данией была расторгнута. Однако дело осложнялось тем, что с 1940 года в Исландии размещались иностранные войска, сначала английские, затем американские, и их присутствие было тяжким бременем для небольшого народа. Вмешательство Соединенных Штатов во внутренние дела Исландии, распространение низкопробной «индустрии развлечений» стали факторами, оказывающими самое пагубное воздействие на жизнь страны, на ее самобытную культуру.
Так что совершенно естественно, что вопросы государственной самостоятельности, национального достоинства, исторических и культурных ценностей были для того времени крайне актуальными в Исландии. Лакснесс, принимавший самое активное участие в движении за независимость страны, за сохранение ее культурного наследия, рассматривал создание книги о судьбе народа, его борьбе, его подвиге как свой писательский долг. Он, подобно многим крупным писателям других стран, обращается в сложный, переломный для своей страны момент к ее историческому прошлому, создает настоящую сагу о страдании и подвиге родного народа.
На идейное содержание книги, ее образы и ситуации явственное влияние оказали те события, которые переживала Исландия в 40-х годах. И то, что третья книга трилогии, «Пожар в Копенгагене», во многом носит совершенно иной характер по сравнению с двумя первыми, объясняется сложностью и противоречивостью этих событий, тем воздействием, которое они оказали на Лакснесса. Но об этом несколько позже.
Время действия в «Исландском колоколе» – XVII–XVIII века. Это был период тяжелейших испытаний в истории исландского народа, когда гнет датского владычества был особенно невыносимым, когда действия чужеземных властителей ставили под угрозу самое существование исландцев как нации. И то, что, несмотря на самые трудные испытания, порабощенный народ сохранил веру в свободу, высокое чувство национального достоинства, сберег свое замечательное культурное наследие, было подлинным подвигом исландского народа.
В трилогии Лакснесс рассказывает о многих подлинных событиях тех далеких лет. Судебное дело Йоуна Хреггвидссона, которое лежит в основе сюжетной линии, – это действительный исторический факт. Большинство главных персонажей «Исландского колокола» имели свои реальные прообразы. Но писатель весьма свободно обращается с событиями и историческими лицами – он меняет время тех или иных событий, сталкивает людей, которые на самом деле и не могли даже встречаться, и т. д. Лакснесс, как он сам об этом говорил, вовсе не ставил своей задачей создать последовательное, строго соответствующее фактам повествование об определенном историческом периоде и его героях. Он видел свою цель в том, чтобы воспроизвести главное содержание той эпохи, к которой он обратился, рассказать о том, каким был исландский народ в те времена, раскрыть величие его духа.
В «Исландском колоколе», как и в «Самостоятельных людях» – и даже с еще большей очевидностью, – прослеживается воздействие национальной литературной традиции. Здесь еще более последовательно, чем в «Самостоятельных людях», выдержана внешняя объективность, бесстрастность повествования. Только описание событий, воспроизведение речи действующих лиц и ничего больше – никаких авторских отступлений, картин внутренних переживаний героев, оценок и комментариев. Как отмечал один из исследователей творчества Лакснесса, писатель, «подобно авторам саг, делает вид, что не говорит ничего, что не могло бы быть подтверждено свидетелями». Сам Лакснесс по этому поводу говорил, что в «Исландском колоколе», как и в сагах, «мысли и чувства передаются в речи и воспроизводятся в физической реакции: действие не происходит в тайниках души». И с помощью «физической реакции» Лакснесс действительно мастерски проникает в «тайники души» героев, передает их мысли и чувства.
В центре повествования находится крестьянин Йоун Хреггвидссон, с историей которого связаны и истории других основных персонажей книги: Арнаса Арнэуса и Снайфридур, Солнца Исландии. Это настоящий сын своего народа, истинный исландец. В нем совершенно неистребимо чувство национального и личного достоинства. Не случайно Йоун к месту и не к месту поминает героев старых преданий, причем говорит он о них как о реальных лицах, которых он считает своими прямыми предками.
Но Йоун – отнюдь не праведник, не идеальный герой без единого пятнышка. Он – вспомним опять слова Лакснесса о героях саг – совершает такие поступки, которые могут вызвать только осуждение. Ему ничего не стоит при случае что-нибудь украсть, он, не задумываясь, лжет, если находит ложь выгодной, жестоко и презрительно обращается со своими домашними. Такое «снижение» образа героя носит вполне очевидный характер. Тем самым автор дает понять, что Йоун – это самый заурядный человек, ничуть не отличающийся какими-то особенными достоинствами от других терпящих нужду исландцев. Но как раз прозаичность, подчеркнутая заурядность и придают образу Хреггвидссона обобщенно-героический характер. Несмотря на все свои пороки, низменные черты, этот простой человек проносит через испытания чувство собственного достоинства, веру в себя и свой народ.
Йоун, на чью долю выпало столько физических мук и духовных унижений, считает себя независимым человеком, хозяином своей судьбы. Он, считающий себя потомком таких древних героев, как Харальд Боезуб и Гуннар из Хлидаренди, не рассчитывает на благодеяния богатых и власть имущих. Он смотрит на них как на извечных врагов простого человека, и, несмотря на всю приниженность своего положения, он не только не боится их, но, наоборот, презирает: «То, чего человек не найдет у себя, он не найдет нигде. Мне плевать на великих мира сего, если они судят неправедно, и мне тем более плевать на них, если они судят праведно, ибо это значит, что они трусят». Глубокой убежденностью в своих силах проникнуты слова Йоуна: «Я не верю ни в какую справедливость, кроме той, которую творю я сам».
Вера в себя, внутренняя сила духа не покидают Йоуна в самые тяжелые минуты. Он безмятежно спит в ночь накануне того дня, когда его должны были казнить. Когда к нему в дом являются стражники, чтобы доставить его на суд, он сию же минуту садится на лошадь, не потратив и секунды на сборы или на прощание с домашними. Он спокойно отправляется в путь, хотя знает, что его вновь будут судить по обвинению в убийстве и что ему опять грозит смерть от руки палача. Точно так же уверенно, без всяких колебаний, он направляется в далекую Данию через страны, о которых он никогда и слыхом не слыхал. Он просто уверен в том, что ему, исландцу, все по силам, что он сможет все вынести, и поэтому он ничего не боится. Йоун не совершает никаких героических поступков, он лишь ведет борьбу за сохранение собственной жизни, но эта борьба превращается в книге Лакснесса в символ той тяжелой и неравной борьбы, которую исландский народ вел за свое существование как нации.
Мы сталкиваемся в книге и с другими простыми исландцами, братьями Йоуна по духу. Это бродяги, нищие, бедные крестьяне, каждому из которых в «Исландском колоколе» отведено всего лишь несколько строк: это или короткие реплики этих людей, или одна-две фразы, сказанные о них автором. Но эти характеристики с помощью «физической реакции» настолько емки, что читатель узнает главное об этих людях. Это главное заключается в том, что все они, подобно Йоуну Хреггвидссону, в любой обстановке остаются людьми, остаются истыми исландцами, сохраняющими чувство национальной гордости, национального достоинства, веру в свои силы. Так, один из толпы осужденных, слепой нищий, говорит: «Мы с вами чернь, ничтожнейшие существа на земле. Будем молиться о ниспослании счастья каждому могущественному человеку, который хочет заступиться за нас, беззащитных. Но правосудия не будет до тех пор, пока мы не станем людьми». Сколько внутренней силы в словах крестьянина, не пожелавшего уступить приказу королевского чиновника и приговоренного за это к порке: «Исландский народ будет жить вечно, если только перестанет уступать… Если бы я уступил хотя бы только один-единственный раз, если бы все всегда и всюду уступали, уступали купцу и фугту, призракам и дьяволу, чуме и оспе, королю и палачу – где бы тогда нашлось прибежище для исландского народа? Даже ад был бы слишком хорош для него».








