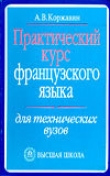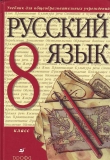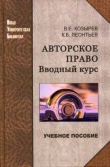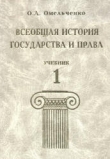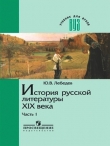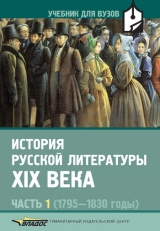
Текст книги "История русской литературы XIX века. Часть 3: 1870-1890 годы"
Автор книги: H. Вершинина
Соавторы: Наталья Прокофьева,С. Сапожков,Б. Николаева,Александр Ауэр,Л. Крупчанов,Людмила Капитонова,Валентин Коровин
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 45 страниц)
Жанрово-стилевое своеобразие лирики Ф. И. Тютчева
Жанровая поэтика Тютчева также подчиняется закону «двойного бытия», в ней столь же интенсивно протекает синтез полярностей, что и на уровне ее мифопоэтики. Ю. Н. Тынянов убедительно доказал, что лирика Тютчева представляет собой поздний продукт переразложения жанровой основы высокой ораторской поэзии XVIII в. (торжественная ода, дидактическая поэма) и ее переподчинения функциям романтического фрагмента: «Словно на огромные державинские формы наложено уменьшительное стекло, ода стала микроскопической, сосредоточив свою силу на маленьком пространстве: „Видение“ („Есть некий час, в ночи, всемирного молчанья…“), „Сны“ („Как океан объемлет шар земной…“), „Цицерон“ и т. д. – все это микроскопические оды» [27]27
Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 46.
[Закрыть]. Нередко всего одна сложная метафора или одно развернутое сравнение – эти реликты одической поэтики – сами по себе способны у Тютчева образовать завершенный текст («23 ноября 1865 г.»; «Как ни тяжел последний час…», 1867; «Поэзия», 1850; «В разлуке есть высокое значенье…», 1851). Афористичность концовок, ориентация на композицию эпиграммы с ее парадоксальной заостренностью мысли создают ситуацию, в которой компоненты одического мышления гораздо эффективнее реализуют заложенную в них художественную семантику. От архаического стиля XVIII в. поэзия Тютчева унаследовала ораторские зачины («Не то, что мните вы, природа»; «Нет, мера есть долготерпенью» и т. п.), учительские интонации и вопросы-обращения («Но видите ль? Собравшися в дорогу»), «державинские» многосложные («благовонный», «широколиственно») и составные эпитеты («пасмурно-багровый»; «огненно-живой», «громокипящий», «мглисто-лилейно», «удушливо-земной», «огнезвездный» и т. п.). Собственно, в русской поэзии 1820–1830-х годов Тютчев был далеко не первым, кто открыто ориентировался на затрудненные, архаические формы лексики и синтаксиса. Это с успехом делали поэты-любомудры, в частности С. П. Шевырев. Считалось, что такой «шершавый» слог наиболее приспособлен для передачи отвлеченной философской мысли. Однако у Тютчева, также принадлежавшего в начале поэтического поприща к окружению любомудров, весь этот инструментарий риторической поэтики нередко заключен в форму чуть ли не записки, написанной «между прочим», с характерными «случайными», как бы второпях начатыми фразами: «Нет, моего к тебе пристрастья», «Итак, опять увиделся я с вами», «Так, в жизни есть мгновенья», «Да, вы сдержали ваше слово» и т. п. Подобное сращение оды с романтическим фрагментом придает совершенно новое качество «поэзии мысли». В ней свободно начинает сочетаться жанровая память различных по своему происхождению стилевых пластов. Например, в стихотворении «Полдень» (конец 1820-х) мы видим сложное сочетание идиллической (Пан, нимфы, сладкая дремота), одической («пламенная и чистая» небесная «твердь») и элегической («лениво тают облака») образности. Создается ситуация диалога различных поэтических эпох, возникают напряженные ассоциативные переклички смыслов на сравнительно небольшом пространстве пейзажной зарисовки [28]28
Шайтанов И. О. Федор Иванович Тютчев: поэтическое открытие природы. М., 1998. С. 26–27.
[Закрыть].
Вообще словоупотребление Тютчева с необычайной экспансией вторгается в семантику традиционных поэтических тропов и преобразует ее изнутри, заставляя слово вибрировать двойными оттенками смысла. Например, образ "сладкой дремоты" из стихотворения "Как сладко дремлет сад темно-зеленый…" (1830-е) –
Как сладко дремлет сад темно-зеленый,
Объятый негой ночи голубой;
Сквозь яблони, цветами убеленной,
Как сладко светит месяц золотой! ‹…› –
еще тесно слит с его традиционным смыслом в «школе поэтической точности» Жуковского-Батюшкова: греза, мечта, сфера контакта лирического "я" с невыразимым в природе (ср. у Жуковского: «Как слит с прохладою растений фимиам! // Как сладко в тишине у брега струй плесканье! // Как тихо веянье зефира по водам…»). И в то же время, по мере развертывания лирического сюжета, эта метафора, не утрачивая поэтических ассоциаций с привычным контекстом, начинает выявлять свои связи с индивидуальным художественным миром Тютчева: появляются образы ночи-"завесы", «изнеможения», «хаоса», в котором «роится» странный, пугающий гул ночных звуков и голосов… Возникает динамическое напряжение между традиционным и новым семантическим контекстом одних и тех же слов-сигналов. Поверх традиционной, стертой семантики наслаивается семантика индивидуально-авторская.
Несомненными чертами жанрово-стилевого новаторства отмечена и любовная лирика Тютчева, особенно поздняя, посвященная "последней любви" поэта – Елене Денисьевой. Все исследователи сходятся во мнении, что эта лирика представляет собой несобранный цикл, отмеченный единством новых тематических и сюжетно-композиционных решений. "Е. А. Денисьева, – отмечал биограф поэта Г. Чулков, – внесла в жизнь поэта необычайную глубину, страстность и беззаветность.
И в стихах Тютчева вместе с этою любовью возникло что-то новое, открылась новая глубина, какая-то исступленная стыдливость чувства и какая-то новая, суеверная страсть, похожая на страдание и предчувствие смерти" [29]29
Чулков Г. Последняя любовь Тютчева. М., 1928. С. 40.
[Закрыть]. «Денисьевский цикл» Тютчева, куда вошли такие стихотворения, как «Последняя любовь», «О, как убийственно мы любим…» (1851), «Она сидела наполу…» (1858), «Весь день она лежала в забытьи…» (1864) и др., с одной стороны, наполнен узнаваемыми штампами романтической любовной фразеологии («лазурь… безоблачной души», «воздушный шелк кудрей», «убитая радость», «пасть готов был на колени», «скудеет в жилах кровь», «любишь искренно и пламенно», «святилище души твоей» и т. п.), причем чуть ли в вычурном вкусе Бенедиктова или даже жестокого романса, а с другой стороны, самим мелодраматизмом положений предвосхищает «погибельную», на грани жизни и смерти, любовную драму романов Достоевского. Еще Г. А. Гуковский, доказывая сходство «денисьевских» текстов с поэтикой прозаического романа второй половины XIX в., отмечал умение Тютчева «рисовать в коротком лирическом стихотворении сцену, в которой оба участника даны и зрительно, и с „репликами“, и в сложном душевном конфликте». Отмечалась подробная (насколько, разумеется, это возможно в границах лирического рода) прорисовка «мизансцены», предметного фона, роль психологического жеста («Она сидела на полу // И груду писем разбирала, // И как остывшую золу, // Брала их в руки и бросала») [30]30
Гуковский Г. А. Некрасов и Тютчев. К постановке вопроса // Научный бюллетень Ленинградского yн-та, 1947, № 16–17. С. 53.
[Закрыть]. К этим наблюдениям следует добавить намеренную затрудненность стиха, метрические перебои («Последняя любовь»), создающие будничную интонацию, а также установку на диалогичность лирического повествования. Последняя, в частности, выражается в постоянных переходах от 3-го лица к 1-му, от 1-го лица ко 2-му в рамках одного и того же текста. Например, повествуя в стихотворении «Весь день она лежала в забытьи…» о своей возлюбленной в 3-м лице, лирический герой в финале дает реплику самой героини от ее лица: «О, как все это я любила!», а в последней строфе, словно откликаясь на слова умершей, неожиданно обращается к ней на «ты»: «Любила ты…» Отрешенно-созерцательный рассказ о прошедшем в итоге приобретает черты страстного диалога с героиней: событие как бы вырывается из плена смерти и предстает совершающимся сейчас, на глазах читателя, во всей ослепительной силе и остроте переживаемой трагедии. Аналогичную смену планов и лиц повествования можно заметить и в других стихотворениях денисьевского цикла («В часы, когда бывает…», 1858).
Итак, поэзия Тютчева представляет собой своеобразное промежуточное звено между поэзией пушкинской эпохи 1820–1830-х годов и поэзией нового, "некрасовского" этапа в истории русской литературы. По сути, эта поэзия явилась уникальной художественной лабораторией, "переплавившей" в своем стиле поэтические формы не только романтической эпохи, но и эпохи "ломоносовско-державинской" и передавшей в концентрированном виде "итоги" развития русского стиха XVIII – первой трети XIX в. своим великим наследникам. Само "второе рождение" Тютчева, открытого Некрасовым в 1850 г. в списке "русских второстепенных поэтов", – факт почти мистический и, как все мистическое, глубоко закономерный. Он был открыт тем поэтом, стиль которого, прозаичный и "шероховатый", во многом подготовил в собственном творчестве. Но, по сути, такова уж судьба Тютчева, что он "умирал" и "рождался" в истории русской поэзии несколько раз. В следующий, уже после Некрасова, раз Тютчева откроет Вл. Соловьев в своей знаменитой критической статье 1895 г., причем откроет его уже как поэта-"мифотворца", увидевшего мир как живую "творимую легенду" и передавшего это ясновидческое знание своим потомкам. Так Тютчев на рубеже веков провозглашается уже родоначальником "символической школы" русской поэзии. И, кто знает, сколько еще "открытий" Тютчева ожидают отечественную культуру, ибо кладезь этот поистине неисчерпаемый…
Основные понятия
Художественный мир, мифопоэтическое творчество, основные оппозиции художественного мира, антитеза, со-противопоставление, амбивалентность, «фрагментарная ода», одический стиль, развернутое сравнение, «денисьевскийцикл», прозаизация лирики, метрические сбои.
Вопросы и задания1. Дайте определение термина «художественный мир» произведения. Почему методология анализа лирики Тютчева как целостного художественного мира наиболее соответствует типу художественного мышления поэта?
2. Проанализируйте стихотворение Тютчева "Не то, что мните вы, природа…" как пантеистический манифест поэта. Что такое пантеизм как философское направление? В чем заключается своеобразие собственно тютчевского пантеизма?
3. Дайте анализ основных оппозиций художественного мира Тютчева. Как они помогают понять художественную онтологию и реконструировать основной поэтический миф творчества Тютчева?
4. Проанализируйте "любовную" и "политическую" лирику Тютчева с точки зрения воплощения в них фундаментальных оппозиций художественного мира поэта.
5. Какие особенности композиции и стиля присущи жанру "одического фрагмента" Тютчева? Традиции каких поэтических жанров он в себя вбирает?
6. Что сближает "Денисьевский цикл" лирики Тютчева с поэтикой социально-психологического романа второй половины XIX в.? Есть ли сходство с явлением "прозаизации" в лирике Н. А. Некрасова (ср. с так называемым "панаевским циклом")?
7. На примере двух-трех стихотворений покажите особенности поэтического словоупотребления Тютчева.
Литература
Зунделович, Я. О. Этюды о лирике Тютчева. Самарканд, 1971. Литературное наследство. Т. 97. Федор Иванович Тютчев. Кн. 1–2. М., 1990.
Коровин В. И. Произведения Ф. И. Тютчева. Поэзия. – В кн.: Ф. И. Тютчев. Школьный энциклопедический словарь. М., 2004.
Осповат A. Л. "Как слово наше отзовется…". М., 1980.
Пигарев K. В. Жизнь и творчество Тютчева. М., 1962.
Скатов Н. Н. Некрасов и Тютчев (два цикла интимной лирики). В кн.: Н. А. Некрасов и русская литература. М., 1971.
Соловьев Вл. Поэзия Ф. И. Тютчева. В кн.: Соловьев B. C. Философия искусства и литературная критика. М., 1991.
Толстогузов П. Н. Лирика Ф. И. Тютчева: поэтика жанра. М., 2003.
Тынянов Ю. Н. Вопрос о Тютчеве. В его кн.: Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977:
Тютчевский сборник. Таллинн, 1990.
Глава 6
Н. А. Некрасов 1821–1877/78
Творчество Николая Алексеевича Некрасова неотделимо от эпохи 60-х годов, хотя начинается раньше и заканчивается позднее. Он в высшей степени выражает главную потребность времени – потребность в народном поэте, «…чтобы быть поэтом истинно народным, – писал Н. А. Добролюбов в 1858 г., – надо проникнуться народным духом, прожить его жизнью, стать вровень с ним, отбросить все предрассудки сословий, книжного учения и пр., прочувствовать все тем простым чувством, каким обладает народ…». Именно таким «выражением народной жизни, народных стремлений» стала поэзия Некрасова.
Очень разные по своим художественным и идеологическим позициям современники поэта одинаково понимали под народностью его стихов не столько их политическую остроту, сколько пафос "высокой гуманности и любви к своей родине". Н. Г. Чернышевский признавался Некрасову, что предпочитает его стихам с явно выраженной политической целью "пьесы без тенденции". А. В. Дружинин убеждал искать в стихах Некрасова не прописи в духе готовых сиюминутных истин, а "силу поэта". Призывая "поклониться" художнику, создавшему стихотворение "Еду ли ночью по улице темной…", он утверждал: "…современная мораль слаба, негодна и жалка перед строками, вылившимися из сердца, согретыми святым огнем выстраданного творчества, предназначенными, по существу своему,… на вечную цель вечной поэзии, на просветление и смягчение души человеческой!".
Возвышающая душу любовь поэта "к оскорбленным, к терпящим, к простодушным, к униженным" (Ф. М. Достоевский) подняла тему народа и народных заступников в его произведениях на небывалую ранее всечеловеческую высоту. При этом она осталась насущной, действительной и злободневной. Гуманность и демократизм – неотменные свойства подлинного искусства – выразились у Некрасова в том виде, в каком они переживались его трудным временем: в обостренном чувстве гражданской ответственности, жажде деятельности и одновременно ощущении растерянности и бессилия, в роковой несогласованности "слова" и "дела", вечных ценностей поэзии с суровой диалектикой социальной борьбы.
«Сын времени, скупого на героя…»
В детстве и юности Некрасова – корни его зрелого позднейшего мироощущения, отлившегося в горькие парадоксальные формулы: «ты – сын больной больного века», «рыцарь на час», «сын времени, скупого на героя». Некрасов, всегда тяготеющий к метафористичности и аллегоричности выражения, и свое детство представил опосредованно: через сказку, уводящую в мир идиллических радостей, затененных, однако, недобрыми проявлениями «колдовства»; через подражания, в особенности, Лермонтову, самое имя которого ассоциировалось не только с творческой личностью, но и с судьбой поколения, которую разделил с другими и молодой поэт.
В поэме "Несчастные" (1856) сказка оборачивается зловещей былью с сильным автобиографическим подтекстом:
…Уходит он
И в гневе подданных тиранит.
Кругом проклятья, вопли, стон…
Вот вечер – снова рог трубит.
Примолкнув, дети побежали,
Но мать остаться им велит;
Их взор уныл, невнятен лепет…
Опять содом, тревога, трепет!
А ночью свечи зажжены,
Обычный пир кипит мятежно,
И бледный мальчик, у стены
Прижавшись, слушает прилежно
И смотрит жадно /узнаю
Привычку детскую мою/…
…
Тяжелый сон!…
Нет, мой восход не лучезарен –
Ничем я в детстве не пленен
И никому не благодарен.
В стихотворении «Родина» (1846) приговор своему детству и родовым корням еще жестче и категоричнее:
…Где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста,
Текла среди пиров, бессмысленного чванства,
Разврата грязного и мелкого тиранства…
Ранняя поэтическая концепция детства сохранила ясно выраженные романтические черты: мать – «затворница», безгласая страдалица, натура, преисполненная высокой духовности; отец – тиран, «угрюмый невежда», грубый помещик-крепостник. Мысль о сословном «грехе», избавиться от которого недостает сил, и раскаяние, не ведущее к полному духовному освобождению от «ошибок отцов» (М. Ю. Лермонтов), тяготят ощущением причастности этому «греху»:
…Где иногда бывал помещиком и я;
Где от души моей, довременно растленной,
Так рано отлетел покой благословенный…
Некрасов родился 10 декабря 1821 г. в украинском местечке Немирове, но детство и юность его совпадают с пребыванием в родовом селе Грешневе Ярославской губернии близ Волги, где поселился отец, отставной майор. Впоследствии умудренный опытом поэт стал понимать, что качества отца (именно их Некрасов «научился ненавидеть») – не столько личные, сколько социально-типические, рожденные временем. Но такое понимание только ярче высветило безмерность наблюдаемых вокруг страданий: «стон» бурлаков на Волге, слезы матери, плач детей, жалобы крепостных крестьян сливаются для поэта в единый скорбный глас человечества, лишенного естественных прав, обреченного на немоту и глухоту. Социальным символом этих страданий становится доля народа:
Увы! Не внемлет он – и не дает ответа…
(«Элегия», 1874)
Образ некрасовской Музы с самого начала проникается иронией позднеромантического типа: возвышенные мечты, началом которых служат юношеские идеалы, воплощенные, прежде всего, в "неземном" облике матери, постоянно испытывают на себе гнет "земного", уступают неизбежному давлению сущего.
Первая книга стихов «Мечты и звуки»
Учеба Некрасова в Ярославской гимназии (с 1832 по 1837 г.) не была успешной. Но зато он читал «Корсара» Байрона, оду «Вольность» и «Евгения Онегина» А. С. Пушкина. Лирика, составившая тетрадь романтических стихов, имеющих все внешние признаки подражания В. А. Жуковскому, М. Ю. Лермонтову, В. Г. Бенедиктову, А. И. Подолинскому и популярным в широких кругах публики поэтам-эпигонам, в своей тайной глубине оставалась искренней и по сути соответствовала натуре юного поэта. Закономерным был его первый самостоятельный поступок: вместо вступления по настоянию отца в Дворянский полк Некрасов прибыл в Петербург затем, чтобы вполне отдаться литературному труду, призванию художника. Поэзия представлялась ему миром, где все противоречия бытия очищаются и возвышают «дух», которому непросто преодолеть соблазны «тела» («Разговор»).
Проза петербургской жизни и осознание несвоевременности, неуместности отвлеченной мечтательной поэзии в эпоху пристального интереса к действительности, развивающегося "под знаком" Гоголя, – ясно показали Некрасову, что сборник, названный им "Мечты и звуки" (1840), остался фактом его внутренней, личной биографии. Резкие замечания Белинского о первом поэтическом сборнике Некрасова: "истертые чувствованьица", "общие места", "гладкие стишки" и т. п., ведущие к беспощадному выводу: "посредственность в стихах нестерпима" – стали суровым уроком, который обратил Некрасова от "идеальной" поэзии к литературной поденщине ("Ровно три года я чувствовал себя постоянно, каждый день голодным"). Но именно неожиданно настигшая его судьба бедняка, как признавал поэт впоследствии, обусловила "поворот к правде" – к новому пониманию поэзии, уже не отделенной от обыденной жизни, а находящейся в ее пределах, какими бы ограниченными и тесными они ни были.
Сегодня, с исторической дистанции, становится очевидным, что значение сборника «Мечты и звуки» не следует ни преувеличивать, ни заведомо отрицать. Чтобы выяснить действительную его роль в судьбе Некрасова-художника, необходимо признать, что живой образ поэта далеко не совпадает с рамками социального стереотипа, созданного уже современниками и закрепленного позднейшим общественно-литературным сознанием. Не «вписываясь» в этот стереотип, «Мечты и звуки» надолго выпали из поля зрения литературоведов и лишь недавно по праву стали объектом тщательного научного изучения. Заслуживает внимания вывод исследователя о первом сборнике Некрасова как о «не случайной книге»: «Исторически ей суждено было стать сокрытым фундаментом дальнейшего развития некрасовской музы, а с нею и всей русской поэзии. Нашедший себе воплощение в раннем сборнике поэта нравственно-гуманистический пафос определил содержательность и его гражданской лирики, и покаянных мотивов, и поэтических поисков общенародной правды» [31]31
Пайков Н. Н. Феномен Некрасова: Избр. статьи о личности и творчестве поэта. Ярославль, 2000. С. 37..
[Закрыть].
«Поворот к правде»
В начале 40-х годов Некрасов пишет прозу. Он берет сюжеты из собственного опыта – из того, что довелось пережить за три тяжких петербургских года (герой-бедняк марает стихи чернилами, приготовленными из ваксы; ночует в артели нищих; испытывает унижения в качестве просителя «хорошего места» и т. д.). В современной ему литературе Некрасову безусловно близко «гоголевское направление»: следуя ему, он декларирует только «правду», напрямую встретившись с проблемой ее творческого воплощения и необходимого для этого отбора литературных средств. Можно согласиться с одним из первых исследователей прозы Некрасова Г. Л. Гуковским в том, что для воссоздания образа многоликой реальности начинающий писатель пользовался «осколками чужого творчества», «готовыми» стилями, но правомерна также и мысль ученого относительно того, что «пути обработки» этого материала «были свои» [32]32
Гуковский Г. А. Неизданные повести Некрасова в истории русской прозы сороковых годов // Жизнь и похождения Тихона Тростникова. Новонайденная рукопись Некрасова. М.; Л., 1931. С. 375.
[Закрыть]. Став под знамена «натуральной школы» (чему способствовало личное знакомство с Белинским, состоявшееся, вероятно, в 1840–1841 годах), Некрасов по-своему подошел к проблеме «неприукрашенной действительности»: он не только показал ее без всяких «эстетических покровов» в духе установок «школы», но и осознанно сохранил эти «покровы», справедливо полагая, что одно «разобнажение» (Ап. Григорьев) еще не означает полноты изображения реальности во всей ее истине. В результате «физиологизм» бытовых описаний окрашивается тонами сентиментально-романтической патетики, а герои лишаются однозначности, выпадая из границ «амплуа», определенного средой.
Так, пошлый франт и обольститель Орест Сабельский ("Жизнь Александры Ивановны", 1841) неожиданно обретает человеческую глубину, оказываясь способным к раскаянию и нравственному перерождению, подобно карамзинскому Эрасту (сходство имен не случайно) из "Бедной Лизы". И вместе с тем герой-романтик, близкий автору, из "Повести о бедном Климе" (1841–1848) вдруг иронически снижается, обнаруживая черты хлестаковщины.
Наиболее значительным произведением этих лет является незаконченный автобиографический роман "Жизнь и похождения Тихона Тростниковая, где с беспощадной правдивостью воссоздается наиболее сложный, исполненный мытарств и душевных сомнений отрезок жизни Некрасова в Петербурге. И здесь его героем движет главное стремление: постичь "кровное родство жизни с поэзией". Черновики романа о Тростникове содержат важные автопризнания: "Я только чувствовал, что есть она, высокая и благородная цель, к которой должен стремиться человек высокой натуры (каким я в ту эпоху своей жизни почитал себя). Полный безотчетной тревоги, безотчетного стремления, я старался отыскать ее, чтоб привязаться к ней и навсегда слить с нею существо мое; но увы! Я не находил ее, потому искал там, где ее совсем не было: в мире отвлеченных идей… – и не подозревал, что она гораздо ближе от меня – в самой деятельности практической". Именно поиск "идеального начала" приводит героя Некрасова к народу. Его носителем, в первую очередь, оказывается не романтик, "разъедаемый" рефлексией, а цельные, чистые люди простого звания, такие как талантливая художница Параша или крестьянская девушка Агаша, преподающая нравственный урок герою-романтику.
Впервые именно в прозе Некрасова звучит народная речь – как контрастная параллель риторически напыщенному романтическому слогу. Просторечный говорок старого нищего, предлагающего приют обманутому идеалисту, уже приоткрывает нам облик народного поэта, знающего быт и психологию людей "простого сознания": "– Плохой ночлег на улице… – Слышь, как ветерок-от гудит – ветерок-то с моря: проберет хоть кого… Вишь, ты как дрожишь… Пойдем к нам… у нас не больно красиво и просторно, зато тепло… переночуешь, а там куда хочешь ступай себе… А?…"
В «собранье пестрых глав» некрасовской прозы многообразны формы юмора, восходящего к Гоголю. Как правило, они основаны на комической перелицовке эстетических и социальных шаблонов, обнаруживающих свою несостоятельность в пародийном отражении («Макар Осипович Случайный», «Без вести пропавший пиита», «Двадцать пять рублей» и др.) [33]33
См.: Мостовская Н. Н. Пародийность как примета стиля Некрасова // Вершинина Н. Л., Мостовская Н. Н. «И в подземных литературных сфер…»: Очерки о прозе Некрасова. Вопросы стиля. Учебное пособие по спецкурсу. Псков, 1992. С. 74–80.
[Закрыть]
Проза раннего Некрасова выступает, таким образом, не только как творческая лаборатория, своей жанрово-стилевой палитрой предвосхитившая диапазон его лирического самовыражения; не только как важнейший биографический источник, но и как самоценное явление, определившее дальнейшее развитие Некрасова, в том числе и новаторский характер его поэзии, "неизбежностью" для которой становится "проза".
В Некрасове поражает энергия сопротивления обстоятельствам, рожденная осознанием значимости и самоценности всякого человеческого "я". Его не могут сломить ни неудавшаяся попытка поступления в университет, ни изнурительная работа в изданиях Ф. А. Кони и А. А. Краевского ("Пантеон русского и всех европейских театров", "Литературная газета", "Отечественные записки") и др.
В программном альманахе "натуральной школы" "Физиология Петербурга" (1845) он поместил два произведения: очерк "Петербургские углы" (отрывок из романа "Жизнь и похождения Тихона Тростникова") и стихотворение "Чиновник" – поэтическую разновидность сатирического физиологического очерка. Движение "через юмористику к социальной сатире" (Б. Я. Бухштаб) начинается, таким образом, в самый ранний период, когда поэт, по собственному признанию, стал писать "стишонки забавные", потому что "пить, есть надо". Но по внутреннему смыслу эволюции Некрасова сатирические стихи возникали как реакция на романтические тенденции его поэзии: "картинки" столичной жизни объективно свидетельствовали о контрасте существенности и идеала, о нежизнеспособности романтических мечтаний, выступая как опосредованная форма самоиронии, типологически близкая иронии романтической.
С 1847 г. эстетические достижения передового направления закрепляются программой журнала "Современник" – лучшего журнала эпохи, ведущим редактором которого Некрасов оставался на протяжении двадцати лет (1847–1866), вплоть до официального запрещения журнала и своего перехода в другой печатный орган, "Отечественные записки" (с 1868 г.), объединивший лучшие литературные силы современности.