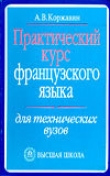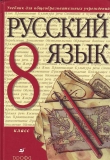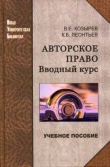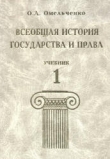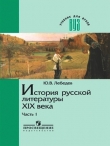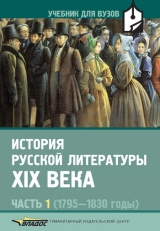
Текст книги "История русской литературы XIX века. Часть 3: 1870-1890 годы"
Автор книги: H. Вершинина
Соавторы: Наталья Прокофьева,С. Сапожков,Б. Николаева,Александр Ауэр,Л. Крупчанов,Людмила Капитонова,Валентин Коровин
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 45 страниц)
«Я вырос в народе…» Лесковский Человек
Лесков принадлежал к особому писательскому типу, обозначившемуся в русской литературе 1860–1870-х годов, – к писателям-разночинцам. В отличие от писателей-интеллигентов, они знали народ не понаслышке, но из непосредственного общения с ним. Самому Лескову в этом очень помогли «шкоттовские университеты»: «Мне не приходилось пробиваться сквозь книги и готовые понятия к народу и его быту. Я изучил его на месте. Книги были добрыми мне помощниками, но коренником был я. По этой причине я не пристал ни к одной из школ, потому что учился не в школе, а на барках у Шкотта». Огромный практический опыт и знание народа дала писателю и Орловщина.
Реальная жизнь и реальный человек для него являлись первостепенными. Но Лескова всегда увлекала жизнь, не укладывающаяся в схемы, равно как и удивительные человеческие характеры. Ему, много повидавшему за время бесконечных путешествий по России, в этом смысле было что рассказать. Он знал о русской жизни и в особенности о русском человеке такое, о чем, возможно, мало кто из писателей ведал. Поэтому не случайно существует понятие "лесковский человек", как знак особой, отдельной, цельной человеческой личности.
Лесковский человек – лицо не столько социальное, сколько локальное. Это не мужик, не помещик, не нигилист. Это человек русской земли.
И как о самой России трудно сказать что-либо односложное, так и в отношении человека Лесков не спешит с однозначными утверждениями., О "лесковском человеке" можно отозваться подобно тому, как судят о квартальном Рыжове, герое рассказа "Однодум", когда на вопрос губернатора Ланского "Каков квартальный?", несколько простолюдинов "в одно слово отвечали": "Он у нас такой-некий-этакой".
Русский характер у Лескова трудноуловимый, мерцательный в смыслах. При этом «лесковский человек» всегда таит в себе загадку, хитринку, чудаковатость – недаром он «такой-некий-этакой»! Очень точно определил героя «Разбойника» Л. Аннинский – простодушного мужичка с этим его хитрым «ась?»: «темный мужичок» [113]113
Аннинский Л. Лесковское ожерелье. M., 1982. С. 17.
[Закрыть].
Нельзя сказать, что Лесков до конца разгадал загадку национального характера. Но он, как никто другой из русских писателей, сознавал, насколько реальна эта загадка в характере русского человека. Именно поэтому его герои в большинстве своем люди "удивительные и даже невероятные"; зачастую "их окружает легендарный вымысел". Но, как утверждает сам автор, они "становятся еще более невероятными, когда удается снять с них этот налет и увидать их во всей их святой простоте".
Таков лесковский Голован ("Несмертельный Голован"), которого народная молва сделала "мифическим лицом", "чем-то вроде волхва, кудесника", обладающего "неодолимым талисманом" и способного "на все отважиться и нигде не погибнуть".
На самом деле необыкновенные поступки героя имеют вполне реальное объяснение и, напротив, то, что толпа называет "Головановым грехом" – отношения Голована и Павлагеюшки, – в действительной жизни представляется исключительным явлением, если не из ряда вон выходящим. Простые люди, они любят друг друга небесной – ангельской любовью и не ропщут на судьбу, так как исповедуют высший человеческий закон – закон совести. Не случайно отец Петр говорит о Головане, что у него "совесть снега белей".
По этой же причине Павла и Голован, узнав в юродивом Фотее мужа Павлы – беглого солдата Фрапошку, негодяя по своей сути, – не выдают его: "Павла не выдала жалеючи, а Голован ее любячи". "А ведь они из-за него все счастие у себя отняли!" – заключает рассказчик, хотя и он склоняет голову перед совершенной (в обыденности невероятной!) любовью героев.
Удивителен своими чистыми, высокими помыслами во имя счастья народа Василий Богословский ("Овцебык"). Обреченный слыть "шутом", "блажным", "дурашным", он не перестает лелеять в мыслях мечту создать общество равных людей.
Не обнесен дурацким колпаком и квартальный (позже ставший городничим) Александр Афанасьевич Рыжов ("Однодум"), по мнению горожан и местных чиновников, "поврежденный от Библии" ("Много Библии начитавшись и через это расстроен"). Но главной загадкой в городничем для проезжающего губернатора является его способность жить на одно жалованье; не имея на эту загадку ответа, он склонен усомниться в реальности Рыжова: "Такого человека во всей России нет".
Однако Лесков не выдумывал своих "загадочных" героев. Он по большей части списывал их с натуры. Защищаясь от обвинения в искусственности образа Доримедонта Рогожина, Лесков писал И. С. Аксакову, что подобные чудные люди на каждом шагу встречались во всех известных ему мелкопоместных губерниях. В 1883 г. он пишет свои юношеские киевские воспоминания "Печерские антики", которые первоначально назывались "Печерскими чудотворами". Но Лесков в письме замечает: "Если слово "чудотворы" (не чудотворцы) не хорошо зазвучит в ухе цензора, то можно поставить "антики"".
К их числу автор относит Евфимия Ботвиновского, которого в Киеве знали просто под именем "попа Ефима" или даже "Юхвима". Это был "простой русский поп, человек, может быть, и безалаберный, и грешный ("любил хорошее винцо, компанию и охоту"), но всепрощающий и бескорыстнейший". Всем была известна "его громадная, прирожденная любовь к добру и сострадание". Однажды, чтобы помочь человеку, он "разорил свое собственное семейство". Поэтому, – замечает Лесков, – "когда при мне говорят о пресловутой "поповской жадности", я всегда вспоминаю, что самый, до безрассудности, бескорыстный человек, которого я видел, это был поп".
Но самым впечатляющим лесковским "антиком" является "преоригинальный, бедный, рыжий и тощий дворянин Доримедонт Рогожин", имя которого было переделано бабушкою (Протазановой) в "Дон-Кихот Рогожин". "Гол, как турецкий святой, – говорила она, – а в душе рыцарь". И действительно, Рогожина отличает обостренное, донкихотовское чувство справедливости. Неразлучный с кучером Зинкой, его Санчо Пансой, он рвался туда, откуда, казалось ему, несло "обидою", неустанное совершая свои фантастические "полеты" на конях-"птицах". Протазановский же дом стал для него домом – "оберегом", куда борец за правое дело мог вернуться "поправить здоровье и силы", а то и укрыться от возможного преследования властей. В рогожинской ситуации надежнее княгини Варвары Никаноровны никого не было. "Кто отдает друзей в обиду, у того самого свет в глазах тает", – такого жизненного принципа придерживалась Протазанова, но защищала друга-"чудака" не только потому, что "оберегала свои глаза". Она уважала и ценила в Дон-Кихоте Рогожине его "золотое сердце", а также родственное им обоим чувство дворянского достоинства. "Да, я дворянин как надо, меня перервать можно, а вывернуть нельзя", – эта известная всей округе рогожинская формула отражала и протазановский дух.
Лесковским "антикам" присуще особенно ценимое писателем неравнодушие "ко всяким высшим вопросам", которых избегала современная эпоха. Увлеченный "широкими думами" о вселенной, Рогожин обращает в свою веру Патрикея Сударичева, теперь по ночам вслушивающегося в небесную гармонию, "на которую намекнул ему рыжий дворянин". Сам же виновник сударичевских ночных бдений просиживает над монастырскими книгами, пытаясь "помутившимися от устали глазами" проникнуть в метафизическую тайну "троичности во всем", разглядеть ее в конкретности бытия.
Называя своих героев "антиками", "чудотворами", Лесков вкладывал в эти понятия высоко одухотворенный смысл. Чудаками и блаженными они были для всего сумбурного и неправедного мира, их окружающего. В лесковском понимании это редкостные по душевному напряжению и творческим способностям люди, и именно они, по вере Лескова, "стоя в стороне от истории, сильнее других делают историю".
Таков Левша – самый фантастический из героев Лескова. Он всеми унижен на родине. Здесь никому не нужен его редкий талант, а он спешит из-за границы домой, чтобы передать государю, что нельзя ружья кирпичным порошком чистить – случится война, стрелять не будут. Но родина встречает Левшу самым жестоким Образом. Его, больного, "свалили в квартале на пол, обыскали", "деньги обрали" и отправили умирать в простонародную Обухвинскую больницу. А Левша, и умирая, не о себе думает: ему "два слова государю непременно надо сказать" о том, как не подвести русской армии себя на войне испорченными ружьями, да только так и не был никем услышан смешной бедолага, мастер-патриот, который и на жалком своем смертном одре помнил лишь о пользе государству и народу русскому.
"Удивительным и невероятным" делает "лесковского человека" его одухотворенная красота, великая телесная и духовная сила.
От дьякона Ахилки ("Соборяне") пошли чудесные, чистые сердцем лесковские богатыри. Сам Ахилла Десницын поражает тем, что в таком могучем человеке (в нем, по словам Савелия Туберозова, "тысяча жизней горит") живет душа ребенка.
"Великовозрастное дитя", как его называет протопоп, он искренен в своих действиях и сокрушается от того, что за ним "по пятам идет беспорядок!": "Не знаю я, отчего это так, и все же таки, значит, это не по моей вине, а по нескладности, потому что у меня такая природа…" А "природа" Ахиллы такова, что он не только может "скакать степным киргизом" на гнедом долгогривом коне или на виду у публики вступить в состязание с комедиантом-великаном и победить его, но и быть молитвенником – "за себя и за весь мир умолять удержать праведный гнев на нас движимый!"
Преданный своей чистой детской душой отцу Савелию, Ахилла не покидает опального протопопа, не оставляет его одного и мертвого, находясь при нем три бессонные ночи за чтением Евангелия и непрестанно уговаривая покойного вставь: "Баточка!… Встань! А? При мне при одном встань!"
Воспринявший неведомым образом дух почившего Туберозова, Ахилла уходит из мира, по словам Захария, "мудрым", сознающим его тщетность, возвращая небесам сохраненную среди мирной суеты свою невинную, ангельски чистую душу.
С могутным Ахиллой, в котором "тысяча жизней горит", сходственен чувствительный тупейный художник из одноименного рассказа Лескова. Тупейный художник – это просто парикмахер. Убирающий крепостных актрис Аркадий обнаруживает в себе подобную Ахиллиной богатырскую душу. Любя актрису – танцовщицу графа Каменского, Аркадий решается бежать с ней, да неудачно. Через какой ад проходит он в графских пыточных подвалах! С какой отвагой и самоотверженностью сражается на войне! И все для того, чтобы выжить и вернуться к возлюбленной.
Подвиг души роднит тупейного художника с артельным главой старообрядцев Лукой Кириловым, когда тот в непогоду совершает переход с двумя иконами через ревущий Днепр. Но Луку, равно как и деда Мароя, согласившегося выдать себя за вора, укравшего икону с запечатленным ангелом, ведет не подвиг личного мужества. Ими движет нечто грандиозное – утоление "жажды единодушия" с отечеством, т. е. желание жить со всею Русью единой православной верой.
Происшедшее с героями настолько велико по своей значимости, что дед Марой не выдерживает переполнившего душу блаженства – ему воочию видятся ангелы на мосту – и умирает.
Но Лесков, по мысли Л. Аннинского, также знает, какая невероятная бездна сокрыта в человеческой душе, «какой зверь там дремлет». «И будит этого зверя не корысть и не подлость, не стечение обстоятельств…, а самая что ни есть естественная, всю душу забирающая любовь» [114]114
Аннинский Л. Лесковское ожерелье. С. 91.
[Закрыть].
Сам Лесков, несмотря на глубокое чувство, испытанное им к Катерине Степановне Савицкой, с которой прожил тринадцать лет, так и не сможет никому и ничему, кроме литературы, отдать душу. Но в «Леди Макбет Мценского уезда» он вдруг предстанет «преклонившим колени перед страстью, темной ее силой, „тусклым огнем желанья“» [115]115
Басманов А. Чающий движение воды // Басманов А. Старые годы. М., 1987. С. 228.
[Закрыть]. И опять перед читателем вырастает невероятный человеческий характер.
Катерина Измайлова – образ неожиданный для Лескова. Говоря словами критика А. Басманова, рассказ о ней – это своеобразная трещина на зеркале лесковского мира, который, как полагал М. Горький, представляет собой иконостас святых и праведников.
«Беззаботливые о себе»
В 1870-е годы в творчестве Лескова появляется тема праведничества, продолжающая оставаться главной до конца жизни писателя. Тогда же возник цикл рассказов о «праведниках» («Однодум», «Пигмей», «Кадетский монастырь», «Несмертельный Голован», «Русский демократ в Польше», «Инженеры-бессеребреники», «Человек на часах» и др.).
Слово праведник [116]116
Горелов АА. Н.С. Лесков и народная культура. С. 234.
[Закрыть]у Лескова соотносится с человеком, постигшим истину (правду) жизни, проводимую и самим писателем. Несут ее людям лесковские однодумы и очарованные странники, инженеры-бессеребреники и несмертельные голованы… бессменно стерегущие душу России. На них надеялся писатель, полагая, что ими будет спасена Россия.
Истина (правда) жизни, по Лескову, заключается в евангельской беззаботливости о себе – постоянной готовности прийти на помощь другому человеку, в чувстве сострадания, бескорыстном служении людям, ибо каждый из живущих нуждается в тепле, любви, добре, утешении и понимании. Но каждый из живущих должен сам научиться любить и утешать. Поэтому человека-праведника Лесков открыл во всех слоях общества.
"Беззаботливые о себе" у Лескова в большинстве своем простые люди, невысокого звания, скромные, незамечаемые. Однако все они удивительно красивые люди. Красота их неброская, невидимая глазам, явленная редкой нравственной чистоты душой. Таковы воспитатели и врачи петербургского корпуса ("Кадетский монастырь"), привившие своим воспитанникам человеколюбие в условиях жесточайшего николаевского времени, и инженеры-бессеребреники, не пожелавшие служить злу. Живет согласно священному писанию и собственной совести чудаковатый Однодум. Идут за советами люди к Головану, и, "должно быть, его советы были очень хороши, потому что всегда их слушали и очень его за них благодарили".
Но этот богатырского склада человек с "умными и добрыми" глазами и светящейся "в каждой черте его лица" "спокойной и счастливой улыбкой" не оставляет людей и заботой на деле. С самоотвержением и "изумительным бесстрашием" он входил в "зачумленные лачуги", чтобы хоть как-то облегчить положение обреченных на неминуемую смерть: поил зараженных свежею водою и молоком и проделывал это ежедневно, после чего его имя "стали произносить с уважением в народе".
В лесковской галерее праведников стоит и Селиван ("Пугало"), несправедливо прослывший в народе "пугалом". Но праведничество героя, по Лескову, связанное с евангельской проповедью добра, просветляет глаза и сердца людей: "Так всегда зло родит другое зло и побеждается только добром, которое, по слову Евангелия, делает око и сердце наше чистыми".
И все окружающие вдруг увидели, какое "прекрасное и доброе лицо" у "колдуна" и "злодея" Селивана. А считали его таковым по причине нелюдимости; людей он всячески избегал и жил вместе с немощной женой на заброшенном постоялом дворе, куда "не заглядывал ни один проезжающий", потому и рассказывали о нем всяческие небылицы. Но никто не мог предположить, что увела его от людей единственно забота о девочке-сироте, дочери палача, "человека презренного в народе". Он "скрывал ее потому, что постоянно боялся, что ее узнают и оскорбят", смирившись во имя другого человека с собственной участью изгоя, "пугала".
Праведники у Лескова не озабочены вниманием к себе окружающих, не стремятся к тому, чтобы их благородство было кем-то замечено [117]117
Хализев В., Майорова О. Лесковская концепция праведничества // В мире Лес– кова. M., 1983. С. 202.
[Закрыть]. Завершая рассказ «Человек на часах», Лесков пишет: «Я думаю о тех смертных, которые любят добро, просто для самого добра и не ожидают никаких наград за него где бы то ни было. Эти прямые и надежные люди тоже, мне кажется, должны быть вполне довольны святым порывом любви…» – любви и сострадания к другому человеку, нуждающемуся в них.
Поэтому когда солдат Измайловского полка Постников, стоя ночью на часах у Зимнего дворца, заслышал "отдаленные крики и стоны" со стороны Невы, то его первым, естественным порывом было "подать помощь утопающему".
Но Постников также "помнил и службу и присягу; он знал, что он часовой, а часовой ни за что и ни под каким предлогом не смеет покинуть своей будки". В противном случае солдата на часах ожидали военный суд, а потом гонка сквозь строй шпицрутенами и каторжная работа, а может даже и расстрел. Однако стонььи зов о помощи пересилили боязнь за себя. Часовой бросился к сходням и сбежал на лед.
С момента спасения солдатом Постниковым тонувшего человека начинают происходить события, не поддающиеся здравому объяснению. Переживая за оставленный пост, промокший часовой тут же возвратился к будке. Проезжающий мимо офицер выдает себя за героя-спасителя и намеревается ходатайствовать о награде за якобы совершенное геройство. В это время полковник Свиньин, узнав о проступке Постникова от батальонного командира и боясь за собственную карьеру, не знает, что предпринять, чтобы обер-полицмейстер Кокошкин не смог доложить утром государю о случившемся. Сам же виновник всей суеты уже находится под арестом в казарменном карцере. И только "мудрость" служаки-оберполицмейстера все расставила по своим местам: было решено, офицера, привезшего спасенного утопленника, наградить и доложить о его благородном поступке Николаю Павловичу.
Но верхом абсурда во всей этой истории явилось наказание часового Постникова двумястами розгами как нарушившего свой долг. И таким образом в лице главного героя рассказа Лесков представил не только тип праведника, незримо творящего подвиг человеколюбия, но и жертву произвола и беззакония.
В ряду лесковских праведников особо выделяется фигура странника-богатыря Ивана Северьяновича Флягина. По сравнению с Селиваном или Голованом, праведниками по жизни, Флягина трудно назвать таковым. Иван Северьянович находится лишь в самом начале праведнического пути. Не случайно повесть "Очарованный странник" имеет "распахнутый" финал. Лескову было важно показать, насколько трудна и драматична дорога героя (и подобных ему людей) к обретению своего земного предназначения.
«Очарованный странник»
Повествование в «Очарованном страннике» начинается с того, что юный Иван «возлюбил коня». И восхищали его те кони, что «просто зверь, аспид, василиск», те, что «устали… никогда не знали», одним словом, дикие кони, а не смирные заводские, на которых «даже офицеры могут сидеть».
Под стать мальчишеской страсти был и Иванов характер – по-русски удалой, залихватский, безудержный. Нет в нем никакой сдерживающей струны, опорной точки. Вот и получается, что в азарте, запале, форейторском озорстве нагнал Иван воз, на котором спал старичок-послушник, и изо всей мочи ударил старика "вдоль спины кнутом". С тех пор станет приходить к нему во сне тот монах и плакать, что умер без покаяния. От него-то Иван узнал и свою судьбу: много раз погибать и ни разу не погибнуть, пока не придет настоящая погибель, и тогда пойдет он в чернецы, как мать Богу обещала.
Предначертанное свыше роковое движение героя "от одной стражбы к другой" не замедлило сказаться. Начало было положено, когда Иван вместе с лошадью сорвался в пропасть, потом история с голубятами и последовавшее за ней наказание, чуть не приведшее его к самоубийству… Все, как предсказал Флягину монашек, – много раз погибать и ни разу не погибнуть…
Словно по наитию чьей-то злой воли, обрушивается на лесковского героя жизнь. И слишком часто не выдерживает Иван Флягин ее давления, как в случае с цыганом, толкнувшим его на занятия конокрадством. Вот когда сказывается отсутствие в нем крепкого нравственного стержня, разницы между добром и злом. Так начинается хождение "по мукам жизни" Ивана Северьяновича. А дорога, на которую выходит герой, за каждым поворотом таит неожиданные препятствия. Как будто возымели над ним власть неведомые чародейские силы, околдовали его. "Я многое даже не своею волею делал", – признается слушателям Флягин. Сам он склонен объяснять происходящее с ним "родительским обещанием" или, по его же словам, "призванием". Эта власть рокового начала и делает его "очарованным странником", а еще, по Лескову, "очарованным богатырем", который, подобно древнему витязю из русских былин, погружен в мертвый сон, обессилен вражьими чарами.
Однако горестные скитания Ивана Северьяновича обусловлены и вполне реальными причинами. Он уходит с цыганом-конокрадом, потому что не хочет возвращаться в графский дом, к своему наказанию – "в аглицком саду для дорожки молотком камешки бить". Бежит в Рынь-пески, спасаясь от возможного преследования полицией за смерть богатыря Савакирея. Уходит в монастырь по той причине, что "деться было некуда".
Немало содействуют скитальчеству Ивана и чары внутренние [118]118
Горелов А. А. Н.С. Лесков и народная культура. С. 208.
[Закрыть], в первую очередь обостренное чувство собственного достоинства. Недаром мальчик так любит диких коней, что, как птицы, тоскуют в неволе, «от стен шарахаются», околевают от жажды и голода, но не смиряют гордыни, не поддаются воспитанию. Для него лучше стать «разбойником», чем «завтра и послезавтра опять все то же самое, стой на дорожке на коленях, да… молотком камешки бей». Больше того, душевная гордость Ивана не дает снести насмешки окружающих, что за «кошкин хвост» осужден он «гору камня перемусорить».
Значительно утяжеляют жизнь героя импульсивность и безоглядность, свойственные русскому человеку. Лишь графинина горничная "ручкой хвать" Флягина по щеке, как он, "долго не думая" ("с детства был скор на руку"), "схватил от дверей грязную метлу, да ее метлою по талии…", или, потрясенный унизительным наказанием за графскую кошку, мгновенно принимает решение удавиться. Не подоспей цыган, "я бы все это от моего характера пресвободно и исполнил", – признается Флягин.
Русский характер у Лескова не только широк и доверчив, но и поразительно легок попаданием в зло, отчего не схож богатырь Флягин с Ахиллой Десницыным.
Ахилла – младенческая душа, а Флягин – убийца, вор, преступник. И как легко расстается он со злом. Трижды убил – и вроде никакая грязь на него не липнет. Своровал – и ладно. Обманывал – так ведь пришлось! В результате лесковский герой оказывается в конфликте не только с внешними обстоятельствами, драматизирующими его жизнь, но и с самим собой, собственной натурой.
Победить себя, обрести равновесие необъятных сил, расходуемых впустую, и нравственного идеала становится возможным по мере прохождения Иваном Северьяновичем неохватного, как пространство России, и запутаннейшего жизненного пути, на котором он и барам своим сумел крепко насолить, и со степным богатуром жестоко на ремнях подрался ради красавца жеребца, в татарском плену долгие годы подщиненным сидел, опалил сердце страстной и жертвенной любовью, безумным загулам предавался, помог любимой, не стерпевшей измены пустого человека, расстаться с жизнью, подвиг военный совершил, в офицеры выслужился, сменил военный мундир на рясу…
И ведут Флягина по дороге жизни, как манка, чувство прекрасного, очарованность миром, являющиеся доминантой характера лесковского странника. Так в повести открывается вторая сторона смысла поэтической формулы "очарованный странник".
Сродственное душе Ивана Северьяновича чувство прекрасного явлено красотой коня. ("И чувствую, что рванулась моя душа к ней, к этой лошади, родной страстию".) Очаровывая, уводит героя вслед за собой красота песни, которая "то плачет, то томит, просто душу из тела вынимает, а потом вдруг как хватит совсем в другом роде и точно сразу опять сердце вставит…"
Стремление обладать красотой обращает все существо героя в мощный, безотчетный порыв. Кажется, спроси татарин у Флягина за коня "не то что… душу, а отца и мать родную, и тех бы не пожалел". Безудержно сыплет он деньги на поднос Грушеньке, а потом и вовсе "пустил свою душу погулять вволю" – пошел перед Грушею вприсядку, опьяненный ее красотой. Позже герой Лескова скажет, что за такую красоту "восхищенному человеку погибнуть… даже радость".
Вслед за восхищением женской красотой придет к Ивану Северьяновичу глубокое чувство любви к цыганке Груше, в котором обнаружится желание не только разделить с любимой ее боль и страдание, но и сохранить ее душу неоскверненной.
Для Флягина жертвенная любовь к Груше становится моментом осознания истины жизни, своеобразным итогом многотрудного странничества, за которым уже начинается путь праведника – человека, "беззаботного к себе". Пока же бескорыстная "рекрутчина" и воинский подвиг Ивана Северьяновича связаны единственно с отмаливанием Грушиной души. Но недалеко то время, когда пробудится в герое Лескова потребность высшего жертвенного подвига во имя народа. В воздухе запахло войной, и Иван Северьянович ждет только часа сбросить рясу со своих богатырских плеч, опоясаться мечом и отдать жизнь за народ.
"Мне за народ очень помереть хочется", – флягинская фраза, достойная эпического героя-богатыря, живущего свершениями деяний во имя своего рода, венчает итог странствий Ивана Северьяновича – будущего праведника. В финале он предстает личностью в силе и мощи духовной высоты и нравственной стойкости, обретшей смысл жизни в простой истине – жить для других.
Об этой открывшейся лесковскому герою истине (правде) жизни рассказал непосредственно он сам, как мог, по-своему, на своем языке, без вмешательства автора.
История очарованного странника много проиграла бы, поведай ее не сам Иван Флягин в своей неторопливой, простодушной и рассудительной манере, чудесно оттеняющей невероятность происходящего с рассказчиком.