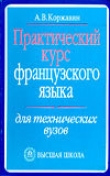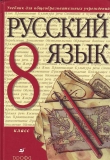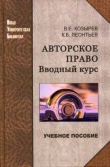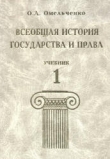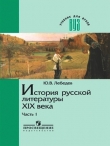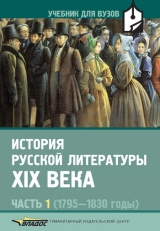
Текст книги "История русской литературы XIX века. Часть 3: 1870-1890 годы"
Автор книги: H. Вершинина
Соавторы: Наталья Прокофьева,С. Сапожков,Б. Николаева,Александр Ауэр,Л. Крупчанов,Людмила Капитонова,Валентин Коровин
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 45 страниц)
Основные понятия
Очерк, раскол, раскольники, религиозное сознание, русский национальный характер, традиции древнерусской литературы, фольклоризм.
Вопросы и задания1. Какова роль нижегородской газеты «Губернские ведомости» в формировании Мельникова-писателя?
2. Расскажите о П. И. Мельникове как исследователе русского раскола.
3. В каких произведениях писателя нашла отражение тема раскольнического движения?
4. Какова проблематика повести "Гриша"?
5. Почему повесть нельзя назвать только бытовой и этнографической?
6. Каково построение повести (содержательный и композиционный планы)?
7. В чем своеобразие проблематики дилогии Мельникова "В лесах", "На горах"?
8. Как соотносится проблематика дилогии Мельникова с проблематикой романов Ф. Достоевского, Л. Толстого, Н. Лескова и др.?
Литература
Власова З. И. П. И. Мельников. В кн.: Русская литература и фольклор. 2-ая половина XIX века. Л., 1982.
Лотман Л. M. Мельников-Печерский. В кн.: История русской литературы. Т. IX. Ч. 2. М.; Л., 1956.
Миллер Орест. Русские писатели после Гоголя. СПб., 1886.
Соколова В. Ф. П. И. Мельников-Печерский. Очерк жизни и творчества. Горький, 1981.
Глава 3
А. Н. Островский 1823–1886
Мысль о значении Александра Николаевича Островского в истории русской литературы и национальной культуры кратко сформулировал Лев Толстой, выразив общую точку зрения на сделанное писателем: «отец русской драматургии». Эта оценка проистекала не только из небывалого количественного показателя: 47 оригинальных пьес, не говоря уже о переводах и оперных либретто, – но и из того отличающего талант Островского качества, которое в начале 50-х годов А. А. Григорьев назвал «коренным русским миросозерцанием».
«…Лучшая школа для художественного таланта есть изучение своей народности»
Про Островского можно сказать теми же словами, какие Гоголь нашел уместным применить к Пушкину: он «слышал значение свое лучше тех, которые задавали ему запросы, и с любовью исполнял его». Убежденный противник всего декларативного, искусственного, внеположенного живой сути творчества, Островский говорил то, что точно выражало начала, носителем которых он сознавал себя в искусстве: «…я всю свою деятельность и все свои способности посвящал театру и в том круге артистов, которого я был центром, постоянно старался поддерживать любовь к искусству и строгое и честное отношение к нему» (подразумевались лучшие актеры России: в Москве П. М. Садовский, Е. Н. Васильева, Л. П. Никулина-Косицкая, И. Ф. Горбунов; в Петербурге Е. А. Мартынов, Ф. А. Бурдин, Ю. Н. Линская, П. В. Васильев). Островский с полным основанием мог заметить: «…все театры России живут моим репертуаром».
Аутентичность слова художника (и в узком, и в широком смысле) собственным "корням" и исходящему от них "миросозерцанию" Островский считал обязательным условием подлинной художественности, воплощенной творческим гением. Потому так близки были ему заветы Пушкина, призвавшего "каждого быть самим собой": "Он завещал искренность, самобытность… он дал всякой оригинальности смелость, дал смелость русскому писателю быть русским". С точки зрения Островского, этим предполагался не особый, исключительный смысл, который обретало слово "русский" (по замечанию А. И. Журавлевой, для него данное понятие – "чисто деловое, точное, не нуждающееся ни в похвалах, ни в порицаниях"), а в наибольшей мере соответствующие именнб русскому миросозерцанию общечеловеческая широта, гуманность, корректирующая крайности, "пушкинская" способность "относиться к темам своих произведений прямо, непосредственно", без тенденции и идейно-эстетической предубежденности. "Ведь мы с Вами только двое настоящие народные поэты, – писал он в 1869 г. Н. А. Некрасову, – мы только двое знаем его, умеем любить его и сердцем чувствовать его нужды без кабинетного западничества и без детского славянофильства".
Островский избрал театр как форму, которая, с одной стороны, наиболее полно отвечала природе его таланта: "Согласно понятиям моим об изящном, считаю комедию лучшею формою к достижению нравственных целей и, признавая в себе способность воспроизводить жизнь преимущественно в этой форме, я должен был написать комедию или ничего не написать" (о пьесе "Свои люди – сочтемся"); с другой же – удовлетворяла устремлениям публики самого широкого, демократического толка: "…в настоящее время в умственном развитии средних и низших классов общества наступила пора, когда эстетические удовольствия и преимущественно драматические представления делаются насущной потребностью".
Для разночинной интеллигенции, купцов, ремесленников, средней руки чиновников создавался и репертуар, где воплощалась эстетика, призванная "воспитывать" народ, впечатляя и возвышая его "ясными и сильными" образами. "Наивной и детски увлекающейся" народной "силе" требовалась своя художественность, состоящая в "правдивости", отсутствии "пустого и не драматического красноречия", дельности (в исторической хронике "Козьма Захарыч Минин-Сухорук" публика, по замечанию писателя, "может видеть на деле, как совершилось спасение Руси"), в выразительности зрительного и слухового рядов. По поводу одной из пьес Лопе де Вега, которая не удовлетворила его своим узко национальным, "археологическим" интересом, драматург высказал принципиальное положение своей эстетики: "Натуральность не главное качество, оно достоинство только отрицательное; главное достоинство есть выразительность, экспрессия. Кто же похвалит картину за то, что лица в ней нарисованы натурально, – этого мало, нужно, чтобы они были выразительны…", – иначе говоря, человечески близки и интересны каждому, восприняты "сердцем". В этом смысле эстетическая позиция Островского не менялась, отражая, по наблюдению С. Т. Ваймана, "движение из будущего в настоящее". Идея создания "национального, всероссийского театра" в виде "частных театров", которые должны были распространиться по всей России, высказана уже в самой ранней рецензии Островского на роман Ч. Диккенса "Домби и сын" (1847–1848): чтобы быть "народным писателем", "мало одной любви к родине… надобно еще знать хорошо свой народ, сойтись с ним покороче, сродниться. Самая лучшая школа для художественного таланта есть изучение своей народности, а воспроизведение ее в художественных формах – самое лучшее поприще для творческой деятельности".
Литературные дебюты. 1843–1847
«Прямое и непосредственное» отношение к действительности, воспринятой во взаимодействии отличающих народ «диких» и «хороших инстинктов», отражают самые первые опыты Островского: к ним относятся не только ряд нравоописательных очерков и жанровых сценок в прозе, но и дневниковые записи, которым будущий драматург придавал форму «записок». Уже здесь наблюдаются попытки выстроить сложную структуру текста с участием системы «подставных авторов». Установка на «сказ» требует живой, отвечающей духу народа, колоритной речи – эта речь сама становится предметом изображения, начинает объективироваться в образе до этого не известной читателю, самоценной языковой среды.
Запечатленный мир раннего Островского – это Замоскворечье, где он родился в семье чиновника московского департамента Сената и где нашел опору для дальнейшего духовного и творческого становления. Меняя "роли", молодой писатель становится сначала "издателем", а затем и автором фрагментов "рукописи", найденной словно бы случайно: "наш неизвестный автор… с наивной правдивостью рассказывает о Замоскворечье… Тут все – и сплетни замоскворецкие, и анекдоты, и жизнеописания. Автор описывает Замоскворечье в праздник и в будни, в горе и в радости, описывает, что творится по большим, длинным улицам и по мелким, частным переулочкам… это… рассказы очевидца".
От канонического физиологического очерка, характерного для раннего этапа существования "натуральной школы", "Записки замоскворецкого жителя" (1847) отличает особая теплота тона, нехарактерная для "объективного" бытоописательства в дагерротипных зарисовках купеческого быта, данных, к примеру, А. Лихачевым или П. Вистенгофом. Меняется, хотя и не очень явственно, сама функция изображения раздробленной, "калейдоскопической" действительности: олицетворенная "статистика" быта преображается в одушевленные жизнью картины, увиденные либо в окнах "сереньких домиков", либо в обратной проекции – из них. Точка зрения на мир, в конечном счете, приближается к той, которая устанавливается в пушкинских "Повестях Белкина", "Истории села Горюхина". Она – в явной и скрытой полемике со всевозможными стереотипами, побуждающими видеть в Замоскворечье либо "волшебный мир, населенный сказочными героями тысячи и одной ночи", либо такую неприглядную "натуральность", подозревая которую, публика не захочет "выслушать моего рассказа". Игра с читателем (как позднее со зрителем) означает и ироническое высвечивание узко ограниченного воззрения, сформировавшегося в недрах самой этой публики: оно автоматически превращает реальное многообразие самобытной жизни в "общее место", художественность низводит к риторике. "А еще как увидит тебя какой-нибудь юмористический писатель, – замечает "наивный" повествователь по поводу незначительного чиновника Ивана Ерофеича, – да опишет тебя всего, и физиономию твою опишет, и вицмундир твой, и походку твою, и табакерку твою опишет, да еще и нарисуют тебя в твоей шинели в разных положениях, тогда уж вовсе беда – засмеют совсем".
Перифразы лейтмотивов Гоголя и Достоевского нужны, чтобы "остранить" свободную от "клишированной" обезличенности и заданности тему, избранную автором. Правда в том, что Иван Ерофеич, подобно Самсону Вырину, являет соположение неравноценных (как у всякого человека) разнообразных свойств. Он погибает не от того, что обречен участи "маленького человека", а от того, что "характер слабенек очень", что попалась ему некая Марфа Андревна, мещанка-ростовщица, которая "так и обращалась с ним, как будто его заложил ей кто-нибудь".
Это, однако, не означает, что в "элементарном", по слову Н. Я. Берковского, внутреннем мире таких героев Островского нет невостребованных пока, но словно ждущих своего времени духовных потенций. Они и преображают замоскворецкий мир в "сказку", которая именно в соответствии с присущей этому миру "правдой" является также его законным подлинным обликом. Жесткая социальная детерминированность здесь, как и в последующих произведениях, осложнена внутренним прикосновением к "идеалу", явленному, однако, во всем своем убожестве, "элементарности". Самое его наличие ощущается именно вследствие воспринятой извне деформации – как сопротивляющийся и противостоящий ей, жизненно правомерный компонент. Он прорастает и в "мечтах" недалекого Ивана Ерофеича: "А вот, говорит, я узнаю дело хорошенько, так могу занять место повиднее. Потом, говорит, женюсь. Ты видишь, какой я неряха, никакого у меня порядку нет. Некому меня ни остановить, ни приласкать. Иногда приходят такие мысли, для чего, мол, я живу на свете-то. А будь у меня жена-то молодая, стал бы я ее любить, лелеять, старался бы ей всякое угождение сделать. Да и о себе-то бы лишний раз вспомнил, почаще бы в зеркало взглядывал".
Индивидуальность Островского как художника с самого начала заявила о себе тем, что лишила "натуральность" изображения сентиментального ореола и в то же время сохранила в ней "идеальность", живое присутствие души. Тем самым был поставлен вопрос, вызвавший затем идейные разночтения и полемику вокруг произведений Островского и принятого им творческого метода, – вопрос о значимости незначительного, разрешаемый драматургом иными средствами, чем те, которые выдвинул "сентиментальный натурализм", с одной стороны, и славянофильская этическая концепция, с другой. Только театр, по убеждению молодого писателя, мог во всем объеме воссоздать – в сменяющейся череде "картин" и "сцен" – "одну бесконечную картину" русской жизни (И. А. Гончаров), равную по значимости роману. В ней рутинный, подчас губительный для человека мещанский быт не исключал прорастания в нем же живых и в своем роде немаловажных помыслов. Уже в ранних опытах Островского принципиально уравниваются "маленькие" и "большие" люди, а ирония по отношению к "стране", живущей "по преданию", смягчается умилением по поводу духа соборности, который объединяет в праздник купца-миллионщика и его "последнего работника" ("истинная и смиренная набожность равняет все звания и даже физиономии").
Нравоописательный очерк для Островского – литературная форма, в наибольшей степени лишенная условности, но не исключающая при этом "романной" многоплановости и проистекающих из нее потенциальных конфликтов. Так, в Кузьме, сыне богатого купца Самсона Савича Тупорылова, уже вполне дает себя знать противоречие, которое станет зерном конфликта многих пьес Островского, – противоречие между "силами", "раздирающими" душу чиновника: "одна сила внутренняя, движущая вперед, другая сила внешняя, замоскворецкая, сила косности, онемелости, так сказать стреноживающая человека". Характеристика "замоскворецкой" силы предшествует известной аттестации "темного царства" Н. А. Добролюбовым – и по аналитической зоркости, и по масштабности обобщений: "Я не без основания назвал эту силу замоскворецкой: там, за Москвой-рекой, ее царство, там ее трон. Она-то загоняет человека в каменный дом и запирает за ним железные ворота… Она утучняет человека и заботливой рукой отгоняет ото лба его всякую тревожную мысль, так точно, как мать отгоняет мух от заснувшего ребенка. Она обманщица, она всегда прикидывается "семейным счастьем", и неопытный человек нескоро узнает ее и, пожалуй, позавидует ей. Она изменница: она холит, холит человека, да вдруг так пристукнет, что тот и перекреститься не успеет".
До известной степени в круге тех же противоречий находился и сам Островский. Поступив после окончания Первой московской гимназии на юридическое отделение Московского университета, он в 1843 г. оставил учение, руководимый желанием полностью посвятить себя служению искусству. Сближение с будущими соратниками по сцене и литературному труду: с актером Ф. А. Бурдиным, поэтом и переводчиком Н. Давыдовым; идеи, почерпнутые из лекций Т. Н. Грановского, М. П. Погодина, С. П. Шевырева, из обсуждаемых всюду статей Белинского и Герцена, знаменитых комедий Грибоедова и Гоголя; посещение спектаклей, где блистали М. С. Щепкин и П. С. Мочалов, определяющим образом повлияли на его решение. И хотя мечте Островского не дано было осуществиться сразу, его служба сначала в Московском совестном, а затем в Московском коммерческом суде уже преломлялась им как материал будущей литературной деятельности, как прототипическая основа, имеющая "все задатки" для создания "живых, целиком взятых из жизни типов и положений чисто русских, только нам одним принадлежащих" ("Речь на обеде в честь А. Е. Мартынова", 1859).
Драматургия раннего периода. 1847–1851
Отставка Островского хронологически отмечает завершение первого периода его становления как драматурга – в целом этот период проходит под знаком Гоголя. Наследование гоголевских традиций и принципов «натуральной школы» во многом обусловлено тем, что именно в них Островский нашел убедительное художественное развенчание безжизненных стереотипов, рожденных «риторической» тенденцией в литературе, – инерционных форм классицизма и романтизма. Особенно устойчивые в драматургии, эти формы казались начинающему автору совершенно не соответствующими духу народности, утверждающему простоту и непосредственность выражения. Комическое – как жизнетворный пафос литературы – отождествлялось им с сатирическим, «гоголевским направлением»: «Отличительная черта русского народа, отвращение от всего резко определившегося, от всего специального, личного, эгоистически отторгшегося от общечеловеческого, кладет и на художество особенный характер; назовем его характером обличительным». «Обличение» в данном случае становится художественной необходимостью, поскольку направлено на явления, «слишком узкие» по отношению к «идеалу общечеловеческому». Поэтому оно «заставляет быть нравственнее» и может быть определено как «нравственно-общественное направление» русской литературы.
Эти суждения, отражающие воззрения Островского на рубеже 40–50-х годов, помогают понять гражданский и общечеловеческий диапазон его "картин" и "сцен", локальных "драматических этюдов", в которых проще всего было увидеть "картину нравов". Именно "нетворческий" талант, состоящий в наблюдательности и "способности в общие черты возводить случаи, разбросанные в жизни", усмотрел в сочинениях молодого Островского ("Утро молодого человека", "Неожиданный случай", отрывок из комедии "Бедная невеста") критик "Современника". Он настаивал на том, что, подражая Гоголю, писатель смог передать только то, что пришло к нему извне ("дано ему жизнью"). Поэтому "обстановка" в приемной Семена Парамоныча Недопекина, новоиспеченного аристократа из купцов, в "Утре молодого человека" "спасает" пьесу – колоритом она напоминает гоголевские сцены "Утро делового человека" и "Лакейская", побуждая прочитывать "этюд" Островского в их ключе. Возможно, именно подчеркнутая ориентация автора на Гоголя помешала критику заметить, что герой Островского в своих потенциальных проявлениях не равен "амплуа" промотавшегося купчика, карикатурно подражающего аристократии, невежды и галломана. В традиции жанровых картин П. А. Федотова о таком герое можно было бы сказать: "На брюхе – шелк, а в брюхе – щелк" (подпись художника к картине "Завтрак аристократа"). Островский, однако, расширяет понятие "обстановки" в такой степени, что "типаж" обретает собственную и по-своему неповторимую судьбу: зритель не может не ощущать за внешней бравадой героя скрытую неуверенность, сознание своей "полуобразованности", неловкость не только за настоящее, но и за прошлое, где в купеческих переулках остался и вовсе необразованный – по европейским меркам – но родной, взрастивший его мир.
Если значение "обстановки" не абсолютизировалось Островским в "сценах из купеческого быта" (к ним, прежде всего, относится комедия "Семейная картина" – первая законченная пьес’а молодого драматурга, первоначально называвшаяся "Картина семейного счастья", 1847), то тем более относительно ее значение в era сочинениях с психологической тенденцией – "драматическом этюде" "Неожиданный случай" и комедии "Бедная невеста". "Неожиданный случай" по самой своей структуре восходит к психологическому этюду Н. М. Карамзина "Чувствительный и холодный", имеющему подзаголовок "Два характера". В письме М. П. Погодину, датированном концом апреля 1851 г., драматург пояснил свой замысел: "…Я хотел показать только все отношения, вытекающие из характеров двух лиц, изображенных мною; а так как в моем намерении не было писать комедию, то я и представил их голо, почти без обстановки (отчего и назвал этюдом)", учитывая "шаткие и условные положения", исходя из которых пьесу будет судить критика. Преодоление "типического" за счет внутренних ресурсов персонажей истолковывалось как "бесцветность" и невыразительность, что еще в большей степени было отнесено впоследствии к пятиактной "Бедной невесте".
"Бедная невеста" (1851) – "одно из лучших произведений нашего знаменитого драматурга" (И. С. Тургенев) – в свое время не получила признания критики, и в том числе автора "Записок охотника". Связь этой пьесы с повестями "натуральной школы" (в ее психологическом плане) воспринималась как драматургическая натяжка, охарактеризованная в рецензии Тургенева как "ложно тонкий психологический анализ", который, однако, не в состоянии придать "незначительным" людям и "речам" глубины и значительности ("Видно, тайна "возводить в перл создания" даже самую пошлость не каждому удается…"). Вместе с тем, рецензент проницательно отметил "простоту" содержания, придающую комедии живость и "истинность" (сам Островский подчеркнул как достоинство повести Е. Тур "Ошибка" то, что ее "интрига чрезвычайно проста"); он указал также на впечатляющие глубиной (в перспективе предвещающей чеховскую поэтику) сцены прощания Марьи Андреевы с Меричем и игры в карты с Милашиным: "…Маша, с трудом удерживая рыдания, играет с ним в дураки…". Здесь впервые психологическим центром становится драма героини, предвосхищая "Грозу" и более поздние пьесы Островского, в первую очередь "Бесприданницу". Невеста – "бедная", потому что избрала не суженого себе, а дурного, нелюбимого человека, и "счастливая" развязка не решает вопроса, можно ли оправдать подобный выбор обстоятельствами, участью бесприданницы, которую она раскрывает почти теми же словами, что и впоследствии Лариса: "Иной торгует меня, как вещь какую-нибудь…". Переключение поэтики "Бедной невесты" в морально-психологический план, при сохранении бытового правдоподобия, подчеркивается и обращением к не обладающей яркой колоритностью среде околомещанских слоев дворянской интеллигенции, где действуют разночинцы и мелкие чиновники.